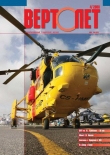Текст книги "Вертолёт, 2008 №2"
Автор книги: Вертолет Журнал
Жанры:
Транспорт и авиация
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 13 страниц)
9 января 2007 года. Непогода по всему маршруту. Сильный штормовой ветер с кучевой и мощно-кучевой облачностью высотой от 0 до 7000 метров. Ждем. По прогнозу, окошко может появиться завтра во второй половине дня, а затем ухудшение погоды на пару дней. Что ж, есть повод поближе познакомиться с местными достопримечательностями и животным миром северного побережья Антарктиды. Есть прекрасная возможность посидеть в дружной компании замечательных российских полярников, работающих на станции Беллинсгаузен. После ужина мы так и сделали. Поделились своими впечатлениями о полетах на Южный полюс, послушали рассказы о житье-бытье на станции.
10 января 2007 года. День начался с анализа метеоусловий. Прогноз оправдывался, вот только на острове очень плотный туман. Ждем. С подъемом солнца туман начал таять, короткие проводы, обмен номерами телефонов, и в 12.30 пара пошла на взлет.
Высота 50 метров, видимость не более 250–300 метров (туман), ветер добавляет 35–40 км/ч. Океан поражает своим спокойствием и почти зеркальной поверхностью. Но наш полет в тумане продолжался не более часа, появилось солнце, и океан начало покачивать, ветер повернул на боковой. Через 3 часа 25 минут была пройдена ровно половина пути. Но чем ближе мы подлетали к южно-американскому материку, тем все больше ветер подворачивал на встречный и усиливался. Снова появилась сплошная облачность с зонами обледенения и высотой до 6000 м. Но все же главным нашим врагом оставался встречный ветер скоростью 15 м/с. Через 30 минут полета уже 22 м/с, потом 29. За 60 километров от Огненной Земли наша путевая скорость составляла 120 км/ч, а брызги от волн, казалось, попадают на стекла вертолетов, летящих на высоте 100 метров. О продолжении визуального полета в условиях сильной болтанки не могло быть и речи, мы решили выходить на безопасный эшелон. Поиски «окна» в практически сплошной облачности дали свои результаты, вертолеты перешли в набор высоты. При истинной скорости полета в наборе 160 км/ч путевая составила целых 20 км/ч! По всем расчетам, до Пунта-Аренаса нам не долететь, ведь на исходе был седьмой час полета. Но с набором высоты ветровая картина изменилась. Ветер снова подвернул на боковой и уменьшился. Я опять зашуршал навигационной линейкой, которую за последние 4 часа не выпускал из рук: «Хватает, летим на Пунта-Аренас».
Над Магеллановым проливом облачность стала уменьшаться и за 70 километров до пункта посадки составила 4–5 октантов. Вот уже виден на противоположном берегу пролива город, а севернее – взлетно-посадочная полоса аэродрома. Заход с пролива, посадка. 7 часов 45 минут полета, и два вертолета садятся на взлетно-посадочную полосу. Возле Ан-124 группа людей. «Дождались», – сказал бортовой техник. «Нет, долетели», – ответил командир.
12 января 2007 года. Пунта-Аренас. Вертолеты погрузили в громадный «Руслан», и он отправился через Атлантический океан и экватор в Москву.


От редакции. Директор Федеральной службы безопасности России Николай Патрушев сказал, выступая перед полярниками и летчиками на станции Беллинсгаузен: «Престиж нашей страны зависит в том числе и от того, насколько активно Россия участвует в полярных исследованиях. Мы надеемся, что благодаря обширным научным программам Международного полярного года Россия будет расширять свое присутствие и в Арктике, и в Антарктиде».
От себя же добавим, что престиж нашей страны зависит и от того, насколько надежной авиационной техникой она располагает. Уникальный перелет на Южный полюс вертолетов Ми-8 в очередной раз продемонстрировал всему миру, что Россия остается вертолетной державой, а летчики – ее особой гордостью.
Т В О Р Ч Е С Т В О
Проверено на себе

В.А. Митин
Заместитель директора по инженерно-авиационной службе Ухтинского филиала «Газпромавиа» Владимир Анатольевич Митин – наш постоянный читатель и автор. Надо сказать, очень взыскательный читатель и очень интересный автор. В первый раз мы опубликовали рассказ Владимира Анатольевича в четвертом номере журнала за 1999 год, с тех пор участие Митина в журнале стало практически постоянным. Чем привлекает к себе все, что выходит из-под его пера? Правдой жизни, доскональным знанием материала, юмором, точным и сочным языком.
И еще одним, пожалуй, самым главным, – любовью к вертолетам, профессии, людям, с которыми довелось работать. Прежде чем вы начнете читать еще один рассказ нашего ухтинского корреспондента, познакомьтесь с ним поближе. Биография Владимира Митина – это нелегкая, порой опасная работа, потери и обретения, калейдоскоп людей и событий. Впрочем, предоставим и тут слово ему самому.

Миг-10К
В 1969 году я окончил Рижский институт инженеров гражданской авиации. Направили работать в Ухту. Начал сменным инженером на участке Ми-6. Менялись места, где мы работали, – Вуктыл, Надым, Усинск, Ямал. Через три года я был уже начальником участка, цеха, затем начальником производства АТБ. «Прогнал» программы получения Ми-8Т, Ми-6А, Ми-10К. В 1980 году прошел переподготовку в академии ГА. В 80-е годы наша АТБ вошла в десятку лучших в СССР, я много работал над внедрением повременносдельной оплаты труда. Получилось: простой на техобслуживании сократился в два раза, соответственно в два раза поднялась производительность труда.
В 1988 году осваивал Ми-26Т. В 19901991 участвовал в перегоне этого вертолета из Ухты во Владивосток, далее через Японию и Австралию в Папуа – Новую Гвинею, где нам предстояло работать. По прилету домой 30 декабря 1991 года узнал, что начальники производства новой России не нужны. Трудоустроился в родную АТБ сменным инженером. Начал все сначала. Много работал за границей: в 1995 году в Гималаях, 1996 – на Мальдивских островах. В феврале 1998 предложили возглавить ИАС вновь образованного Ухтинского филиала компании «Газпромавиа». Начали с двух неказистых вертолетов Ми-2. Сегодня мы обросли людьми, оборудованием, вертолетами, и донесения о работе идут уже с десятка точек: проводим мониторинг около 1500 км газовых магистралей.
В свои 60 с лишним лет могу, оглянувшись на пройденный путь, сказать: жизнь вроде удалась. Работал на самых больших в мире вертолетах, спасал их и восстанавливал (на моем счету 25 эвакуаций). Работал на Крайнем Севере и на трех океанах. Дважды, при социализме и при капитализме, прошел путь от рядового инженера до руководителя инженерной службы. Горел в воздухе, «сыпался» без двигателей, замерзал – уцелел сам и людей своих сберег. Издал книгу, вырастил детей. Мне очень везло на встречи с замечательными людьми. Словом, вполне обычная биография, такая же, как у большинства моих товарищей по корпусу инженеров от эксплуатации российских вертолетов.
Мне довелось принять участие в освоении вертолетов многих типов. Мальчишкой после института я стал работать инженером на Ми-8, до сих пор ценю доверие, которое мне тогда оказали. Дальше пошли Ми-6А, Ми-10К и самая большая и последняя вертолетная «любовь» – Ми-26Т.
Вертолет Ми-10К в этом списке стоит особняком. Машины первой лидерной серии были «поделены» в пропорции 1:2 между Ухтой и Тюменью, и по мере наработки часов налета они все чаще преподносили нам «сюрпризы». Иногда даже опускались руки, казалось, что на вертолетах этого типа пора ставить крест. Нагрузки на Ми-10К, способном тащить на внешней подвеске 11 тонн груза, были значительно больше и распределялись несколько иначе, чем «на длинноногом» варианте вертолета. Но надо отдать должное московским конструкторам и ростовским изготовителям: наши замечания принимались к сведению, вертолеты проходили кардинальную доработку и продолжали летать до. появления очередной «болячки». Из всех выявленных в процессе эксплуатационных испытаний недостатков один и очень существенный недостаток остался вплоть до списания этих машин: повышенная вибрация, особенно на посадке. Дело доходило до того, что в полете вылетали узлы крепления приборных досок. (Ходил даже такой анекдот: экипаж Ми-10К после выполнения монтажа устало покидает «борт», ребята выплевывают на летное поле зубные пломбы.).
С каждой новой машиной мы качественно поднимались в организации обслуживания и летной работы. Количество монтажей (а это самый опасный вид вертолетных работ), выполненных Ми-10 на территории СССР и за рубежом, исчисляется тысячами. С 1976 года – начало эксплуатации вертолета этого типа в Ухте – и по сегодняшний день мы не потеряли ни одного вертолета (постучите по дереву). Значит, принципы эксплуатации, заложенные в начале, оказались правильными. Но трагические ситуации с Ми-10К все же случались. Расскажу о судьбе только одного вертолета Ми-10К с бортовым номером 04135.
Январь 1977 года. Пришел приказ лететь на Самоцветный: Ми-10К, работавший на прокладке первой нитки газопровода из Тюмени в Европу, обломал все четыре лопасти и ждал помощи. На площадке в горах, где вертолет должен был забрать груз, стоял трактор, который Ми-10 и задел лопастями при подъеме (сработал «закон»: если на аэродроме есть столб, то найдется и летательный аппарат, который в него врежется). Произошло это потому, что обогрев кабины на Ми-10К был явно слабоват, стекла замерзли, обзор из кабины резко снизился. Ситуация, конечно, создалась аварийная. Только мгновенная реакция экипажа не дала вертолету завалиться на бок и загореться. Этот случай заставил остановить работу всего парка вертолетов– кранов. На них установили специальные керосиновые обогреватели. Стало вроде бы теплее и светлее. Но для «борта» 04135 это было только первым испытанием. С машиной начала твориться какая-то чертовщина. Опуская мелочевку, расскажу только о «крупных» событиях.
Представители завода-изготовителя делали необходимые доработки прямо на месте эксплуатации вертолета. Аккумуляторы сняты с борта, снята и входная дверь. Все ушли на обед. Один из заводских инженеров вернулся раньше других и попросил дать на борт электропитание. Механик «подоткнул» аккумулятор, грохнул выстрел, и обливающийся кровью доработчик упал у вертолета: для аварийных ситуаций на больших вертолетах есть система отстрела дверей, в этом же случае двери были уже сняты и штырь из механизма сброса вылетел наружу и нашел свою жертву. Человек получил ранение в горло и чудом остался жив.
20 апреля 1981 года. Площадка Велью. При укладке груза оторвался трос обвязки. Основной вертолетный стальной канат вместе со стропами летит в несущий винт диаметром 35 метров. В это время командир вертолета Юрий Русинов смотрел на землю, высунувшись в блистер. Тросы, подхваченные на лету огромными лопастями, прошли по блистеру: осколки разбитого стекла буквально ослепили всех сидящих в кабине. Машину и экипаж спас проверяющий Алексей Михайлович Поздняков, единственный, кто был в темных очках! Он занял место второго пилота, «подхватил» уже заваливающийся вертолет и посадил его.
30 сентября 1982 года. Отказ двигателя в районе Саратова.
8 июня 1983 года. В Сыктывкаре запускают двигатели злополучного Ми-10К с заглушками во входных тоннелях.
26 апреля 1984 года. Воркута. Раскрутка двигателя. Будет ли этому конец?

Транспортировка Ми-6 вертолетом Ми-10К

3 ноября 1985 года. Пенза. Отказ двигателя. Пришлось менять и главный редуктор в чистом поле по колено в грязи.
Весна 1989 года. «Борт» 04135 при выруливании столкнулся с вертолетом Ми-6, при этом в очередной раз лишился лопастей хвостового винта. Продолжать, пожалуй, не стоит. Почти все неприятности, которые случились с «десятками», пришлись именно на этот «борт».
В 1988 году решался вопрос о нашем первом долгосрочном вертолетном контракте за рубежом. Собирались работать в ГДР. И не мудрствуя лукаво, решили направить туда «борт» 04135. Узнав об этом решении, я стал действовать: колотил во все двери, обзванивал самое высокое начальство. Убеждал, что «нехороший» вертолет не стоит посылать в такую ответственную командировку. Но бесполезно. Вертолет все же улетел в Германию. Очень скоро и мне пришлось отправиться за ним следом.
Наш вертолет работал на химическом комбинате «Шварце Пумпе». Российской машине доверили самую сложную работу – монтаж строительных конструкций. За летный день выполнялось по 90 подъемов. Помните о вибрации, о которой я уже упоминал? На этот раз от тряски противопожарные баллоны, стоявшие в редукторном отсеке, пробили потолок грузовой кабины. Вертолет вернули на базу. Радости экипажа не было предела.
Однажды, будучи в Ростове на технической конференции, я рассказал о злоключениях «борта»? 04135 представителю Министерства гражданской авиации на «Роствертоле» Владимиру Яковлевичу Муравьеву. Тот отреагировал несколько неожиданно:
– Меня это и не удивляет. Еще на заводских испытаниях этот вертолет «дал всем прикурить». Посчитай-ка сумму цифр бортового номера, 13 получается!
И тут до меня дошло! Ларчик открывался совсем просто. Можно смеяться или нет над приметами и суевериями, но что-то в них, безусловно, есть.
Исстари солдат никогда третьим не прикуривает от одной спички – быть убитым. На флоте корабли редко выходят в море 13 числа. На флоте воздушном и старые, и молодые летчики на первый утренний вылет являются небритыми. С утра побрился – вечером разбился – такая вот примета. Зная все это, время от времени все же «включаю дурака» и начинаю отчитывать кого-нибудь из молодых.
– Да знаешь, Анатольич, поспать с утра хочется, да и привык бриться с вечера, чтобы жену ненароком не поколоть щетиной.
– Какая жена? Ты четвертый месяц в командировке. Посмотри на своего бортмеханика. Тоже морда небритая. Завтра в воздух не выпущу.
Но наступает завтра, и повторяется то же самое. И так до выходного или до положенного нормой налета часов. В выходной все с самого утра выбриты до синевы, и это несмотря на то, что накануне позволили себе «расслабиться».
Из лексикона летчиков и всех, кто связан с авиацией, слово «последний» изгнано навсегда, его функцию успешно заменяет слово «крайний».
В российской авиации воздушным судам присваиваются пятизначные бортовые номера. Специалист по первым двум цифрам может определить, какому типу ВС принадлежит номер. Вспоминаю лето 1996 года, командировку в далекой стране. Рядом с нашей стоянкой был большой ангар для «боингов», в котором ремонтировались вертолеты еще одной российской авиакомпании. Ремонт выполняла выездная бригада Омского ремзавода. Из России пришел с запчастями самолет Ан-12. Я увидел бортовой номер 11327 и вздрогнул. До середины семидесятых годов первые две единицы указывали на то, что перед вами вертолет Ми-6. Машин с двумя единицами и тройкой за ними было много, и почти все они не миновали летных происшествий и катастроф. Как только «опознавательные» цифры в бортовых номерах Ми-6 начали менять на 21, количество происшествий с этими машинами пошло на убыль, честное слово! Потом изменили и три следующие цифры: число 13 исчезло и вместе с единицами ушло в обозначение Ан-12.

«Кладбище» списанной техники. Ухтинский аэродром, 90-е годы
Под бортовым номером 11327 когда-то летал наш ухтинский Ми-6, да отлетался. Об этом я и сообщил омичам, но мужики надо мной посмеялись. Выкатили они на испытания свой вертолет Ми-8. Красивая машина получилась. Бегают с видеокамерами, фотоаппаратами щелкают.
– Мужики, что вы делаете? Кто же перед полетом, да еще испытательным, машину снимает? После полета снимайте, сколько хотите, а сейчас не рекомендуется!
– Тебя, Володя, послушаешь, так скоро ни одной целой машины не останется. Все перебьем.
– Ну как хотите. Мое дело предупредить.
Вскоре омичи улетели, а через несколько дней их вертолет при посадке упал на взлетную полосу аэродрома. Просил же их – не послушались и еще посмеялись.
В конце мая 1996 года сгорел в районе Нефтеюганска вертолет Ми-6 с бортовым номером 21878. Это была очень дорогая для меня машина. Ее уже однажды били, в 1978 году, и об этом я написал в свое время очерк. Перед отлетом в дальнюю и долгую командировку еще раз редактировал написанное, готовил к печати книгу. Хотел снять вертолет на цветную пленку, но не получилось. Пленка в магазинах была – денег не было: пошли задержки с зарплатой. И было предчувствие, что нам с этим вертолетом уже не встретиться. Так оно и вышло.
На смену сгоревшей машине пришел последний ухтинский Ми-6 под бортовым номером 21184. Но и он долго не летал. Приведу короткий рассказ авиатехника Анатолия Богдашова:
«Летим мы. Высота метров 200. И тут выключается один двигатель. В главном редукторе что-то гремит. Мы все насторожились. Машина на снижение идет. Летчики площадку для посадки ищут. И на высоте метров пятьдесят «засвистели» – выключился второй двигатель. Мы в грузовой кабине были, ухватились, кто за что успел, двери отстреливать стали. И тут ткнулись в землю. По кабине, как в немом кино, летают заглушки, колодки, всякий хлам, успевай только поворачиваться. В пилотской кабине кое-кому крепко досталось, а мы в грузовой вроде бы все целы остались. Впрочем приложились все же крепко: пришлось в санчасть обращаться. И все это случилось 13 июля!».
Оставалось несколько дней до нового 1997 года. В почтовом ящике среди прочей корреспонденции лежало письмо от моего хорошего товарища из Омска, одного из тех, кто ремонтировал когда-то Ми-8, о котором я уже рассказывал. Читаю письмо: «А ты оказался прав, когда говорил, что бортовой номер у нашего Ан-12 несчастливый, разбили его, нарушили центровку в полете и разбили. Слава богу, экипаж остался жив».
Откладываю в задумчивости письмо. На глаза попадается какой-то авиационный журнал, листаю. И сразу натыкаюсь на фразу: «К сожалению, испытания вертолетов сопровождались трагедиями. 13 декабря 1948 года на вертолете Б-11 разбился летчик-испытатель К.И. Пономарев».
И почему люди верят, что красный закат – к ветру, большая луна на чистом небе – к морозу, и называют все это приметами, а магию цифр и слов, последовательность действий и поступков (иногда весьма странную) именуют предрассудками? Где граница между приметой и предрассудком? Да и есть ли она? На своем жизненном опыте я убедился, что нашим авиационным «предрассудкам» верить можно. А вы как думаете?
Фотосалон
Умение видеть
Настоящие фотографы подобны художникам – и те, и другие видят свои «модели» по-своему, умеют показать нам объект в самом эффектном ракурсе. Фотографы выходят на охоту за интересными сюжетами, стараются застать событие в его кульминации. Снимать людей трудно, снимать технику, в нашем случае вертолетную, еще сложнее, ей не прикажешь повернуться куда надо или замереть на месте, в зависимости от задумки фотографа. Однако некоторым все же удается поймать нужный момент и запечатлеть его на пленке. Журналу «Вертолет» повезло: с самого начала мы сотрудничаем именно с такими людьми. Главное достоинство наших фотокорреспондентов – умный и живой взгляд, дающий пищу воображению, и любовь к вертолетам, которую они не пытаются скрыть. В юбилейном выпуске журнала мы решили расширить рамки нашего обычного одностраничного фотосалона: представить вам наших авторов и показать их новые (а также наиболее запомнившиеся старые) работы.
Валерий Соломахин

Ведущий инженер службы маркетинга КВЗ Валерий Соломахин родился в семье кадрового военного в Петропавловске-Камчатском. Школу закончил в Севастополе, но ни военным, ни моряком не стал. В 1980 году поступил в Казанский авиационный институт, а после его окончания пришел на Казанский вертолетный завод. Четыре года проработал в отделе эксплуатации и обслуживания вертолетов, а когда на заводе создали отдел маркетинга, решил попробовать себя в новом качестве. Фотоаппарат взял в руки сначала по необходимости (трудно было найти хорошего фотографа, чтобы показать продукцию завода во всей ее красе), а потом уже и не представлял своей работы без фотокамеры. С ней он объездил почти весь мир (вертолеты, произведенные на Казанском вертолетном заводе, эксплуатируются в более чем 80 странах!). Читатели «Вертолета» знают Валерия Соломахина как автора лучших журнальных обложек.









Алан Норрис

Фотографии, которые вы видите, сделаны англичанином Аланом Норрисом. С этим неординарным человеком журнал связывают творческие и, надеемся, дружеские узы: на протяжении последних лет мистер Норрис является нашим постоянным автором.
Родился Алан Норрис в Лондоне. Получил инженерное образование, не связанное с авиацией. Интерес к небу, летательным аппаратам «проснулся» у него в 60-е годы, когда Алан в первый раз посетил авиашоу. Чуть позже пришло увлечение вертолетами: фирма, где служил Норрис, располагалась в Лондоне недалеко от хелипорта Беттерси, и зрелище взлетающих и садящихся винтокрылых машин не оставило его равнодушным.
В 1971 году Норрис познакомился с писателем и историком авиации Элфаном ап Рисом, поставившим перед собой цель собрать коллекцию документов и артефактов, чтобы сохранить вертолетную историю Великобритании. Эта встреча стала для Алана определяющей: он связал свою дальнейшую жизнь с работой в одном из крупнейших специализированных вертолетных музеев мира.
В течение десяти лет Норрис был менеджером по реставрации, контролировал работу волонтеров, которые приходили в музей в свободное время, чтобы помочь в восстановлении винтокрылой техники. Алан был также ответственным за транспортировку некоторых вертолетов в Англию, в том числе Ми-1 и Ми-24, для пополнения коллекции вертолетного музея.
Работая в музее, Норрис начал пробовать свои силы в журналистике. И в настоящее время репортажи и снимки Алана Норриса широко публикуются в самых известных и авторитетных авиационных изданиях мира. В его фотоархиве можно найти самые ранние черно-белые фотографии вертолетов и снимки, сделанные современными цифровыми фото– и видеокамерами. На них запечатлены как военные, так и гражданские вертолеты.
Алан увлекается и вертолетным спортом. Он часто выступает в качестве судьи на соревнованиях, организованных Международной авиационной федерацией (FAI). В составе британской национальной команды принимал участие в пяти мировых чемпионатах по вертолетному спорту (в 2002 году был менеджером сборной Англии), участвовал в организации двух британских национальных чемпионатов. Алан Норрис был членом судейской коллегии соревнований на кубок Миля в Москве, вертолетных соревнований в Испании, Германии, Франции.










Тина Шапошникова

Старший менеджер по рекламе и связям с прессой ОАО «Роствертол» Тина Шапошникова – настоящий фотохудожник. Каждый запечатленный ею вертолет – всегда больше, чем просто машина: у него есть свое лицо и характер. Не случайно один из ее снимков был помещен на обложку авторитетного международного справочника по авиации Jane's All the World's Aircraft. Так что можно считать, что из любителей фотоискусства Тина Шапошникова уже перешла в профессионалы.
Родилась Тина Витальевна в Ростове-на-Дону. После окончания школы год проработала на Ростовском вертолетном заводе. Затем поступила на филологический факультет университета. Вышла замуж (муж работает на «Роствертоле» начальником цеха), уехала с мужем в Эфиопию, где эксплуатировались вертолеты, произведенные на заводе. Через год семья вернулась в Ростов– на-Дону и дружно пришла на завод. Тина Шапошникова стала работать в отделе экспортных поставок. Затем была учеба в Московской академии международного бизнеса, где Тина Витальевна постигала основы рекламы и маркетинга. После окончания академии стала работать в организованной на заводе службе внешнеэкономической деятельности. Сфера ее обязанностей – подготовка рекламных материалов о заводе и связь с прессой, сфера увлечений, думаем, достаточно обширная, но фотография точно в их числе. И мы, издательство «Вертолет», очень этому рады!
На представленном выше снимке Тина Шапошникова запечатлена в 2007 году в компании президента Венесуэлы Уго Чавеса.










Калейдоскоп
На страницах журнала «Вертолет» за десять лет его существования опубликовано очень много замечательных фотографий. Их авторы – конструкторы, инженеры, летчики, чья жизнь крепко связана с вертолетами, и люди, просто влюбленные в винтокрылую авиацию. Вертолеты, запечатленные ими на снимках, работают в самых разных уголках страны и мира: строят, перевозят, тушат пожары, спасают людей, несут воинскую службу, завоевывают места на спортивных соревнованиях, участвуют в самых престижных авиасалонах. К сожалению, рассказать о каждом из наших фотокорреспондентов и показать все их работы сразу невозможно даже в рамках более толстого, чем обычно журнала. Но мы точно знаем, что задел на хороший фотоальбом у нас уже есть!

Д. Марселино

А. Михеев

Г. Милуцкий

А. Артюх

П. Бутовский

О. Рогозин

С. Скрынников

Ф. Бескоровайный