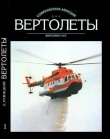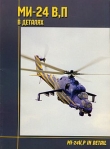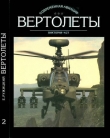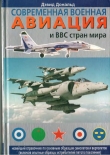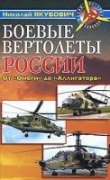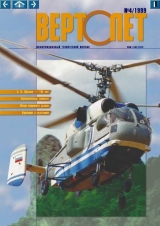
Текст книги "Вертолёт 1999 04"
Автор книги: Вертолет Журнал
Жанры:
Транспорт и авиация
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 9 страниц)
ВЕРТОЛЁТ 1999 04
Российский информационным технический журнал
№ 4 (7) / 1999
«Товарищу Милю – вертолету и человеку…»

XX век подарил миру и прежде всего России гениального и Генерального конструктора – Михаила Леонтьевича Миля. Последний год XX века принес с собой и очередной юбилей конструктора: М.Л. Милю исполнилось 90 лет со дня рождения.
«Я не пишу стихов. Они, как повесть, пишут меня», – сказал поэт.
Но если поэта «пишут» стихи, то биографию авиаконструктора – его машины. Какую машину можно назвать самым главным творением Миля, своеобразным памятником конструктору, созданным им самим? «Рабочую лошадку» Ми-8 – это несомненно! Со времени своего создания в первой половине шестидесятых годов и по сей день вертолет этот – своеобразная визитная карточка советского, а теперь и российского вертолетостроения.
Ми-8 – мировой рекордсмен по числу модификаций и вариантов – их насчитывается больше сотни! По числу построенных машин (около 11 тысяч!) Ми-8 не имеет аналогов среди аппаратов своего класса. Столь же уникальными стали Ми-8 и по распространенности в мире. Нет, наверное, страны, где не эксплуатировался бы знаменитый вертолет, рожденный гением М.Л. Миля.
На вертолетах Миля было установлено свыше 60 мировых рекордов. За вклад в развитие советской авиации М.Л. Миль был удостоен звания Героя Социалистического Труда, награжден тремя орденами Ленина, орденами Отечественной войны II степени, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, медалями, получил звание лауреата Государственной премии СССР (1958) и Ленинской премии (1968).
И все же самая большая награда конструктору – машина в небе, над которой не властно время…
СОБЫТИЕ
Этапы большого пути

Б.Н. Юрьев
В ноябре 1999 года исполнилось 110 лет со дня рождения выдающегося русского ученого, основоположника вертолетостроения, академика Бориса Николаевича Юрьева. Его вклад в развитие отечественной авиационной науки трудно переоценить. Автор фундаментальных работ в области вертолетостроения, Б.Н. Юрьев достиг не менее выдающихся успехов и в области практической аэродинамики, теории воздушного винта. Не одно поколение авиационных конструкторов считает себя его учениками и последователями.
Родился Б.Н. Юрьев 10 ноября 1889 года в семье потомственного офицера-артиллериста. Высшее образование получил в Московском императорском техническом училище. Именно здесь, в студенческом воздухоплавательном кружке, которым руководил выдающийся русский ученый Николай Егорович Жуковский, Юрьев приступает к главному делу своей жизни – созданию вертолета.
Прежде всего Б.Н. Юрьев столкнулся с необходимостью расчета несущего винта. Совместно с Г.Х. Сабининым он разрабатывает новую теорию, преимущества которой заключались в простоте, наглядности и возможности учета воздействия на струю винта сил профильного сопротивления лопасти. Однако теория не позволяла учитывать возмущающее воздействие винта на окружающую среду. Эта проблема была разрешена Н.Е. Жуковским в вихревой теории. В дальнейшем Б.Н. Юрьев много работал над методическим усовершенствованием формул и выводов своего учителя.
Новая теория воздушного винта позволяла рассчитывать несущий винт для вертолета, оставляя невыясненным вопрос о его рациональной схеме. Существовавшие тогда схемы вертолета были, в основном, двухвинтовыми (в том числе соосными) и многовинтовыми.
Именно в это время Б.Н. Юрьев начинает работать над одновинтовой схемой вертолета. В первоначальном варианте реактивный момент вращения подъемного винта уравновешивался моментом сил двух малых винтов. 26 сентября 1910 года Б.Н. Юрьев получил в патентном бюро Департамента торговли и мануфактур охранную грамоту № 45212: «Предмет привилегии – одновинтовой геликоптер, отличающийся тем, что момент вращения, произведенный подъемным винтом, уничтожается моментом сил двух малых винтов, действующих на концах некоторого плеча, перпендикулярного к оси большого винта…»
Но тем не менее, и в данном виде схема оставалась тяжелой. В ходе дальнейших работ Б.Н. Юрьев пришел к новому варианту уравновешивания реактивного момента с помощью одного рулевого (малого) винта, установленного на хвостовой балке. Это сделало конструкцию еще более компактной, уменьшило лобовое сопротивление и вес машины. Однако малый винт при этом давал не только момент, но и тягу. Вопрос о неуравновешенной тяге при неподвижном висении вертолета решался некоторым наклоном оси несущего винта в сторону, противоположную силе тяги малого винта. Спустя 60 лет подобная схема парирования тяги рулевого винта была реализована на боевом вертолете Ми-24. Предложенная же студентом Юрьевым одновинтовая схема использована при создании 90 % вертолетов во всем мире!
В начале 1911 года Б.Н. Юрьев начинает работу над устройством, обессмертившим его имя – автоматом перекоса. Дело в том, что управление одновинтовым вертолетом осуществлялось путем изменения тяги рулевых винтов. Схема управления при этом получалась весьма сложной и громоздкой. Предлагаемый Юрьевым автомат перекоса выполнял эту задачу путем поворота лопасти относительно ее оси в процессе одного оборота несущего винта. Изменением угла установки изменялась тяга, которая уменьшалась с одной стороны ометаемого лопастями диска несущего винта и увеличивалась с другой. Таким образом, несущий винт, а затем и весь вертолет наклонялся в нужную сторону. После изобретения автомата перекоса одновинтовая схема вертолета получила логическую завершенность.
В апреле 1911 года в Петербурге состоялся I Всероссийский воздухоплавательный съезд, на котором с докладом «Критика прежних систем геликоптеров и описание нового типа геликоптера системы автора» с большим успехом выступил Б.Н. Юрьев.
В том же году члены воздухоплавательного кружка приступили к постройке вертолета. Недостаток финансирования привел к тому, что была построена лишь действующая модель. Замена хромоникелевого вала, который предполагался по проекту, на цельнотянутую стальную трубу привела к поломке модели уже на одном из первых испытаний. Не хватало средств и на изготовление автомата перекоса. Но самое главное, вместо мотора «Гиом» мощностью 50 л.с. пришлось установить менее мощный мотор «Анзани» всего в 25 л.с., что было явно недостаточно для совершения полетов. Но тем не менее, вертолет был построен и показан в марте 1921 года на Второй международной выставке воздухоплавания и автомобилизма. Студенту Юрьеву была присуждена малая золотая медаль «За прекрасную теоретическую разработку проекта геликоптера».
Период расцвета таланта молодого ученого совпал с самым ярким временем в истории отечественной авиационной науки. В начале века русские ученые во главе с Н.Е. Жуковским занимали передовые позиции в мире в области аэродинамики, что позволило заговорить о русской школе теоретической аэродинамики. «Птенцами гнезда Жуковского» были такие выдающиеся ученые и конструкторы, как А.Н. Туполев, В.П. Ветчинкин, Б.С. Стечкин, А.А. Архангельский, А.А. Микулин. В одном ряду с этими именами по праву стоит и имя Б.Н. Юрьева.
В начале Первой мировой войны прапорщик запаса Б.Н. Юрьев был призван в действующую армию. Вскоре после призыва он получил приказ отправиться в г. Яблону, где размещалась эскадра тяжелых бомбардировщиков «Илья Муромец». Здесь произошла его встреча с И.И. Сикорским. Лишь в 1918 году Юрьев получил возможность продолжить образование. 5 мая 1919 года он защитил дипломный проект на тему «Четырехмоторный тяжелый самолет». После окончания МВТУ молодой ученый был назначен заведующим аэродинамической лабораторией училища, а когда была создана комиссия по тяжелой авиации (КОМТА) и началось проектирование нового самолета, он возглавил конструкторское бюро.
В 1921 году не стало Николая Егоровича Жуковского. Вершиной его практической деятельности явилось создание Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ). Здесь и начал работать начальником экспериментального аэродинамического отдела Б.Н Юрьев. Он занимался изучением основных режимов работы вертолета. В 1926 году при отделе организуется специальная вертолетная группа, в задачи которой входят теоретические и экспериментальные исследования, связанные с проектированием и постройкой вертолетов. В основу первого отечественного опытного вертолета была положена одновинтовая схема Б.Н. Юрьева.
Наибольший интерес вызывал автомат перекоса системы Юрьева. Опыта постройки такого агрегата в мировой практике еще не было. В ЦАГИ перед зданием аэродинамической лаборатории был устроен специальный испытательный стенд, своего рода аэродинамические весы, на которых был установлен несущий винт 6-метрового диаметра, приводившийся в действие мотором. Система управления включала автомат перекоса и регулятор. На стенде можно было замерять тягу несущего винта, потребляемую им мощность, изменять в широком диапазоне угол установки лопастей винта и его обороты. Испытания подобного масштаба в мире проводились впервые.
В процессе длительных экспериментальных исследований на натурном стенде были изучены работа автомата перекоса, поведение трансмиссии, система запуска двигателя, сняты полные характеристики работы винта вблизи земли. Теперь можно было приступать к постройке первого вертолета, известного как вертолет ЦАГИ 1-ЭА (первый экспериментальный аппарат). Он начал летать в 1930 году, а 16 августа 1932 года на нем был установлен мировой рекорд высоты – 605 м, что в 34 раза превосходило официально утвержденный рекорд, принадлежавший итальянскому вертолету «Асканио»!
В 1935 году в «Трудах Военно-воздушной академии им. Н.Е. Жуковского» вышла работа Б.Н. Юрьева «Геликоптеры», в которой он подытожил опыт, накопленный в ЦАГИ, и рассмотрел проблемы, возникающие при создании вертолета. Речь шла, прежде всего, о получении достаточной подъемной силы, или грузоподъемности, о сообщении вертолету поступательной горизонтальной скорости, об управляемости и безопасном спуске в случае остановки двигателя. В этой работе Юрьев писал и о важности выбора рациональной схемы вертолета для борьбы с вращающим моментом. Анализ отечественного и зарубежного опыта создания вертолетов позволил автору определить пути решения сложнейших вопросов экспериментальной аэродинамики, в том числе проблемы работы несущего винта на режиме косой обдувки (при поступательном полете вертолета).
По мнению Б.Н. Юрьева, в 1932 году Советский Союз по крайней мере на 10 лет опережал западный мир в области вертолетостроения. Вертолет ЦАГИ 1-ЭА побил все имеющиеся в то время рекорды летательных аппаратов этого типа. Но дальнейшая судьба отечественного вертолетостроения была трагичной. Репрессии, обрушившиеся на страну в конце тридцатых годов, не обошли стороной и ЦАГИ. Развернувшиеся в это время исследования по автожирам также основательно потеснили работы по вертолетам. В этих условиях Б.Н. Юрьев приложил титанические усилия по сохранению работ вертолетной тематики. В начале 1940 года он создал при МАИ Особое конструкторское бюро по вертолетам и пригласил на работу уцелевших в репрессиях инженеров-вертолетчиков. Поставив перед собой цель создания скоростного вертолета, конструкторы решили строить машину по двухвинтовой поперечной схеме. Первый опытный образец двухвинтового вертолета «Омега» конструкции И.П. Братухина был рассмотрен и принят 27 июля 1940 года. Начавшаяся война приостановила работы. Тем не менее, модифицированный вертолет был построен в сентябре 1944 года. Он обладал скоростью 150 км/ч, дальностью полета 250 км и имел практический потолок 3000 м. Вертолет «Омега» участвовал в воздушном параде 1946 года в Тушино. В январе 46-го Б.Н. Юрьев и И.П. Братухин становятся лауреатами Сталинской премии.
В 40-е годы начался новый этап вертолетостроения – создание специализированных вертолетных конструкторских бюро, которые, используя почти 30-летнюю теоретическую, экспериментальную и инженерноконструкторскую практику академика Б.Н. Юрьева, приступили к созданию отечественных образцов вертолетов. В 1945 году образуется ОКБ Н.И. Камова, в 1947 – ОКБ М.Л. Миля. В 1945 году к проектированию своего первого вертолета соосной схемы приступает ОКБ А.С. Яковлева.
Дальнейшая работа Б.Н. Юрьева в области вертолетостроения связана с созданием кафедры винтов и винтокрылых машин с конструкторским уклоном в МАИ и кафедры винтов и винтокрылых машин с экспериментальным уклоном в ВВИА им. Н.Е. Жуковского. Учениками Б.Н. Юрьева были М.Н. Тищенко, возглавлявший ОКБ им. Миля после смерти его основателя, С.В. Михеев, Генеральный конструктор ОКБ им. Камова. Не одно поколение вертолетостроителей училось по книге Б.Н. Юрьева «Аэродинамический расчет вертолетов».
Но интересы ученого не ограничивались проблемами вертолетостроения. Борис Николаевич внес большой вклад в развитие аэродинамики. В области экспериментальной аэродинамики им разработан ряд оригинальных методов, прочно вошедших в практику научных исследований и преподавания в высших авиационных учебных заведениях. В 1928 году Б.Н. Юрьев и Н.П. Лесникова выпускают книгу «Аэродинамические исследования», где впервые сделана попытка систематизации работ в области аэродинамического эксперимента.
Велика заслуга Б.Н. Юрьева в постройке и наладке аэродинамических научных лабораторий. Разработка проектов некоторых лабораторий и их строительство осуществлялись при его активном и направляющем участии. К их числу относятся аэродинамические лаборатории МВТУ, ЦАГИ, Военно-воздушной академии имени Н.Е. Жуковского, Московского авиационного института. Чрезвычайно ценными были консультации Бориса Николаевича по строительству Казанской аэродинамической лаборатории.
В 1950 году на Б.Н. Юрьева было возложено руководство лабораторией прикладной аэродинамики Института механики АН СССР. Важное место в его деятельности занимала активная работа в области истории авиационной науки и техники, многое сделано им для развития авиационного образования в нашей стране. Он возглавлял комиссию по истории техники при бюро Отделения технических наук АН СССР, а в 1953 году стал членом совета Института истории естествознания и техники АН СССР.
Жизненный путь академика Б.Н. Юрьева завершился 14 марта 1957 года.
В XX веке – веке узких специализаций ученых такого масштаба можно пересчитать по пальцам одной руки. Жуковский, Ландау, Капица. И, конечно, академик Борис Николаевич Юрьев.
РенатУТИКЕЕВ
Секрет Юрьева
О Борисе Николаевиче Юрьеве написано очень много. Недавно вышла уже третья книга биографического характера, в которой авторы пытаются ответить на один вопрос: в чем секрет таланта этого выдающегося ученого? Нам кажется, что ответить на этот вопрос невозможно без рассказа о его человеческих качествах. Поэтому мы хотим предложить вам воспоминания о встречах с академиком Юрьевым ветерана КБ «Камов» Л.Ф. Бартакова и профессора Е.И. Ружицкого.
Впервые я увидел Б.Н. Юрьева 1 сентября 1952 года в главной аудитории самолетостроительного факультета МАИ, где состоялась встреча первокурсников с профессорско-преподавательским составом.
Такие встречи вели свое начало от так называемых «зазывных» лекций в МВТУ, на которых Н.Е. Жуковский и его ученики агитировали студентов переходить на специальность авиационного инженера. Очевидцы рассказывали, что очень эффективно в этом направлении работал Б.Н. Юрьев. Не была исключением и эта встреча. Выступало много преподавателей, но, честно скажу, я уже не помню, о чем они конкретно говорили. Речь же Б.Н. Юрьева запомнилась на всю жизнь.
Он говорил о том, что авиация – это передний край науки и техники, она концентрирует все передовые идеи и достижения смежных и даже вроде бы далеких от нее областей техники, а поэтому именно здесь возможен поражающий воображение прогресс. Давно ли чудом казались полеты на аппаратах, сделанных из деревянных реечек и полотна, а сегодня человеку покоряются сверхзвуковые скорости. И все это за каких-то 50 лет! «Дальнейший прогресс зависит целиком от вас: какими будете вы – такой будет и авиация. Если хотите, чтобы прогресс авиации был непрерывным, вы должны ежедневно, ежечасно пополнять свои знания. Остановились на мгновение – и вы отстали. Вы, как губка, должны впитывать все новое, передовое. Современный самолет – это не только двигатель, планер, приборы. Это и сложнейшая автоматика. На современном бомбардировщике, например, огнем оружия управляет устройство, состоящее из десятков радиоламп!» – говорил Юрьев.
Сегодня последняя фраза из выступления пятидесятилетней давности вызывает улыбку. Но вспомните, тогда в квартирах москвичей только что появились телевизоры КВН-49, а приемник с тремя радиолампами был почти чудом. И потому автоматика с десятком радиоламп была тоже чудом. Слова «кибернетика» тогда еще не существовало, мы кончали МАИ, не прослушав даже курса основ автоматического регулирования. Сегодня на вертолет «стучатся» экспертные системы с элементами искусственного интеллекта, нас уже не устраивает ЭВМ БЭСМ-6 с миллионом операций в секунду.
Не скажу, что я и большинство моих товарищей часто вспоминали ту речь Бориса Николаевича, но то, что каждодневно старались действовать в соответствии с ней – это точно. Уверен, что и для последующих поколений вертолетчиков она не утратила своей актуальности.
Мне не один раз после этого довелось встречаться с Борисом Николаевичем. На младших курсах я занимался в секции экспериментального авиамоделизма. Нам хотелось получить достоверные характеристики авиамодельных профилей. Продувки в трубе не годились – поток там был более турбулентным, чем в натуре. И мы, студенты, придумали метод косвенного определения качества профиля: перед расчерченной на квадраты стеной с катапульты запускали модель с крылом исследуемого профиля, и по траектории полета определяли качество. Но вот загвоздка – нужен был фотоаппарат, желательно «Зенит», а его не было. И мы отправились к начальнику кафедры академику Б.Н. Юрьеву с просьбой помочь нам выбить средства на приобретение фотокамеры.
Никогда не забуду, как внимательно и серьезно слушал нас Борис Николаевич. Задал массу вопросов, дал несколько хороших советов, но ходатайство о выделении средств на приобретение подписывать не стал. «У вас все готово к работе, а фотоаппарат таким путем вы получите не скоро. Сколько он стоит?» После того, как мы назвали сумму, он вынул бумажник, отсчитал деньги и передал старосте нашего кружка.
Как раскомплектовывают импортное оборудование и присваивают входящие в его состав японские зеркальные фотокамеры, я видел, но чтобы покупали фотокамеру студентам за свой счет, я, честно скажу, видел первый и последний раз. Правда, тогда это воспринималось вполне естественно.
Борис Николаевич, как я теперь понимаю, очень уважительно относился к студенту – как к равному. Отношение это было искренним, не показным. Конечно, кто такой Юрьев, мы все знали (я, например, узнал это еще в школе из замечательной книги Льва Гумилевского «Крылья Родины», в которой на очень хорошем уровне была изложена история нашей авиации). И тем не менее, он, академик, был прост и доступен в общении.
На старших курсах мы любили бывать в «дипломке». Нам даже разрешалось иногда обводить листы. Каких только «прожектов» не насмотрелись. Интересно было наблюдать реакцию Бориса Николаевича на них. Он уже болел, плохо видел. В «дипломку» он приходил с большим увеличительным стеклом. Весь лист сразу он видеть не мог и потому низко к нему наклонялся и долго, внимательно рассматривал его по частям. Оторвавшись от листа, он с ободряющей улыбкой смотрел на дипломника и, как правило, восклицал: «Гениально!» Ну могли ли быть после этого у нас «сачки» и лодыри?
Можно до бесконечности рассказывать о его лекциях и книгах (какое уже поколение аэродинамиков изучает индуктивное сопротивление, теорию крыла конечного размаха по второй части «Экспериментальной аэродинамики» Юрьева!), о его мужестве, принципиальности (прочтите его статью в «Технике воздушного флота» об отставании нашей теоретической аэродинамики, написанную сразу после гражданской войны), но рамки этой статьи не позволяют. А потому я заканчиваю ее тем, о чем сегодня нельзя не сказать: для нашего и последующих поколений Борис Николаевич Юрьев остается символом стойкости, целеустремленности, бесконечной преданности выбранному делу. Были у него и ошибки, и неудачи, били его: иногда за дело, чаще всего – несправедливо. Но он не озлобился, не сломался, не опустил руки, не обиделся. Продолжал настойчиво убеждать, доказывать на всех уровнях и во всех инстанциях правоту своего дела. Вспомните: закрывают после неудачи КБ, руководимое И.П. Братухиным, – его «родное» КБ, он поддерживает новое, руководимое «конкурентом» М.Л. Милем, потому что для Юрьева дело всегда было важнее личных амбиций.
В одной телепередаче, посвященной Юрьеву, было хорошо сказано: «Ни в одном имени вертолета нет букв, означающих его инициалы, но в каждом из них живут его идеи, изобретения, научные открытия…».
Перефразируя поэта, можно сказать, что память о Борисе Николаевиче Юрьеве увековечена «в вертолетах, строчках и других делах».
Леонид БАТРАКОВ