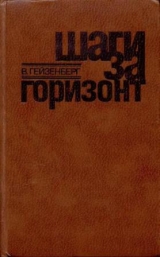
Текст книги "Шаги за горизонт"
Автор книги: Вернер Гейзенберг
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 28 страниц)
Воспоминания о Нильсе Боре, относящиеся к 1922–1927 годам[11]11
5 Первая публикация на датском языке в книге: N. Boh г. Hans liv og virke fortalt af en kreds af venner og medarbejdere. Köbenhavn, 1964. Первый русский перевод с датского языка Ю. С. Памфилова опубликован в сборнике: Н. Бор. Жизнь и творчество. М., «Наука», 1967, с. 5—20. Настоящий перевод сделан с немецкого языка по публикации: Heisenberg W. Erinnerungen an Niels Bohr aus den Jahren 1922–1927//Heisenberg W. Schritte über Grenzen. Gesmmelte Reden und Aufsätze. München, 1973, S. 52–70.
[Закрыть]
Моя первая встреча с Нильсом Бором состоялась летом 1922 года в Геттингене, где по приглашению тамошнего факультета математики и естественных наук Бор прочитал серию докладов, о которой мы позднее с удовольствием говорили как о «фестивале Бора». Меня захватил с собою в Геттинген мой мюнхенский учитель Зоммерфельд, хотя я был тогда всего лишь двадцатилетним студентом 4-го семестра. Зоммерфельд сердцем был всегда со своими студентами, и он почувствовал, как силен был мой интерес к Бору и его теории атома. Первое впечатление от личности Бора совершенно отчетливо сохраняется в моей памяти. Полный молодой силы, но при этом несколько смущенный и застенчивый, слегка склонив голову набок, датский физик стоял на ярко освещенном возвышении лекционного зала, в который через широко распахнутые окна вливалось щедрое сияние геттингенского лета. Он произносил фразы как бы запинаясь и негромко, но за каждым тщательно выбираемым словом ощущалась длинная мыслительная цепочка, терявшаяся где-то в глубине перспективы очень волновавшей меня философской позиции.
В конце второго или третьего доклада этой серии лекций Бор заговорил о расчете, проведенном его сотрудником, голландцем Крамерсом, в отношении так называемого квадратичного эффекта Штарка, наблюдаемого у атома водорода, и Бор заключил свою лекцию замечанием, что, несмотря на все внутренние трудности атомной теории в ее тогдашнем состоянии, результаты Крамерса, пожалуй, совершенно правильны, и следует ожидать для них позднее экспериментального подтверждения. Я неплохо знал работу Крамерса, потому что докладывал о ее содержании на зоммерфельдовском семинаре в Мюнхене. Поэтому я рискнул выступить в ходе дискуссии, последовавшей вскоре за докладом, с частным возражением. Я не могу поверить в полную правильность результатов Крамерса, сказал я, потому что существует возможность понять квадратичный эффект Штарка просто как предельный случай рассеяния света очень большой длины волны. А поскольку уже известно, что расчет спектра рассеяния света на атоме водорода привычными методами классической физики необходимо ведет к ложным результатам – в таком случае характерный резонансный эффект вызывался бы частотой орбитального вращения электрона, а не наблюдаемой частотой излучения атома водорода, – то и расчеты Крамерса вряд ли могут дать правильный результат. Ответ Бора сводился первоначально к тому, что здесь следовало бы принять во внимание и обратное воздействие излучения на атом; но мое возражение явно озадачило его. По окончании дискуссии Бор обратился ко мне и предложил прогуляться вдвоем на геттингенский Хайнберг; я, естественно, с великим удовольствием согласился. Этот разговор, во время которого мы вдоль и поперек бродили по лесистым высотам Хайнберга, был первой, какую я могу вспомнить, напряженной беседой о физических и философских основаниях современной атомной теории; эта беседа в значительной мере определила весь мой позднейший жизненный путь. Я впервые понял, что Бор гораздо скептичнее относился к своей собственной теории, чем многие другие физики тою времени, например Зоммерфельд, и что его знание атома шло не от математического анализа положенных в основу допущений, а от настойчивого осмысления феноменов, позволявшего ему скорее интуитивно ощутить их закономерности, чем рассудочно дедуцировать их. Вот как, подумал я, возникает познание природы; и лишь после этого, на второй ступени появляется возможность математически уточнить познанное и сделать его доступным для подробного рационального анализа. Бор был прежде всего философ, а не физик; но он знал, что в наше время натурфилософия обладает силой лишь тогда, когда она до последних мелочей подчиняется неумолимым экспериментальным критериям истинности.
Бор пригласил меня приехать в начале следующего года на несколько недель в Копенгаген, а позднее, возможно, поработать там и дольше, получая стипендию. Так начался для меня бесценный период дружеского сотрудничества, пришедшийся благодаря счастливому стечению обстоятельств как раз на тот момент, когда квантовая теория становились все сложнее и непонятнее, ее внутренние противоречия все невыносимее, ускоряя тот ее кризис, когда в считанные годы почти драматический ряд поразительных открытий привел к решению всех ее принципиальных проблем.
Моя поездка в Копенгаген, если мне не изменяет память, пришлась на пасхальные каникулы 1924 года. Первые мои дни в институте и среди молодых людей, окружавших тогда Бора, погрузили меня в глубокую депрессию. Мне было так далеко до этих молодых физиков, съехавшихся со всех концов света! Большинство из них владело несколькими иностранными языками, тогда как я не мог разумно изъясниться ни на одном; они видели мир, разбирались в культуре, поэзии многих народов, в совершенстве играли на музыкальных инструментах и, главное, намного лучше меня знали современную атомную физику. У меня не было ни малейшей надежды быть принятым в такой круг. Тем не менее дружеские отношения завязались быстро. Мне особенно приятно вспомнить о первых дискуссиях с Крамерсом из Голландии, Юри из США и Росселандом из Норвегии. Они, похоже, хорошо знали, уважали Бора и были полны оптимизма в отношении будущего развития его теории.
Великим приобретением тех недель были, естественно, беседы с самим Бором. Поскольку уже тогда Бор был перегружен в своем институте текущими делами, он предложил пойти в многодневный пеший поход по северной части острова Зеландия, чтобы мы имели время без помех обсудить вдвоем все наши научные вопросы. Бор к тому же был явно рад возможности показать мне свою родную Данию: гамлетовский замок Кронборг на северной оконечности пролива Зунд между Данией и Швецией, изящное ренессансное строение окруженного водой замка Фредериксборг, у Хиллереда, большой лес далее к северу, у озера Эзрум, и рыбацкие поселки на Каттегате, между Гиллелейе и Тисвильделейе. На краю Тисвильделейе у Бора был просторный загородный дом для его семьи. Бор много рассказывал мне по пути об истории своей страны и ее замков, об отношении ее древнего прошлого к циклу исландских саг, который он знал в подробностях, и так за два-три дня я узнал о Скандинавии больше, чем за все школьные годы. И я сам полюбил счастливую и мирную страну, в основном пощаженную страшными катастрофами нашего века, и должен был в свою очередь снова и снова рассказывать Бору о происшедших на моей памяти событиях и моей собственной стране, о войне, революции, голоде и нужде. Наши беседы, таким образом, захватывали гораздо более широкие области, чем просто сферу физики и естествознания, и я был рад видеть, как близок был Бору юношеский задор во всех его проявлениях. На пляже мы часта соревновались, кто дальше бросит камень в море или точнее попадает в плывущее бревно. Бор рассказал, что однажды они с Крамерсом нашли у пляжа невзорванную, со времен войны, мину и попытались на спор попасть в ее детонатор камнем. После нескольких неудачных попыток они догадались, что им не удастся пережить радость от попадания, потому что взорвавшаяся мина прежде тога лишит их жизни; тогда они обратились к другим целям. Склонность Бора к философским обобщениям проявлялась часто в простой игре. Когда однажды на пустынной полевой дороге я бросил камень в очень далеко стоящий телеграфный столб и против всякой вероятности попал в него, Бор заметил: «Попасть с прицела в столь далекий объект, разумеется, невозможно. Но если наберешься наглости, не целясь, бросить камнем в том направлении и одновременно вообразишь себе абсурдную возможность, что попасть все-таки можно, то пожалуй, что-нибудь и получится. Представление о возможности чего-либо может оказаться сильнее, чем упражнение и воля».
Разумеется, большое место в наших беседах занимали проблемы атомной физики; мною они были впервые осознаны во всей своей остроте, пожалуй, лишь благодаря разъяснениям Бора, а у Бора наши дискуссии, возможно, упрочили его давнее скептическое отношение к тогдашнему состоянию атомной теории. От какого-либо решения мы были еще очень далеки, и даже столь важные открытия, как эффект Комптона, ставший известным в том же году, на первых порах только обостряли трудности и противоречия. Когда мы возвратились из, нашего пешего странствия в Копенгаген, у меня было ощущение, что благодаря Бору будущее атомной теории стало мне намного понятнее, чем прежде. Было похоже на то, как будто окружавший нас густой туман стал уже чуть более прозрачным; как будто уже смутно различались очертания гор, на которые мы должны были позднее подняться, чтобы оттуда разглядеть общие теоретические взаимосвязи атомных явлений.
За летний семестр 1923 года я написал в Мюнхене свою докторскую диссертацию, тема которой была взята из совсем другой области физики – из гидродинамики. Развитие событий в атомной физике я наблюдал как бы издалека. Осенью я получил ассистентское место при Борне в Геттингенском университете и с тех пор участвовал в тамошнем кружке в дискуссиях по проблемам атомной теории.
Лишь в зимний семестр 1924/25 учебного года, став по рекомендации Бора стипендиатом Фонда Рокфеллера, я смог снова перебраться в институт на Блегдамсвее в Копенгагене. Там почти с первого дня началось тесное научное сотрудничество между Бором, его ближайшим сотрудником Крамерсом и мною, и беседы, которые мы вели вдвоем или втроем, быстро приняли регулярный характер и превратились для меня в важнейшее событие каждого дня, более содержательное, чем семинары и лекции.
В центре наших дискуссий стояла тогда теория дисперсии, то есть рассеяния света на атомах, о которой Крамере тогда только что опубликовал одну очень важную работу. Мы взялись совместно распространить соображения Крамерса на определенный случай так называемого эффекта Рамана (дисперсия с изменением цвета), и речь шла, собственно, о том, чтобы скорее угадать правильные математические формулы с помощью заключений по аналогии, чем вывести их, поскольку принципиальная основа для математического расчета пока еще отсутствовала. Мы с Крамерсом вначале не были вполне единодушны и в отдельных случаях полагались на разные формулы. Мне было чрезвычайно поучительно наблюдать, как Бор всегда пытался приблизиться к решению путем детальнейшей физической интерпретации формул, тогда как я был гораздо более склонен опираться на формальные математические структуры, то есть применять в известном смысле эстетические критерии. К счастью, в конечном счете наши разные критерии приводили к одному и тому же ответу, и я попытался убедить Бора в том, что так и должно быть, иначе теория никогда не достигнет простоты и прозрачности. Однако я заметил, что математическая прозрачность не была для Бора самоочевидной ценностью. Бор опасался, что формальная математическая структура завуалирует физическое ядро проблемы, и был, кроме того, убежден, что математической формулировке обязательно должно предшествовать полное прояснение физической картины. Возможно, я в то время был уже больше Бора готов отказаться от наглядных образов и сделать шаг в сторону математической абстракции. Во всяком случае, в формулах, выработанных мною совместно с Крамерсом, я угадывал математику такой силы, что она функционировала, так сказать, сама по себе, в отрыве от физических представлений. От этой математики исходила для меня магическая притягательность, и меня захватывала идея, что здесь, возможно, проступают наружу первые нити громадной сети глубоких закономерностей.
Не менее повезло мне и с исходом одной дискуссии между мною, Бором и Крамерсом, касавшейся поляризации флюоресцентного света. Бор написал о нем короткую заметку в связи с экспериментами в Институте Франка, а я, пренебрегая наглядными образами, приложил к проблеме Бора свою более формальную точку зрения и получил количественные результаты, немного выходившие за рамки работы Бора. Вначале мне удалось убедить Бора и Крамерса в правильности моих формул. Но когда после завтрака я снова пришел в кабинет к Бору, они с Крамерсом сказали мне, что оба считают мои формулы ложными, и попытались разъяснить мне свою позицию. Загорелась многочасовая, почти страстная дискуссия, в ходе которой, насколько я помню, требование «отрешиться от наглядных образов» было впервые высказано со всей остротой и объявлено лейтмотивом будущей работы. Образ мысли Бора, в истории физики всего лучше воплощенный, пожалуй, прежде всего такими фигурами, как Фарадей или Гиббс, был вполне пригоден для того, чтобы с бесподобной ясностью вышелушить зерно проблемы. Но Бор колебался, не решаясь сделать шаг к математической абстракции, хотя ничего не имел против него. В конце концов мы достигли единого мнения, что мои формулы правильны, и у меня осталось ощущение, что мы заметно приблизились к будущей атомной теории.
Бор, естественно, принимал живейшее участие и в работе многих других сотрудников института, а поскольку он все делал чрезвычайно основательно, то расходовал на нас так много сил, что это мешало его собственным исследованиям и исполнению им обязанностей руководителя института. Бор часто оказывался поэтому в состоянии некоторого стресса, отчего ему становилось еще труднее письменно формулировать свои мысли. Берясь за письмо, он, как правило, диктовал мне первый набросок, и удивлялся тщательности, с какой он снова и снова обдумывал и уточнял каждое слово.
В научной жизни копенгагенцев важную роль играл и гостеприимный загородный дом Бора в Тисвильделейе. Часто я имел честь сопровождать туда на несколько дней его семью. Мы вместе брели через лес к пляжу, наслаждались с высоких поросших соснами песчаных дюн видом на голубое Балтийское море, по которому еще ходили старомодные грузовые парусники, и часто заплывали далеко в море. Однажды во время купания Бор оказался очень далеко от берега, и, догоняя его, я заметил, к своему немалому испугу, что течение быстро сносит нас в открытое море. Хотя мы с большим напряжением стремились к земле, Бор никак не мог приблизиться к берегу и явно начал уставать. Тут я пережил несколько тревожных минут, потому что мы были совершенно одни и я уже больше не знал, что, собственно, предпринять. К счастью, благодаря течению мы оказались поблизости от небольшой песчаной отмели, до которой сумели в конце концов добраться, и Бор там довольно долго отдыхал. Расстояние от отмели до берега было, правда, еще велико, но после отдыха мы смогли, плывя как можно быстрее, без больших трудностей приблизиться к берегу и наконец выйти на него. Бор и его семейство владели также небольшой лошадью с тележкой, и, поскольку я близко сдружился с детьми, мне время от времени разрешали самому с одним ребенком, прокатиться по лесу. В Тисвильделейе часто приезжали гости из Копенгагена или из-за рубежа с собственными соображениями или сообщениями о новых экспериментальных результатах, оживляя научную беседу о трудностях атомной теории, столь беспокоивших нас всех.
В летний семестр 1925 года я снова читал лекции в Геттингене, а, кроме того, во время краткого лечения на острове Гельголанд в июне разработал первый набросок квантовой механики, которая представляла собою для меня в известном смысле квинтэссенцию наших копенгагенских бесед, математическую формулировку «принципа соответствия» Бора. Я надеялся, что благодаря одной новой и мне самому еще очень непривычной математической структуре для меня открылся доступ к тем странным закономерностям, которые иногда вырисовывались передо мной в моих прежних беседах с Бором и Крамерсом. После поездки в Голландию и Англию и затем летних каникул я снова приехал на несколько недель в Копенгаген, чтобы обсудить с Бором сложившуюся ситуацию. Бор был крайне заинтригован и, во всяком случае, уже не высказывал теперь никаких возражений против радикального отхода от наглядных образов. Правда, в то время еще невозможно было установить, насколько новый математический подход годится для построения полноценной теории.
Особенно приятно для меня воспоминание о нескольких днях, проведенных мною в то лето в загородном доме
Бора, у которого гостили тогда также три математика – Харальд Бор, Харди из Кембриджа и Бесикович из России. Бесикович был только что вынужден покинуть Россию из-за тамошних политических неурядиц и надеялся теперь найти новую работу в Англии. Разговор вскоре коснулся и новых событий в теории атома, и три математика крайне волнующим для меня образом обсуждали, какого рода математические взаимосвязи могут скрываться за моей формулой. К сожалению, я слишком мало разбирался в математике, чтобы по-настоящему следить за их мыслью. Но у меня осталось явственное ощущение, что здесь выплыли на свет части большой сети всеобъемлющих закономерностей. К вечеру мы, разделившись на две партии, играли перед домом в итальянскую лапту, и, поскольку Харальд Бор и Харди были страстными спортсменами, обе стороны вели ожесточенную борьбу. Только Бесикович, совершенно далекий от всякого спорта, к сожалению, редко достигал успеха. Игра закончилась очень неожиданно. Команда Бора отставала на несколько очков, но за ней был последний бросок, который должен был сделать Бесикович. Сознавая безвыходность ситуации, Бесикович нарочно отвернулся и бросил шар за спину в направлении игрового поля. К его изумлению, шар попал точно в нужное место и, при всеобщем ликовании, решил исход игры в пользу его команды. Я подумал о высказывании Бора на проселочной дороге у Гиллелейе, но без дальнейших философских выводов. На обратном пути поездом в Копенгаген Харди предложил мне «для упражнения» математическую задачу, теорию одной китайской игры, по его словам, разработанную с большой точностью. С крайним напряжением сил пытался я решить задачу, пока Харальд Бор вдруг не сказал Харди с упреком: «Не следует тратить математические способности молодого человека на такие игрушки». К тому моменту я уже разобрался с одной частью теории и рассказал об этом Харди. Он лишь сухо заметил: «Что ж, по крайней мере для атома водорода новая теория атома, пожалуй, окажется верной».
В зимний семестр 1925/26 учебного года я должен был исполнять свои преподавательские обязанности в Геттингене. Кроме того, вместе с Борном и Йорданом я работал над математическим оформлением квантовой механики. Борн и Йордан достигли решающих успехов в математическом анализе новой механики; независимо от них этой проблемой занялся Дирак в Кембридже, придя, по существу, к тем же результатам, что Борн и Йордан. Так что на протяжении всего зимнего семестра нам с головой хватала работы по освоению новооткрытой математической целины. Между тем Крамере получил профессуру на родине, в Голландии, и Бор предложил мне занимавшееся прежде Крамерсом место преподавателя теоретической физики в Копенгагенском университете. Таким образом, начиная с пасхи 1926 года я снова полностью принадлежал Копенгагену, и, как прежде, ежедневные беседы с Бором составляли самую важную часть моей научной жизни. Атомная теория находилась к тому времени вся в движении. Высказанные в 1924 году Луи де Бройлем идеи относительно дуализма, существующего между теорией волн и теорией частиц, были подхвачены Шрёдингером, который развернул на их основе свою волновую механику. Первые работы Шрёдингера тогда, к Пасхе 1926 года, только вышли из печати[12]12
6 Основополагающие работы Э. Шрёдингера были опубликованы в начале 1926 г., в «Annalen der Physik». Русский перевод: Шрёдингер Э. Квантование как задача о собственных значениях/Шрёдингер Э. Избранные труды по квантовой механике. М., «Наука», 1976, с. 9—50, 75—138.
[Закрыть], но мы уже отовсюду слышали, что Шрёдингеру вроде бы удалось доказать математическую эквивалентность между своей волновой механикой и новорожденной квантовой механикой. Эти новости стояли в центре наших копенгагенских дискуссий. Изыскания Шрёдингера представлялись Бору очень важными по двум причинам: с одной стороны, они упрочивали доверие к математической схеме, которую теперь с одинаковым основанием можно было называть как квантовой, так и волновой механикой; с другой стороны, они заставляли задуматься о том, не следует ли двигаться к наглядной интерпретации этой схемы какими-то совершенно новыми путями, которые не приходили нам до сих пор на ум в нашем копенгагенском кружке. Бор сразу же почувствовал, что дело близится к решению принципиальных проблем, неотступно преследовавших его с 1913 года, и он сосредоточил всю силу своей мысли на критической перепроверке, в свете новообретенных знаний, всего того хода рассуждения, который в свое время привел его к концепциям стационарного состояния, квантового скачка и т. д. В наших беседах мы постоянно возвращались поэтому к интерпретации квантовой механики. Со своей стороны я, собственно, не был склонен ставить истолкование квантовой теории в зависимость от шрёдингеровской теории. Я считал ее исключительно ценным инструментом для решения математических проблем квантовой механики, не более того. Наоборот, Бор был, похоже, расположен допустить дуализм волн и частиц на правах основополагающей теоретической предпосылки.
Соответственно своему взгляду на вещи я занимался пока лишь практическим приложением формул квантовой механики к спектру гелия. Важную роль здесь сыграли отличные измерения эффекта Штарка для спектра гелия, осуществленные Фостером. Канадец Фостер приехал на некоторое время в Копенгаген, желая сопоставить данные своих измерений с новой теорией. Наши дискуссии развертывались большей частью в загородном доме госпожи Map, расположенном высоко над утесами северной Зеландии в Альсгарде, около Хельсингёра. Между клумбами роз на садовых скамейках, откуда мы часто, напрягая зрение, пытались разглядеть горы на шведском берегу Эрезунда, раскладывались увеличенные фотокопии спектральных снимков Фостера и данные измерений линий спектра сравнивались с теоретически вычисленными результатами. Совпадение оказалось полным, и мы с удовлетворением убеждались, что многие сложнейшие и на первый взгляд непредвиденные частности вытекают из формул квантовой механики, так сказать, сами собой. Бор тоже радовался тому, что снова, как и десятью годами ранее в случае атома водорода, эффект Штарка явился прекраснейшим подтверждением правильности наметившегося понимания атомов. Не раз говорили мы с Бором и об общей теории спектра гелия, за которую я взялся, свободно комбинируя шрёдингеровский и геттингенский методы. Нас обоих очень обнадеживала открывшаяся теперь возможность дедуцировать спектры как ортогелия, так и парагелия из общих принципов; а в сочетании с «принципом Паули» это обстоятельство открывало доступ к окончательному пониманию периодической системы элементов. В июне, взяв с собой доведенную лишь до середины работу, я уехал в Норвегию, провел там дней восемь в Лиллехаммере на озере Мьёса, чтобы закончить свою рукопись, после чего с рукописью в рюкзаке прошел один из Гудбрандсдаля через горы Йотунхейма в Согнефьорд, откуда кораблем и поездом возвратился в Копенгаген. Бор одобрил работу, после чего ее можно было отдавать в печать.
В июле я навестил своих родителей в Мюнхене и благодаря этому попал на доклад Шрёдингера о его работах по волновой механике, прочитанный им перед мюнхенскими физиками. Так я впервые услышал об интерпретации, которую Шрёдингер собирался дать своей математической схеме волновой механики, и впал в совершенное отчаяние из-за смешения понятий, на мой взгляд, неминуемо грозившего в таком случае атомной теории. К сожалению, моя попытка в ходе дискуссии по докладу снова навести порядок в понятиях не имела никакого успеха. Тот довод, что шрёдингеровская интерпретация не позволяет понять даже закон излучения Планка, никого не убедил, и Вильгельм Вин, физик-экспериментатор из Мюнхенского университета, довольно резко ответил мне, что с квантовыми скачками и всей атомистикой теперь решительно покончено, а трудности, о которых я твержу, будут Шрёдингером, по всей видимости, очень скоро преодолены. Сейчас я уже не упомню, сообщил ли я Бору письмом об этих мюнхенских событиях. Но во всяком случае, Бор вскоре затем пригласил Шрёдингера в Копенгаген, попросив его не ограничиваться одним докладом о своей волновой механике, а пробыть в Копенгагене подольше, чтобы осталось достаточно времени для дискуссий об интерпретации квантовой теории.
Эти дискуссии, состоявшиеся в Копенгагене, если мне не изменяет память, в сентябре 1926 года, оставили у меня сильнейшее впечатление, относящееся особенно к личности Нильса Бора. Хотя Бор был вообще исключительно деликатным и уступчивым человеком, в этой дискуссии, задевавшей важнейшие для него проблемы познания, он проявил способность с фанатизмом и почти пугающей неумолимостью добиваться окончательной ясности во всех аргументах. Он не расслаблялся даже после многочасовых споров и не отступал от Шрёдингера до тех пор, пока тот не признал свою интерпретацию бессильной объяснить хотя бы закон Планка. В бесконечно трудных диалогах медленно, шаг за шагом опровергалась всякая попытка Шрёдингера как-то обойти это горькое для него заключение. Возможно, вследствие перенапряжения Шрёдингер через два-три дня заболел и в качестве гостя семьи Боров вынужден был слечь в постель. Но и тут Бор почти не отходил от больного, упрямо повторяя: «Нет, Шрёдингер, Вы обязаны все-таки согласиться, что…» Один раз Шрёдингер почти в отчаянии воскликнул: «Если никак нельзя обойтись без этих проклятых квантовых скачков, то я жалею о том, что связался с атомной теорией!» На что Бор спокойно отвечал: «А вот мы, напротив, очень благодарны вам за то, что вы с нею связались и тем ее заметно продвинули». В конце концов Шрёдингер уехал из Копенгагена несколько обескураженный, тогда как у нас, в институте Бора сложилось убеждение, что шрёдингеровская интерпретация квантовой теории, с несколько подозрительной легкостью выстроенная по аналогии с классической теорией, теперь так или иначе опровергнута, хотя для полного понимания квантовой механики нам еще не хватает ясности в целом ряде аспектов.
С тех пор беседы между Бором и его копенгагенскими сотрудниками все чаще вращались вокруг центрального для квантовой теории вопроса о том, как применять математический формализм к единичным экспериментальным данным и какое можно при этом дать объяснение общеизвестным парадоксам, например кажущемуся противоречию между волновым и корпускулярным представлениями. Снова и снова мы выдумывали мысленные эксперименты, при которых парадоксы всплывали бы с особенной отчетливостью, пытаясь угадать вероятный ответ, который даст природа при подобном эксперименте. Мы с Бором тяготели при этом к различным решениям. Еще двумя годами ранее Бор в работе, написанной вместе с Крамерсом и Слэтером, попытался сделать дуализм волнового и корпускулярного представлений исходной точкой для истолкования квантовой теории. Волны, думал он, следует истолковывать в смысле поля вероятностей, хотя это ведет к отказу от закона о сохранении энергии для единичных процессов. Тем временем, однако, Бете и Гейгер установили, что закон сохранения энергии имеет силу также и для единичных процессов. Несмотря ни на что, кажущийся дуализм волн и частиц продолжал представляться Бору – и он был здесь совершенно прав – достаточно центральным феноменом, чтобы видеть в нем как бы естественную исходную точку для всякой интерпретации. Что касается меня, то я целиком положился на наше недавнее достижение, формальную математическую схему теории. Поскольку основоположениями квантовой механики была уже обеспечена физическая интерпретация для известных величин, я верил в то, что простое последовательное развертывание этих принципов неизбежно приведет к верной общей интерпретации, а значит, нет надобности в заимствовании каких-либо добавочных наглядных представлений. Благодаря этому различию наших точек зрения спорные проблемы освещались и исследовались со всех сторон, но все равно устранить парадоксы никак не удавалось.
Я жил тогда на мансарде института Бора на Блегдамсвее, и Бор часто поздним вечером заглядывал ко мне в комнату, чтобы поговорить о мучивших нас обоих трудностях квантовой теории. С одной стороны, у нас было чувство, что решение где-то совсем близко, поскольку мы уже располагали явно непротиворечивым математическим описанием; а с другой стороны, было совершенно неясно, как выразить на этом математическом языке даже самые простые экспериментальные ситуации, например траекторию электрона в камере Вильсона. В квантовой механике мы исходили из того, что подобных траекторий электронов просто не существует, а в рамках волновой механики было невозможно понять, почему определенным образом локализованный волновой процесс, как бы некий волновой пакет, не расплывается снова в течение короткого времени.
В те месяцы Дирак и Йордан разработали теорию преобразований, во многом подготовленную предшествующими исследованиями Борна и Йордана, и это усовершенствование математической схемы еще больше утвердило нас в уверенности, что формальный облик квантовой теории не подлежит дальнейшим перестройкам и теперь остается лишь непротиворечивым образом выразить связь математики с экспериментами. Но как именно это должно произойти, оставалось по-прежнему в тумане. Наши вечерние дискуссии затягивались поэтому нередко за полночь, и временами мы расставались без большого удовлетворения, потому что различие направлений, в которых шли наши поиски решения, зачастую казалось нам помехой для прояснения дела. После одного из таких поздних собеседований, глубоко обеспокоенный, я вышел в расположенный позади института парк Феллед, чтобы прогулкой на свежем воздухе привести себя в порядок перед сном. И на дорожке парка под ночным звездным небом мне сама собой напросилась в голову мысль о возможности просто-напросто исходить из того постулата, что природа допускает лишь такие экспериментальные ситуации, которые могут быть описаны в математической схеме квантовой механики. Это значит – такой вывод вытекал из ее математического формализма, – что нельзя одновременно и в точности знать местоположение и скорость той или иной частицы. До детального обсуждения этой возможности с Бором дело тогда не дошло, потому что как раз в те дни (конец февраля 1927 года) Бор отправился в Норвегию, чтобы провести там отпуск на лыжах. Похоже, сам Бор был рад возможности в течение нескольких недель без помех продумывать свои собственные мысли относительно интерпретации квантовой теории. Да и я смог теперь, оставшись один в Копенгагене, дать больше простора своей мысли и решил сделать краеугольным камнем своей интерпретации только что упомянутое соотношение неопределенности. Воспоминание об одной давней беседе в Геттингене с другом-студентом навело меня на мысль о том, чтобы исследовать возможность измерения местоположения частиц посредством микроскопа, работающего на гамма-лучах, и таким путем очень скоро возникла интерпретация квантовой теории, показавшаяся мне внутренне согласованной и непротиворечивой. Я сразу написал длинное письмо к Паули, как бы первый набросок новой работы, и ответ Паули был недвусмысленно позитивным и ободряющим. Когда Бор вернулся из Норвегии, я уже был в состоянии показать ему черновой вариант статьи и письмо Паули. Вначале Бор был порядком недоволен; он указал мне на неправильность обоснования некоторых положений в этом первом варианте, а поскольку он, как всегда, с полным правом настаивал на безоговорочной ясности во всем, вплоть до мельчайших деталей, эти неувязки ему очень мешали. Кроме того, за проведенные в Норвегии недели у него самого сложилась концепция дополнительности, позволявшая сделать дуализм, существующий между волновой и корпускулярной картинами, исходным пунктом интерпретации. Концепция дополнительности полностью соответствовала той философской позиции, на которой он, по существу, всегда стоял и в которой одной из центральных философских проблем выступала недостаточность наших выразительных средств. Его поэтому сбивало с толку мое нежелание исходить из дуализма между волнами и частицами. Впрочем, после нескольких недель дискуссий, которые не были лишены напряженных моментов, мы скоро поняли, в немалой мере благодаря сотрудничеству Оскара Клейна, что оба имеем в виду, по сути дела, одно и то же и что соотношение неопределенности само составляет лишь специфический случай более общей ситуации дополнительности. Тогда я послал свою исправленную работу в печать, а Бор подготовил подробную публикацию относительно понятия дополнительности.








