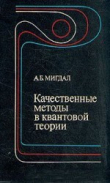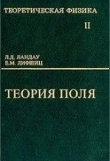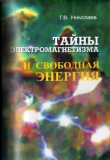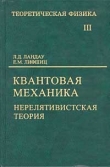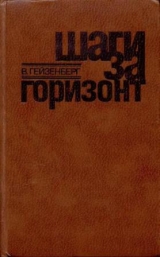
Текст книги "Шаги за горизонт"
Автор книги: Вернер Гейзенберг
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 28 страниц)
Конец физики?[77]77
69 Статья в газете «Süddeutschen Zeitung» от 6 октября 1970 г.
[Закрыть]
В центре внимания физиков в наши дни стоит физика элементарных частиц. В этой связи возникает иногда вопрос, не закончится ли физика вообще, как только будут решены поставленные здесь проблемы. Ведь вся материя и все излучение состоят из элементарных частиц, так что, казалось бы, можно сделать вывод, будто полное знание законов, определяющих их свойства и поведение, нечто вроде «мировой формулы», в принципе должно бы наметить контуры всех физических процессов. В таком случае, даже если бы прикладной физике и технике предстояло еще длительное развитие, принципиальные вопросы были бы ясны и фундаментальные физические исследования закончены.
Принятию этого тезиса о возможном завершении физики препятствует опыт прошлого, когда тоже думали, что физика вот-вот кончится, – и ошибались при этом. Макс Планк рассказывал, что его учитель Джолли отсоветовал ему изучать физику, так как она-де в основном завершена и тому, кто хочет заниматься научно-исследовательской деятельностью всерьез, едва ли стоит тратить на нее свои силы. Ныне никто уже не пытается выступать с такими ложными прогнозами, и вопрос поэтому следует поставить так: а существовали ли в истории физики вообще хотя бы частные подразделы, достигшие окончательной формулировки своих законов и внушающие поэтому уверенность в том, что и через тысячи или миллионы лет, на любой сколь угодно отдаленной от нас солнечной системе ход явлений будет подчиняться этим законам в той же самой математической формулировке?
Вне всякого сомнения, такие замкнутые разделы существуют. Вот один вполне конкретный пример: закон рычага был сформулирован Архимедом около двух тысяч лет назад, но можно не сомневаться, что он будет справедлив всегда и повсюду. То же самое можно, по-видимому, утверждать и о ньютоновской механике в целом.
Путешественники на Луну без колебаний полагаются на ее принципы и действуют в соответствии с ними. А если им понадобится воспользоваться рычагом, они, само собой разумеется, будут считать правильным старый закон Архимеда и успешно применять его. Впрочем, уже здесь можно было бы выдвинуть следующее возражение: разве теория относительности и квантовая механика не представляют собой улучшенную по сравнению с ньютоновской механику? И там, где необходима высокая степень точности, разве путешественник на Луну не должен обратиться к этому улучшенному варианту? А если так, не доказывает ли это, что, по существу, и механика еще вовсе не закончена?
Чтобы найти ответ на эти вопросы, необходимо прежде всего констатировать следующее: когда формулируются великие всеобъемлющие законы природы – а это стало впервые возможным в ньютоновской механике, – речь идет об идеализации действительности, а не о ней самой. Идеализация возникает оттого, что мы исследуем действительность с помощью понятий, оправдавших себя при описании явлений и придающих этим последним определенный облик. В механике это, например, такие понятия, как место, время, скорость, масса, сила. Тем самым, однако, мы ограничиваем – или, если угодно, стилизуем – картину реальности, поскольку отвлекаемся от всех особенностей, которые уже нельзя уловить в этих понятиях. Если помнить об этих ограничениях, можно утверждать, что в ньютоновской теории механика завершена, иными словами, механические явления строго подчиняются законам ньютоновской физики – в той мере, в какой они вообще поддаются описанию в понятиях этой физики. Мы убеждены, как уже говорили, в том, что утверждения этой физики будут верны и через миллионы лет, и на отдаленнейших солнечных системах, и полагаем, что в рамках своих понятий ньютоновская физика не может быть улучшена. Но мы никоим образом не вправе утверждать, что в этих понятиях могут быть описаны все явления.
Можно, стало быть, – с упомянутыми оговорками – сказать, что ньютоновская механика представляет собой замкнутую теорию. Для такой замкнутой теории характерна система определений и аксиом, фиксирующая основополагающие понятия и их связи. Кроме того, должна существовать большая сфера опыта, наблюдаемых явлений, которая может быть в этой системе описана с высокой степенью точности. Теория соответственно представляет собой справедливую для всех времен идеализацию этой сферы опыта.
Но существуют и другие сферы опыта, а тем самым и другие замкнутые теории. В XIX веке особо замкнутую – в указанном смысле – форму получила термодинамика как статистическое описание системы с очень большим числом степеней свободы. Аксиомы, лежащие в основе этой теории, определяют и связывают такие понятия, как температура, энтропия, энергия, причем первые два понятия вообще не встречаются в ньютоновской механике, а последнее играет важную роль в любой области опыта, не только в механике. В работах Гиббса статистическая термодинамика приобрела вполне замкнутый вид, и мы не можем сомневаться в том, что ее законы будут иметь силу повсюду и в любое время – но, разумеется, только для тех явлений, которые можно описать с помощью понятий температуры, энтропии, энергии. Эта теория тоже является идеализацией, и мы знаем, что имеется масса состояний, например, газообразного вещества, где нельзя говорить о температуре и где, стало быть, законы термодинамики неприменимы.
Из сказанного ясно, что в физике существуют замкнутые теории, которые можно считать идеализациями ограниченной сферы опыта и которые претендуют на вечную значимость. Очевидно, однако, что о конце физики в целом говорить тут пока еще нельзя.
За последние 200 лет были экспериментально разработаны совершенно новые сферы опыта. Со времен фундаментальных трудов Гальвани и Вольта с возрастающей точностью изучаются электромагнитные явления. Фарадей выявил связь этих явлений с химией, а Герц – с оптикой. Факты, послужившие основой для развития атомной физики, были сначала открыты в химических опытах, а затем детальнейше изучены в экспериментах с электролизом, разрядом в газах, а позднее с радиоактивностью. Замкнутых теорий прошлого не хватало для понимания этого колоссального нового материка. Поэтому возникли новые, более емкие теории, которые можно считать идеализациями этой новой области. Из электродинамики движущихся тел возникла теория относительности, приведшая к появлению новых воззрений на пространство и время. Квантовая теория говорит о механических процессах внутри атома. При этом в качестве предельного случая – когда можно полностью объективировать событие, то есть отвлечься от взаимодействия между наблюдателем и исследуемым объектом, – она включает в себя также и ньютоновскую механику.
И теорию относительности, и квантовую механику можно считать замкнутыми теориями. Они представляют собой очень общие идеализации весьма широкой сферы опыта, и можно считать, что их законы будут справедливы в любом месте и в любое время – но только относительно той сферы опыта, в которой применимы понятия этих теорий.
Наконец, за последние десятилетия в исследованиях космических лучей, а главное в экспериментах на крупных ускорителях (например, в Беркли, Женеве, Брукхейвене, Серпухове) были заложены основы физики элементарных частиц. При этом выявились такие особенности, которые позволили пролить новый свет на древнюю проблему мельчайших частиц материи. До сих пор развитие физики неизменно показывало, что каждый раз, когда какие-нибудь формы признавались в качестве мельчайших материальных частей, их можно было разделить на еще более мелкие формы, применяя более мощные силы. Атомы химиков нельзя разложить химическими средствами. Однако в электроразрядных трубках, то есть под действием более мощных электрических сил, атомное ядро можно отделить от окружающих электронов. Сталкиваясь с другими ядрами достаточно высоких энергий, это атомное ядро подвергается дальнейшему делению. Выяснилось, что все атомные ядра состоят из двух основных составных частей, из протонов (ядер атома водорода) и нейтронов. Их, как и электроны, назвали элементарными частицами. Естественно было предположить, что, применяя еще большие силы, например бомбардируя ими друг друга с чрезвычайно высокой энергией, можно будет расщепить также и протоны и нейтроны. Подобного рода исследования и были проведены на больших ускорителях. Оказалось, однако, что при таких соударениях происходит нечто иное. Высокая кинетическая энергия сталкивающихся друг с другом элементарных частиц превращается в материю, иными словами, при соударении возникают новые элементарные частицы, которые, однако, вовсе не обязательно меньше самих соударяющихся частиц. В таком случае говорить о «делении», по сути дела, уже нельзя. Итак, экспериментируя с элементарными частицами при таких больших ускорениях, мы подошли к пределу, за которым понятие деления – для известных на сегодняшний день элементарных частиц – утрачивает смысл, и мы с чистой совестью можем допустить, что эти элементарные частицы в самом деле являются мельчайшими частями материи, если только можно вообще придать какой-нибудь смысл данному понятию.
Эту новую опытную область, физику элементарных частиц, не удалось описать с помощью имеющихся замкнутых теорий – квантовой механики и теории относительности, – хотя уже в них речь идет о весьма далеко идущих идеализациях. Но подобно старой ньютоновской механике, квантовая механика все еще предполагает существование неизменных точечных масс; молчит она и о превращении энергии в материю. Напротив, теория относительности пренебрегает теми особенностями природы, которые связаны с планковским квантом действия; она, стало быть, еще допускает объективацию явлений в смысле классической физики. Итак, для физики элементарных частиц надо было искать еще более глубокую идеализацию, которая охватывала бы в качестве предельных случаев и квантовую механику, и теорию относительности. Подобно тому как квантовая механика смогла объяснить, например, сложный оптический спектр атома железа, новая теория должна объяснить сложный спектр элементарных частиц. Подобная идеализация, можно не сомневаться, получит однажды адекватное математическое представление, но только дальнейшие экспериментальные и теоретические исследования могут показать, достаточны ли для такого представления предложенные до сих пор математические структуры. Однако независимо от этой проблемы, которой нам незачем здесь заниматься, можно спросить: ну, а в том случае, если такую идеализацию удастся разработать, будет ли физика завершена? Поскольку все физические объекты состоят из элементарных частиц, можно было бы заключить, что полное знание законов, определяющих поведение элементарных частиц, эквивалентно полному знанию законов поведения всех физических объектов, а поэтому мы можем говорить здесь о конце физики.
Подобное умозаключение, однако, едва ли правомерно, поскольку оно упускает из виду одно важное обстоятельство. Дело в том, что и замкнутую теорию элементарных частиц – назовем ли мы ее «мировой формулой» или нет – следует понимать как идеализацию. Хотя она строго отображает неслыханно широкую область явлений, вполне могут существовать и другие явления, которые эта идеализация охватить неспособна. Наиболее разительным примером, доказывающим такую возможность, служит биология. Все биологические объекты тоже состоят из элементарных частиц, тем не менее понятия, в которых обычно описываются биологические процессы, например понятие самой жизни, не встречаются в этой идеализации. Так что физике еще предстоит развиваться в этом направлении.
Возразить на это можно было бы только то, что речь здесь идет уже не о физике, а о биологии, физика же при этом остается завершенной. Однако границы между физикой и смежными науками столь расплывчаты, что подобным различением достигают немногого. Потому-то большинство физиков и согласны в том, что именно вследствие неопределенного характера границ, отделяющих физику от смежных дисциплин, говорить о ее конце не следует.
Между тем некоторые физики оспаривают и то, что в обозримом будущем можно ожидать завершения даже этой узкой области физики элементарных частиц. Они указывают, что строительство все более мощных ускорителей позволяет достигать все более высоких энергий, сталкивающих частиц, а это может однажды привести нас к открытию неведомых территорий. Мнение это исходит, однако, из допущения, которое не имеет ни эмпирических, ни теоретических оснований, а именно: что при дальнейшем повышении энергий должны обнаруживаться новые явления. При изучении космических лучей не было найдено никаких новых явлений, между тем энергия, которую развивают в них сталкивающиеся частицы, в тысячи раз превосходит энергию самых мощных из существующих на сей день ускорителей. Не открыта также и частица кварк, существование которой гипотетически допустили некоторые теоретики. Нет, стало быть, ни экспериментальных, ни теоретических оснований для существования этих новых областей, но полностью исключить их существование нельзя[78]78
70 См. прим. 49, 52.
[Закрыть].
Пока не появились новые опытные данные такого рода, надо – размышляя над вопросом о конце физики – в первую очередь сосредоточить внимание на расплывчатых границах физики со смежными сферами науки и на ином способе образования понятий, который используется в этих смежных областях. К таким пограничным сферам относится математика, теория информации и философия, и в будущем, обсуждая очередное научное завоевание, мы, видимо, не всегда сможем без затруднения решить, идет ли здесь речь об успехе физики, теории информации или философии; внедряется ли физика в биологию или же биология все в большей мере пользуется физическими методами и ставит свои проблемы в духе физики. О конце физики можно было бы говорить поэтому только в случае, если бы некоторые методы и способы образования понятий были закреплены за физикой, а другие формы постановки проблем предоставлены другим наукам. Такое, впрочем, вряд ли произойдет, ибо ближайшее развитие будет характеризоваться именно объединением науки, преодолением исторически сложившихся границ между отдельными дисциплинами.
Язык и реальность в современной физике[79]79
71 В основу статьи положен текст доклада на заседании Баварской академии изящных искусств в 1960 г. Первая публикация: Heisenberg W. Sprache und Wirklichkeit in der modernen Physik//H eisenberg W. Physik und Philosophie. Stuttgart, 1960. (перевод: Гейзенберг В. Физика и философия. М., ИЛ., 1963). При переиздании статьи в книге «Schritte über Grenzen» В. Гейзенберг существенно переработал ее и расширил. Наш перевод сделан по этому изданию.
[Закрыть]
Принято было считать, что проблема языка играет в естественных науках подчиненную роль. Ведь здесь речь идет о предельно точном наблюдении различных областей природы, о понимании характера ее действий. Трудности, преодолеваемые физиком или химиком, связаны с несовершенством органов чувств или исследовательской аппаратуры, они обусловлены сложностью природных взаимосвязей, строй которых представляется нам поначалу непостижимым. Но если уж результаты получены, нет, кажется, ничего легче, чем рассказать о них, тем более нет никакой нужды специально обсуждать проблему языка. Правда, в истории науки часто оказывалось целесообразным, а порою и необходимым введение в язык дополнительных искусственных слов, удобных для обозначения ранее не известных объектов или взаимосвязей, и этот искусственный язык в общем и целом удовлетворительно описывал новооткрытые закономерности природы.
Когда же экспериментальные открытия новейшей физики и их успешный теоретический анализ в теории относительности и квантовой механике привели в последние десятилетия к пересмотру оснований физики, отношение к проблеме языка принципиально изменилось. По поводу некоторых принципиальных вопросов названных теорий развернулись страстные дискуссии, и уже по ходу этих дискуссий обнаружилось, что сам язык, на котором говорят о новых сферах исследования, стал проблематичным. Это не столь удивительно, если принять во внимание, что наш естественный язык сформировался в мире обыденного чувственного опыта, тогда как современная наука пользуется уникальной техникой, аппаратурой высочайшей тонкости и сложности и проникает с ее помощью в сферы, недоступные чувствам. Нельзя ожидать, что обыденный язык останется в силе и в этих новых областях; вот почему современный физик вынужден размышлять не только о постигаемых им закономерностях природы, но и о языке, с помощью которого он может о них говорить.
Размышление это можно начать с простых констатации, и гуманитарные науки помогут нам в этом больше, чем естественные. Детьми мы научаемся словам и понятиям не потому, что нам их объясняют, а потому, что мы ими пользуемся. Слова – это как бы средства ориентации в окружающей действительности и освоения ее, оказывающиеся в процессе их употребления более или менее целесообразными. Если мы достаточно часто слышали и сами употребляли какое-нибудь слово, нам кажется, мы знаем, что оно означает. Пользуясь этими языковыми средствами, мы, правда, сталкиваемся с множеством затруднений; мы замечаем, например, что какое-нибудь слово не вполне вписывается в данный контекст или что неясно, в каком, собственно, смысле его здесь надо понимать. Слова представляется нам темным, мы узнаем к тому же, что исторически оно имело несколько разных значений. Возьмем любой пример. Положим, отправляясь на прогулку, мы говорили об озере, а наш спутник думает, что речь идет о небольшом пруде. Нам кажется, что в комнате тепло, а человек, только что пришедший с жаркой улицы, радуется прохладе. В немецком языке есть слово «entleihen» – «одалживать», а изучая английский, мы с удивлением констатируем наличие двух совершенно различных слов «to borrow» и «to lend», означающих одно и то же действие, но в одном случае со стороны берущего, а в другом – дающего в долг. Или: дальтоники тоже пользуются словами «красный» и «зеленый», но чувственные впечатления, связывающиеся у них с этими понятиями, почти одни и те же. Подобных примеров можно привести сколько угодно.
Разумеется, эти языковые трудности были замечены уже давно и сами собою вызывали попытки их устранения. Можно, к примеру, попробовать ограничить значение того или иного слова путем соглашения, иными словами, с помощью «дефиниции», уточняющей смысл слова. Можно четче выявить значение слова с помощью уточняющего пояснения. В качестве примера можно привести, скажем, разделение понятия «условие» на «необходимое условие» и «достаточное условие». Когда одна из воюющих сторон сообщает другой, побежденной, что она будет вести переговоры о перемирии, если некая территория будет освобождена, освобождение это может быть необходимым или достаточным условием переговоров. Оно необходимо, если при невыполнении его переговоры неизбежно не состоятся, оно достаточно, если при выполнении его переговоры непременно состоятся. Впрочем, пытаясь подобным образом уточнить понятия, нужно ясно сознавать, что в этих дефинициях и пояснениях приходится в конце концов пользоваться понятиями, смысл которых необходимо заранее предполагать известным и, следовательно, принимать их без дальнейшего анализа; вот почему здание языка неизбежно стоит на шаткой почве.
В греческой философии со времен Сократа ограниченность наших языковых средств была центральной темой. Сократ, если верить записи его рассуждений в диалогах Платона, без устали боролся за ясность выраженных в слове понятий и стоящих за ними представлений. Ученик Платона Аристотель сделал в этом направлении решающий шаг вперед. Он исследовал формальную структуру языка и формы умозаключений, не зависящие от содержания посылок, создав в результате первую научную логику.
С другой стороны, логический анализ языка чреват опасностью слишком большого упрощения и известной односторонности в исследовании языковых возможностей. Будучи предпосылкой научного языка, обеспечивая однозначность и точность выводов, логика тем не менее не годится для описания живого языка, располагающего неизмеримо более богатыми выразительными средствами. Любое произнесенное слово вызывает у нас, конечно же, не просто определенное, вполне осознаваемое движение мысли, которое можно считать значением слова; это слово вызывает в глубинах нашего сознания множество смысловых оттенков и ассоциаций, едва уловимых, но зачастую существенных для понимания смысла услышанной фразы. Бывает, что именно это сплетение пробужденных словами полуосознанных представлений лучше передает смысл высказываемого, чем цепь строго логических умозаключений. Вот почему в особенности поэты часто выступают против преувеличения значимости логической структуры языка и справедливо подчеркивают значение других структур, основополагающих прежде всего для его художественного использования. Здесь, пожалуй, уместно сослаться на «Фауста» Гёте, на слова Мефистофеля из его разговора с учеником: «Фабрика мыслей подобна ткацкому станку, где тысяча нитей приводится в движенье одним толчком, где челнок снует туда и сюда, незримо струятся нити и разом завязывается тысяча связей»[80]80
72 Мы даем подстрочный перевод, поскольку важный здесь для Гейзенберга аспект либо искажается, либо вовсе устраняется известными стихотворными переводами. Ср., например, перевод Н. А. Холодковского:
Так фабрикуют мысли.С этим можноСравнить хоть ткацкий, например, станок.В нем управленье нитью сложно:То вниз, то вверх снует челнок,Незримо нити в ткань сольются;Один толчок – сто петель вьются.Гёте И. В. Собрание сочинений в тринадцати томах. М., ОГИЗ, 1947. Т. V, с. 119 Перевод Б. Л. Пастернака создает, по существу, иную метафору:
В мозгах, как на мануфактуре,Есть ниточки и узелки.Посылка не по той фигуреГрозит запутать челноки.Гёте И. В. Фауст. М., «Художественная литература», 1969, с. 95.
[Закрыть].
Жизнь языка описана здесь очень верно, и если уж в науке нам приходится строить рассуждение, руководствуясь логической структурой языка, то не следует упускать из виду и другие, более богатые его потенции.
Здесь можно спросить: с чем, собственно, связано требование предельной однозначности и точности, предъявляемое к языку естественных наук, и почему другие, более богатые средства языковой выразительности практически не используются в них? Это требование диктуется прежде всего той задачей, которая стоит перед естественными науками, – попытаться отыскать некие упорядоченности в необъятном многообразии явлений окружающего мира, другими словами, понять эти разнородные явления, сведя их к простым принципам. Надо постараться вывести особенное из всеобщего, понять конкретный феномен как следствие простых и общих законов. Формулировка общего закона допускает использование лишь небольшого числа понятий, иначе закон не будет прост и всеобщ. Далее требуется, чтобы из этих понятий можно было вывести бесконечное многообразие возможных явлений, причем не только описать их качественно и приблизительно, но и ответить максимально точно на каждый конкретный вопрос. Очевидно, что понятия естественного языка со свойственной им неточностью и нечеткостью никоим образом не допускают такой возможности. Если из данных предпосылок требуется вывести последовательность заключений, число возможных звеньев в цепи зависит от точности предпосылок. Вот почему основные понятия, используемые в формулировках общих естественнонаучных законов, необходимо определять с наивысшей точностью, но это удается сделать только в строго логической системе, а в конечном счете – с помощью математических абстракций.
Поэтому в теоретической физике мы дополняем и уточняем естественный язык, сопоставляя основополагающие для определенной сферы опыта понятия с математическими символами, которые могут быть соотнесены с фактами, то есть с результатами измерений. С тех пор как 300 лет назад Исаак Ньютон написал свой знаменитый труд «Philosophiae naturalis prinicipia mathematical», подобное дополнение и уточнение естественного языка с помощью математической схемы считалось всегда подлинным основанием точного естествознания. Эту схему можно назвать искусственным математическим языком. Значение основных понятий и сопоставленных им математических символов устанавливается благодаря системе дефиниций и аксиом. Символы связываются математическими уравнениями, которые и можно считать точным выражением так называемых законов природы. Эти уравнения и выражаемые ими законы природы считаются верными, если нам удается вывести из законов природы – в качестве возможных решений системы уравнений – бесчисленное множество конкретных явлений, например если удается с высокой степенью точности вычислить время лунного затмения или траекторию искусственного спутника.
Впоследствии оказалось целесообразным вновь включить элементы этого искусственного математического языка в естественный язык, ввести в него, например, наименования некоторых математических символов, допускающих в какой-то мере наглядное эмпирическое истолкование. В результате такие понятия, как энергия, импульс, энтропия, электрическое поле, стали терминами обыденного языка. Добавлять сверх этого что-либо еще, казалось, не было нужды, и после того, как произошло отмеченное расширение языка, его сочли вполне достаточным для описания и понимания природных процессов.
Только в современной физике произошла здесь, можно сказать, пугающая перемена. С проникновением в области, непосредственно недоступные нашим ощущениям, язык наш порою тоже начинает отказывать. Подобно затупившимся инструментам, понятия нашего языка по отношению к новому ускользающему от них опыту оказываются уже некорректными. Такая возможность отмечалась в принципе уже давно, несколько веков назад. В повседневной жизни каждый понимает смысл слов «наверху» и «внизу». Тела падают вниз, а наверху синее небо. Убедившись, однако, в шарообразности Земли, заметили, что обитатели Новой Зеландии явно перевернуты относительно нас в пространстве, и с нашей точки зрения они как бы висят вниз головой. Можно было, правда, быстро успокоиться, попросту назвав направление к центру Земли направлением «вниз», а от центра – направлением «вверх», и тем самым вроде бы преодолеть трудность. Но в нашу эпоху можно запускать ракеты в космос, и вполне вероятно, что через несколько лет человек на космическом корабле более или менее надолго покинет Землю; для экипажа этого корабля понятия «наверху» и «внизу», как легко понять, вообще утрачивают всякий смысл. И все же довольно трудно представить, как чувствуют себя люди в мире, лишенном определений «верха» и «низа», как они говорят и что думают о нем.
Понятно, стало быть, что проникновение в новые области природы порой влечет за собой изменения в языке. Но в первые десятилетия XX века нам пришлось столкнуться с поразительным обстоятельством. Проникнув с помощью современных технических средств в новые сферы природы, мы узнали, что даже такие простейшие и важнейшие понятия прежней науки, как пространство, время, место, скорость, становятся здесь проблематичными и требуют переосмысления.
Космический корабль снова может послужить примером для разъяснения связанных с понятием времени проблем, с которыми столкнулись в эйнштейновской теории относительности. Допустим, космический корабль с большой скоростью удаляется от Земли и движется в космическом пространстве; допустим далее, что удается достаточно долго поддерживать связь между кораблем и Землей. Пусть на корабле имеются часы, сконструированные точно так же, как соответствующие часы на Земле, и откалиброванные по воспроизводимым физическим процессам. Тогда на основании поступающих с космического корабля сообщений наблюдатель на Земле в состоянии контролировать правильность корабельных часов. Он придет к заключению, что они идут чуть медленнее, чем земные часы. Космонавт же, который по сигналам, поступающим с Земли, тоже может сопоставить ход своих часов с ходом часов на Земле, придет к противоположному заключению: для него медленнее идут часы на Земле. Известные нам законы природы не позволяют сомневаться в том, что результат наблюдений был бы именно таков. Как же тогда вообще разумно сравнивать время на Земле и на корабле? Когда следует называть два события «одновременными», если одно из них происходит на Земле, а другое далеко от Земли, на космическом корабле? Если, например, мы отметим на Земле момент получения сигнала с космического корабля, то момент времени на корабле, который следует назвать «одновременным» с этим событием, наступит, во всяком случае, позже момента, когда был послан сигнал. И этот момент по необходимости наступает раньше момента, когда на корабле принимают сигнал с Земли, посланный сразу же по получении первого. Поначалу нельзя решить, где же в этом интервале находится точка одновременности. Я не могу входить здесь в содержательный разбор проблемы переопределения понятия времени, решенной теорией относительности. Для нашей темы достаточно, впрочем, отметить то обстоятельство, что в новой сфере опыта слово «одновременность» поначалу утратило смысл, подобно тому как на космическом корабле утрачивают смысл понятия «наверху» и «внизу», а это значит, что и здесь оказалось невозможным по-прежнему применять важные устоявшиеся в языке понятия.
При таком положении дел на первый взгляд вообще удивительно, что физики продолжают говорить об экспериментах и умеют их теоретически интерпретировать, так как основополагающие понятия их языка, а стало быть, и мышления перестают работать. К счастью, эти трудности оказываются менее серьезными. Возьмем все тот же пример с космическим кораблем. Физику, поддерживающему на Земле связь с кораблем – то же самое можно сказать и о космонавте, – при описании своих экспериментов нет нужды знать, что означает слово «одновременность» применительно к столь удаленной системе. Ведь для каждого из них эксперименты осуществляются в собственном небольшом пространстве, а для описания подобных процессов вполне достаточно обычного языка, точнее языка классической физики. А потому в пределах небольших пространств связь между математическими символами теоретической физики и опытами устанавливается без затруднений, то есть точно так же, как и в прежней физике. И только благодаря этому удается установить, правильно или неправильно описывает математический формализм теории относительности законы природы. Собственно, именно так и могли быть найдены ее законы. Трудности возникают, лишь когда мы пытаемся, опираясь на знание точных законов природы, сформулированных в теории относительности, говорить о пространственно-временных отношениях в целом. Обычного языка здесь уже недостаточно.
С момента открытия теории относительности прошло более полувека, поэтому допустимо поставить вопрос о языке в историческом плане. Каким языком на деле пользовались физики, говоря о пространственно-временных отношениях в целом? Был ли язык экспериментальных описаний непосредственно согласован с искусственным языком математики, который, как мы знаем, верно описывает реальные соотношения, или же они были оторваны друг от друга? И если в большинстве случаев довольствовались приблизительным указанием, то всюду ли, где была необходима точность, приходилось ограничиваться искусственным языком математики?
В теории относительности разговорный язык в самом деле соответствовал искусственному математическому языку. Забегая вперед, хочу заметить, что в квантовой теории, о которой речь пойдет ниже, положение было иным. В теории относительности мы привыкли к тому, что по предложению Эйнштейна стали всегда добавлять к слову «одновременно» слова «относительно определенной системы отсчета», сохраняя тем самым точный смысл понятия одновременности. В результате вопрос о том, какие же часы отстают на самом деле, а какие только по видимости, некогда бывший предметом жарких дискуссий, стал бессодержательным и за последние десятилетия фактически не дискутировался. Столь же бессмысленно решать вопрос, действительно или мнимо сокращение движущегося тела в направлении движения, описываемое формулой Лоренца; эта проблема также могла быть предана забвению. Мы свыклись теперь с мыслью о том, что мир «в действительности» не таков, каким рисуют нам его обыденные понятия, и в новых сферах опыта мы должны быть готовы столкнуться с парадоксами.