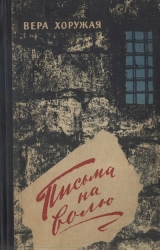
Текст книги "Письма на волю"
Автор книги: Вера Хоружая
Соавторы: Коллектив авторов Биографии и мемуары
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 19 страниц)
Видя, что так неосторожно сообщенные столь потрясающие новости вас необычайно встревожили и взволновали, спешу вас успокоить сообщением, что жизнь наша все-таки идет нормальным ходом: мы учимся, в дозволенные часы поем и в не предусмотренные нашей программой болтаем, мечтаем, вспоминаем. По правде сказать, очень трудно отдавать всю душу товарно-торговому капиталу, борьбе «кавалеров» с «круглоголовыми» и младогегельянству, когда хоть не очаровательно, но оглушительно орут лягушки, упоительно поет соловей и даже через решетки заливают камеру душистые волны запахов сирени, цветущих кленов, груш и каштанов. Ведь всего этого мы и издали не видели три года. Но больше всего меня «выводят из равновесия» песни молодежи, катающейся на лодках по реке. Тогда я уже, да и не только я, выдержать не могу.
Но ничего – все это, как видите, меня не только не приводит в отчаяние, но и очень легкомысленно настраивает, что вовсе не соответствует «takiej starej więźniarce»[49]49
Такой старой узнице.
[Закрыть].
26 июня 1929 г.
Товарищу М. Златогорову[50]50
Писатель. В то время пионервожатый в городе Минске.
[Закрыть].
Дорогим, незабываемым сюрпризом были для меня и твое письмо и приветствие пионеров, вот была у нас радость! Перед нами сразу раскрылась обычно закрытая для нас книга жизни. Весь широкий мир живет в наших думах, а в то же время знаешь, чувствуешь, что он далек, неизмеримо далек…
Ты пишешь мне о громадных достижениях крупной промышленности и сельского хозяйства в СССР: дух захватывает от радости, гордости, счастья. Но чтобы ты, чтобы вы все еще ярче и глубже почувствовали и узнали цену ваших побед, киньте на мгновение взгляд сюда, в Польшу. Вы увидите избы и гумна без крыш, потому что этими крышами кормили всю зиму скот, увидите пухнущих и умирающих с голоду детей, ибо нет уже даже такого «деликатеса», как кожура от картошки. Организованные рабочими и крестьянами комитеты помощи голодающим распускаются полицией, считающей, что для голодающих достаточно… молитв варшавского епископа и христианского смирения.
Добавьте к этому бесконечный скрип огромного множества тюремных ворот, проглатывающих все новые и новые группы политических заключенных, а также равнодушно произносимые приговоры:
«Skazany na 15 lat ciężkiego więzienia» [51]51
Осужден на 15 лет строгого тюремного заключения.
[Закрыть], какие выносятся теперь все чаще и чаще, и одна сторона картины будет ясна зам. О другой стороне писать не могу, дополните картину сами…
И знаешь, что пишут мне мои товарищи?
…Нет, жизнь – прекрасная вещь. Жить, чтобы бороться, жить, чтобы быть бойцом, смелым и сильным!
Всего не напишешь. Когда вновь встретимся, расскажу тебе много любопытных вещей.
О том, что часто угнетает оторванность от воли – от живых людей и работы, – писать не буду. Ты понимаешь это сам.
…Октябрятам и пионерам посылаю отдельный ответ. Можно ли выразить все то, что я хочу сказать этим маленьким борцам? Все мои товарищи шлют вам горячие приветы.
Тогда же
Октябрятам и пионерам.
Ребятки мои милые, любимые!
Спасибо вам – далеким маленьким товарищам – за заботу, за думы о нас. Ваше письмо все мы вместе прочли на прогулке. Вы, может быть, и не подозреваете, какое огромное счастье принесло ваше письмо в нашу тюрьму. Большинство моих подруг никогда не было в СССР, никогда не видело ни Красной Армии, ни пионеров. Но все они, даже не видевшие, крепко вас любят, хотят, чтобы вы были веселы и много знали, умели хорошо строить аэропланы, бегать и петь.
Вы пишете о том, что очень жалеете меня и не хотите, чтобы я сидела в тюрьме. Мне радостно знать это, но жалеть меня не надо. О, нет, совсем не надо, потому что я сама, вместе с тысячами других товарищей, горжусь тем, что я – политическая заключенная, и счастлива, что сижу недаром. Когда борьба требует от нас сидения в тюрьме, мы просиживаем долгие годы без страха и стонов, сильные сознанием, что наше дело и без нас живет и растет.
Попросите, ребята, комсомольцев, чтобы они вам это хорошенько объяснили. Пишите, милые, сколько вас всех, что вы делаете, умеете ли вы уже читать и писать. Меня очень интересует вся ваша жизнь. А я буду писать о том, как живут в тюрьме рабочие – политические заключенные.
Ну, всего вам хорошего, мои дорогие! Растите же свободные и счастливые, бейте так громко в барабаны, пойте так весело ваши песни, чтобы слышно было не только в нашей, но и во всех других тюрьмах…
23 июля 1929 г.
Подруге Р. Кляшториной.
…О своей жизни напишу в следующий раз. А теперь скажу только, что чувствую себя такой счастливой, как очень немногие. Жизнь безгранично прекрасна, а жизнь в соединении с борьбой – это счастье.
26 августа 1929 г.
Подруге X.
В странном и очень глупом положении я теперь нахожусь. В течение нескольких месяцев беспрерывно говорят о возможном освобождении. Товарищи все подробнее определяют срок, уславливаются со мной о подробностях, а тем временем месяцы, недели проходят, а мы все тихо сидим. Если бы ты знала, как это страшно волнует, выводит из равновесия. Не знаешь, на каком свете живешь, что надо делать, что стоит делать.
Понятно, что мы стараемся держаться до последнего. Но я не могу сказать, чтоб это было легко. Какие это тайные силы оттягивают нашу свободу? Уже несколько раз нам казалось, что ничего из этого не выйдет, что надо опять уложиться в рамки тюремной жизни и перестать себе голову морочить. Теперь именно переживаем мы такой период. Но это ничего: тем больше и глубже, ярче и дороже будет счастье, если оно на самом деле наступит. Ты себе это представляешь? Нет, я себе этого хорошо представить не могу. Сколько мечтаний, планов, картин! Хорошо, что у нас крепкие нервы.
Уже август. Как быстро время летит! Это хорошо, жалко только, что лето уже кончается. Видела ли ты уже жатву, часто ли бываешь в лесу, в поле?
Всех, кого увидишь, приветствуй от меня горячо, сердечно. Слов не хватает, чтобы сказать тебе, что я чувствую к ним, моим далеким, любимым. Будь же счастлива, не сиди на одном месте, везде побывай, помня о том, что я не могу быть повсюду. И пиши мне часто и много, рассказывай о людях, случаях, о далекой милой воле.
Помни, что всегда жду твоих писем, что они приносят нам радость.
Без даты
Товарищу В.
Не отвечала тебе на письмо (да еще такое!) целых два месяца. Но надо ли тебе объяснять почему? Черт подери! Попадется человек на удочку и целые месяцы живет мечтой… Но… (тут выступают на сцену трагические слова о правах, жестокой действительности, которые я не говорю, потому что еще до моего рождения на эту тему поэты и драматурги написали целые тома) все это ничего.
Право, было недурно каждый день ждать перенесения в лучший мир, но и теперь неплохо: опять берусь за книги, за уроки, опять, но, уже не прощаясь, любуюсь солнцем и небом.
А у вас там за это время сколько успехов, событий. Пиши скорее, друг милый, жду с нетерпением очередной сводки…
Встречаешь ли кого-нибудь из общих друзей. Я всех окончательно растеряла, ни о ком теперь ничего не знаю.
Не хочу, конечно, с этим мириться, но… хорошо, что можно все надежды возложить на будущее… Хорошая вещь это будущее, не правда ли?
Но мне кажется, что и настоящее у нас становится все более привлекательным. Что ты на это скажешь?
Чем веселее становится на свете, тем больше не хочется сидеть в тюрьме, тем тяжелее безделье. Но нам-то ведь не привыкать! Посидим еще, авось что-нибудь да высидим. Нет, не авось, а наверное!
30 август 1929 г.
Товарищу С.
Знаю, что получишь письмо это после МЮДа, а может быть, и вовсе не получишь, но не могу тебе не написать, не поговорить с тобой об этом дне.
Я неисправимая комсомолка. Ни один наш праздник, ни один день в году не заставляет меня так волноваться, как МЮД. Сколько боли в годовщине смерти Ильича! Сколько радости и гордости в Октябрьскую годовщину! Как рвешься на волю в день Первого мая! А МЮД для меня полон какого-то особенного чувства, какому и имени не подберешь!
Все наши праздники в тюрьме приносят нам не только прилив новых сил, не только радость, сознание, что в этот день и наш островок сливается с бушующим морем революции, но и заставляют сильнее, чем всегда, грустить, тосковать. Понимаешь ли ты это? Не прими это за проявление слабости. Мы – сильные, особенно в такие дни. Но как же не рваться в бой с новой силой, зная, что он происходит? Как же не ненавидеть всей душой, всеми нервами то, что называется тюрьмой, что нас крепко держит в лапищах, не пускает, как бы мы ни метались, ни рвались?
Да, друг мой милый, к тюрьме привыкнуть нельзя. В первый, в пятый и в десятый год тюрьмы ты так же будешь беситься и скрежетать зубами в день нашего праздника, с такой же страстной ненавистью будешь впиваться пальцами в решетку, стараясь хоть голову просунуть между прутьями, услышать хоть один звук с воли. Но не просунешь и не услышишь…
Уже четвертый раз я буду праздновать МЮД в тюрьме. Просижено уже четыре года. А у меня перед глазами все так же ярко и неотразимо стоит мой последний МЮД на свободе – в 1925 году. Как празднуется МЮД в СССР, это ты напишешь, а я тебе расскажу, как было у нас. Вот слушай!
Город Вильно. Организация после двух подряд генеральных провалов только становится на ноги, отстраивает ячейки, и все-таки к МЮДу – семь-восемь маленьких массовок рабочей молодежи и в самый день – большая, около ста человек, в лесу.
Белосток. Самый разгар подготовки, большая половина организации арестована, везде неслыханные избиения, пытки. И все-таки оставшиеся на воле комсомольцы рвутся на улицу: «В МЮД должна быть демонстрация. Мы им покажем, что нас ни испугать, ни „ликвидировать“ нельзя!» Несмотря на беспрерывные аресты, происходят массовки, подготовка идет вовсю. И вдруг новая атака. Разгромлены уже не только партия и комсомол, но и юношеские секции, профсоюзы. На свободе осталось только несколько человек, окруженных со всех сторон провокаторами, шпиками, полицией. И все-таки не сдавались. Ровно в девять часов вечера на всех ярко освещенных главных улицах города посыпался дождь комсомольских листовок.
Слоним. Пятьсот человек молодежи – не только из города, но и из деревень – демонстрируют с «Молодой гвардией» по городу, дерутся с полицейскими патрулями.
И наконец:
Лида. В назначенном пункте города собирается молодежь. Пока что это – только воскресная толпа гуляющих. Но вдруг на середину улицы выбегает парень и высоко поднимает красное знамя. В минуту он уже окружен. Движется стройная демонстрация, звучит «Молодая гвардия», лозунги, лозунги. Демонстрация приближается к казармам и тут сталкивается с возвращающейся с маневров ротой солдат. Офицер растерялся, солдаты остановились, слушают речь комсомольца, подхватывают лозунги, ловят листовки, а из переполненных окон казарм гремит: «Урра!..» А через минуту – полиция, жандармерия. Но… мы спасаться умеем. И знамя удалось спасти…
Все это было четыре года тому назад. Через месяц после МЮДа я была арестована, и теперь вот на празднике нас только несколько человек. И снова мы демонстрируем с красными бантиками, но уже на тюремном дворе.
Ничего, дружище, свобода придет, свобода будет опять. Только комсомолкой я уже никогда больше не буду… Но не надо об этом.
С воли вести невеселые. Аресты, аресты, аресты. На днях узнала, что арестованы милые, славные ребята А., В. и П. Всех их судили уже вместе со мной. Побыли они несколько месяцев на свободе – и опять в тюрьму. Еще раньше арестовали Ш. – моего старого друга, соратника и ученика. Считаю по пальцам всех своих ребят, оставшихся на свободе, и дрожу над каждым из них – на свободе ли он (или она) еще? А узнаю, что арестованы, и больно и вместе с тем радостно: значит, ребята не сидят сложа руки…
На днях получила привет от одной нашей старой знакомой Бэлы[52]52
Имя по документу, которым пользовалась в подполье Мария Давидович – коммунистка, активный работник КПЗБ. Подруга В. Хоружей по комсомолу Белоруссии в начале 20-х годов.
[Закрыть]. Она сидит в Варшаве в строгой изоляции. Писать вам она не может. Она здорова, только томят ее очень одиночество, изоляция.
Шлю тебе и всем к МЮДу мой сердечный пламенный привет. Я хочу на волю!..
Тогда же
Товарищу Л. Розенблюму.
Уже потеряла всякую надежду, что ты отзовешься. Китайцы ли тебя убили на фронте, или ты просто в воду канул?.. Не знаю, но только в нашей дыре о тебе ничего не было слышно. Наконец получила твое письмо, в Котором ты описываешь ваше строительство. Что за радость у меня, у всех нас сегодня, что за торжество! Да, всего не напишешь, но можно написать многое. И какой же ты молодец, что сделал это! Целый день стоят у меня перед глазами новые фабричные корпуса, я слышу шум машин, гул творческого труда. Радость, гордость и любовь – не знаю, что сильнее, – вот три чувства, неразрывно связанные с думами о вас.
Вспомнила, что ты пишешь о том, как мы изменились. Да, мы теперь стали серьезнее и вдумчивее, чем в молодости, но восторгов никак не меньше. Расчеты восторга не заменили, а просто прибавили, заняли новое место. Надо бы тебе видеть, как мы тут восторгаемся и письмами, и новым цветком на тюремном дворе, и новостью из газет о демонстрации, и солнцем, и небом, и… своими мечтами о будущем. Да и вы там, верно, восторгаетесь не меньше нашего, только масштабы у нас разные…
От сегодняшнего дня через месяц у меня юбилей. Отсижено уже четыре года. Солидная цифра, правда? Как хорошо, что она уже за плечами. А впереди еще четыре года или… может быть, четыре месяца, четыре недели? Это можно только чувствовать, но писать об этом нельзя. Что делается в душе… Пойми только, пойми.
Пугает меня немножко то, что я выйду из тюрьмы ужасно отсталой дубиной. Сам ведь говоришь: «Одна форма, наилучшая сегодня, никуда не годна завтра». Так вот эти-то «формы» прими как очень растяжимое понятие и пойми, что старые формы мне хорошо известны, о маленькой части новых я кое-что слышала, а о большинстве понятия не имею. От всех новых «форм» я буквально отгорожена каменными стенами и не на один год.
Ну да ничего! Недавно вышел из тюрьмы один товарищ, который просидел десять лет (с 1919 года) с двухмесячным перерывом, и знаешь – даже в первых его письмах со свободы я не нашла никакой растерянности, он как-то сразу крепко почувствовал под ногами почву, хоть и измененную до неузнаваемости. Живой человек найдет себе место в живой жизни. Ничего, я не унываю, хоть иногда больно и тяжело до чертиков сознание, что жизнь семимильными шагами идет вперед, а ты ничего, ничего не только не делаешь, но и не знаешь.
Иногда перед нами с особенной остротой встают «неразрешимые» вопросы, и тогда мы мечтаем: «Хоть бы часик поговорить с умным человеком», а Б. обыкновенно добавляет: «Или прочесть „Правду“». Но так как у нас нет ни «умного человека», ни «Правды», то напиши, что говорят у вас о Гаагской конференции, о переговорах с Англией. Ну хотя бы только об этом. А сколько, сколько хотелось бы еще спросить, узнать!
Фордом – это такая чертова дыра, каких на земном шаре, верно, очень мало. То, что в ссылке в Сибири политическим было гораздо лучше, чем нам в тюрьме, – это для нас уже вопрос давно решенный, и Мария[53]53
М. Вишневская – активный работник Компартии Польши.
[Закрыть], которая была два раза в ссылке, это подтверждает. Теперь же мы спрашиваем себя: не лучше ли на необитаемом острове, чем в Фордоне? Видишь, что за робинзонада в двадцатом веке, в эпоху радио, телевидения и прочих чудес техники.
Ну, всего. Всем, всем шлю сердечные пламенные приветы. Будьте сильными, растите скорее и крепче, растите, мои родные. О нас не печальтесь: мы, если не особенно растем, то, во всяком случае, здорово крепнем…
P. S. Письмо это ты получишь о сентябре[54]54
Накануне МЮДа.
[Закрыть]. А я о начале этого месяца не могу спокойно думать, да и слов не нашла бы, если бы хотела тебе сказать все, что чувствую. Пусть скажет тебе все мой пламенный привет, который шлю вам всем, всем к этому дню. Я буду с вами, все мы будем среди вас. Привет вам, привет!
Лето 1929 г.
Школьной учительнице В. Тризно.
Милая, милая Вера Николаевна!
Пишу Вам со светлой радостью и с большим волнением. Ведь теперь как раз исполнилось 10 лет с тех пор, как я окончила школу. Как это много!
Но через это десятилетие, полное огромных событий, замечательных встреч и незабываемых переживаний, я пронесла и сохранила о Вас, моя милая, дорогая учительница, светлую, дорогую память.
Да, Вера Николаевна, я помню, что в детстве моей заветной мечтой было стать учительницей, и такой именно, как Вера Николаевна. Я помню, что для меня уроки Ваши были большим удовольствием, и те часы, когда я помогала Вам в школьной библиотеке, – наслаждением. Я никогда не забуду Вашей помощи, когда нам приходилось бороться в педагогическом совете с реакционно настроенными учителями, не забуду Вашей работы в первой школе для рабочей молодежи. Все это было так давно…
И вот теперь, через 10 лет, за границей, в тюрьме, я узнаю, что Вы не только помните меня, но и написали мне письмецо! Поймите же, Вера Николаевна, мою радость, мою нежную благодарность к Вам! Я хочу Вас видеть, Вера Николаевна, я хочу с Вами много и долго говорить…
В эти годы величайших сдвигов Вы не остались у меня только милым воспоминанием, образом прошлого, о нет, я встречаюсь с Вами в новом мире, на новых путях, и от этого радость моя еще больше, еще глубже любовь и уважение к Вам.
Как это хорошо, что я не потеряла Вас в бурных волнах нашей жизни, что еще, может быть, встречу Вас, увижу Вашу работу в новой свободной школе, очищенной от притворства и унизительной лжи, свободной от гнета, душившего всякую инициативу, всякую новую мысль. Я не имела счастья учиться в такой школе, но я горда ею и полна радости за теперешних наших детей, за Вас.
Шлю горячий сердечный привет Вам, Вера Николаевна, Вашим ученикам и товарищам по работе!
30 сентября 1929 г.
Подруге Р. Кляшториной.
…Продолжай писать таким же описательным методом, и я много узнаю о вашей жизни. Ведь для меня каждая строчка о вас – чудная поэма. Непременно, непременно опиши подробно и рабфак, и комсомольские школы, и кружки, и людей. И вот еще что: скажи мне, как стоит там теперь у вас вопрос о детях? Держите ли вы курс на помещение их в детские дома?
От тебя да и от других ребят я узнала, что вы держите своих малышей у себя. Меня это, признаюсь, удивило. Я знаю, что государство еще не в силах взять на себя целиком воспитание детей. Но вы сами-то могли бы путем взносов организовать детские дома и таким образом обеспечить детям правильное воспитание. Разве дешевле вам обходится содержание ребенка, а часто и няни при себе? Не говорю уже о возне с ребенком, о неуменье воспитать, о необходимости пользоваться наемным трудом…
Вопрос этот очень меня интересует, с нетерпением жду твоего ответа.
Без даты
Товарищу С.
…Карточки[55]55
Продовольственные.
[Закрыть] перестали нас тревожить. Мы поняли суть того, что у вас происходит, и тревога сменилась восторгом. Да и как не восторгаться, когда перестраиваются в вашем доме не балкончики, а самый фундамент. Что говорить о нас, когда ваши заграничные «приятели» пошипят, посплетничают, а от времени до времени и катнут такую статью, что даже глаза от удивления протираешь. Вот на днях в журнале «Торговля и промышленность» читала статью о промышленности в СССР. Цифры они там уменьшили, всячески старались ослабить впечатление, а оно все-таки получилось огромное. Да, сдвиги «головокружительные»! Хочется читать о вас, знать хоть частицу того, что происходит.
Все лето у нас не было новых книг. Но на последней неделе я прочла несколько, присланных нам друзьями. Много новых мыслей и проблем они нам принесли. Той книжки, о которой ты спрашиваешь, у нас два тома[56]56
Речь идет о первых томах романа М. Шолохова «Тихий Дон».
[Закрыть]. Кончается сценой расстрела. Неужели есть и дальнейшее содержание? О, это будет большая радость для всей нашей братвы. Хорошая это книжка, полная интереса, широкое полотно, яркие и живые люди… Разговоры, описания боев, картины быта просто незабываемы, прекрасны.
Скоро попрошу у тебя еще книг, и ты пришли тогда. Теперь же пока не присылай, а то в тюремной канцелярии и так лежат еще «нецензурные» книги.
У нас теперь такая осенняя тишина. Только где-то звякают ключи – и больше ни звука. Но ты меня не утешай. Я не ною, не хандрю. Нет, работаю (и теперь вот могу тебе писать в неурочное время только потому, что заболела одна моя ученица, и я отложила с группой урок) много, и на душе у меня радостно и светло. Пойми, что не может быть иначе, что нельзя воспринимать иначе, не переставая быть собой.
2 октября 1929 г.
Ему же.
…Твое сообщение о тридцатипятипроцентном росте валовой продукции – прекрасный для нас подарок. Вот это славно. А. мне писал, что пятилетний план был изменен в сторону увеличения задания. Просто не помещаются в душе вся радость, вся гордость, уверенность. Помнишь:
Мою любовь, широкую, как море,
Вместить не могут жизни берега.
Люблю я эти слова и часто их повторяю. Пиши же, сообщай больше новостей, а то нам деваться некуда от аршинных телеграмм о советско-китайской войне, о конференции в Гааге. Конференция эта, конечно, очень «интересная» вещь, но нам бы хотелось знать еще кой о чем. Всеми частичками души чувствую ароматы жизни, через тюремные стены слышу биение ее сердца. Вот вчера еще только сделала открытие, что я, да и все мы, вероятно, удивительно мало остаемся мыслями в тюрьме. Я заметила, что промелькнут одна-две мысли о нашей здесь жизни и тотчас же исчезают, надолго уступают место мыслям о свободе.
Сегодня получила коротенькую шутливую открытку от З.: «В нашей семье все живы и здоровы, что и от тебя услышать желаем. Мне хорошо. Привет всем З.».
Видишь, несколько слов, а сколько радости мне они принесли, с какой тревогой, с каким нетерпением я этих шутливых слов ждала. Как люблю я моих друзей, как дороги они мне, как неразрывно я с ними связалась, сжилась. Когда-нибудь буду рассказывать тебе о них долго-долго с восхищением и любовью.
…У нас теперь стоят такие ярко-солнечные, прозрачно-голубые дни, что и налюбоваться нельзя. На прогулке глянешь в небесную синь и глаз оторвать не можешь. Еще несколько дней, и начнется золотая осень. Вторая осень здесь и… пятая в заточении. Каков у нас там урожай в этом году? Как с хлебозаготовками? Удержится ли дальше карточная система?
Четверостишие Светлова и мне очень понравилось. Простое, образное и сильное:
А как вы выглядите теперь? Каковы наши девушки и хлопцы? Вижу вас иногда во сне… Шлю горячие, пламенные приветы друзьям. Работайте, родные, дружно и весело.
5 октября 1929 г.
Подруге В. Хмелевской[58]58
Советская журналистка, в те годы сотрудничала в журнале «Работніца і сялянка».
[Закрыть].
Просишь написать побольше о нашей жизни в тюрьме. Но тут, видишь ли, такие дела, что я почти ничего не могу тебе написать, потому что это нам запрещено. Скажу тебе только, что среди нас нет ни одной, которая бы каялась, считала тюрьму несчастьем. Все мы – и старые и молодые – с гордостью несем свое звание политзаключенных, все мы – будь то осужденный на года или на пятнадцать лет – не знаем, что такое колебание, моральное падение или хотя бы временный упадок духа.
Тут живешь двумя думами: во-первых, как там на воле и, во-вторых, как получше использовать этот час. Можешь ли ты себе представить, что нам не хватает суток? Почти всегда, когда надо ложиться спать, думаешь с сожалением: «Уже дню конец. А надо было еще то-то и то-то проделать».
Недели летят как бешеные, а годы – кто их знает: не то мчатся, не то ползут. Нам хорошо с крепкой верой, с глубоким убеждением, с радостным сознанием, что «земля все-таки вертится».
Но можно ли удержаться от грусти? Эх, если бы ты знала, как схватит она порой, как переполнит до краев душу. Тогда-то и вырывается у тебя крик: «Я хочу на волю!» Все существо твое сливается с этим криком, хотя внешне ничем не выдаешь себя. Ходишь или читаешь, или говоришь о чем-либо, а все в тебе «корежит» от боли, кричит от мощного, но бессильного порыва. Может ли быть без этого? Но это нас не сломит, не ослабит – наоборот, закалит, заставит еще сильнее любить волю.
…Мне всегда хочется писать «Воля» с большой буквы. Есть еще несколько таких слов…
Ну, вот и написала. Теперь видишь нашу жизнь…
Без даты
Подруге А.
…Скажи мне, как будет введена пятидневная неделя в вузах? На фабриках я это понимаю, но в школе, где все должны учиться одновременно? Хочу это знать.
Много интересного пишут мне мои друзья. Сердце радуется, не вмещает всей любви к моей социалистической родине и гордости за нее.
…Нам даже странно представить себе, что у вас уже снег и мороз. У нас же так тепло, что можно гулять без пальто.
О моем смехе не беспокойся. Не утихает он и теперь. Работы много, работаю с удовольствием, а ученики мои – и пятидесятилетние и двадцатилетние – с не меньшим. Сама тоже учусь.
Хорошо у нас, живо, интересно, особенно тогда, когда о нас не забывают. Геня[59]59
Г. Юхновецкая – член КПЗБ. На процессе «34-х» была приговорена к 12 годам тюремного заключения. Погибла в годы Отечественной войны в борьбе с фашистскими захватчиками на территории Польши.
[Закрыть] кашляет, но не болеет. Берта [60]60
Б. Штейман – активистка КПЗБ, была приговорена к 15 годам тюремного заключения.
[Закрыть] держится. Зина [61]61
З. Клейф – активный работник КПЗБ.
[Закрыть] укладывает свои припадки в рамки десяти-пятнадцати минут (на большее времени не хватает). Одним словом, крепкий курс против богадельни.
5 ноября 1929 г.
Сестре Любови.
…У нас уже настоящая осень, холод и дожди. Но это ничего. Осень не портит моего настроения. Жизнь светлая, дорогая и осенью. Теплая кофточка у меня есть, не волнуйся. О нас не забывают. Хоть нас в тюрьмах много, но друзей у нас на воле еще больше.
Что я делаю? Немного учусь сама, учу других. Поверишь ли, у меня, у всех нас столько работы, что дня не хватает. Время летит так быстро, что только радоваться надо. Уже начало ноября, уже пошел пятый год заключения. Это – большая цифра. Что ты успела за эти годы, как выросла? А я сижу на месте. Но ничего, и мы еще повоюем.
…Надо кончать. Скоро погасят электричество. А что, если бы ты вдруг пришла ко мне, в мою камеру? Как бы мы поговорили с тобой. Ну, ничего, поговорим еще…
22 ноября 1929 г.
Подруге А.
…Если бы ты знала, если бы ты могла понять, как бесконечно дорога память старых друзей, как радостно, светло думать, что там, на свободе, далеко-далеко есть родная, близкая душа! Иногда так бывает, что всех старых милых друзей как ветром разнесет, раздует во все стороны, ничего ни о ком не знаешь, кажется, что между нами не одна тюремная стена, а целая сотня. Тогда бывает невыразимо тоскливо, и свобода становится каким-то абстрактным понятием, а не живым, близким, знакомым. И это больно, ох, как больно! А у меня за эти годы уже бывало так не раз.
Хочу поговорить с тобой сегодня так задушевно, как мы никогда не говорили. Да разве было когда-нибудь так, как теперь? Какая чудная, бесконечно интересная наша жизнь…
Так хорошо и тепло на душе от мысли, что ты на свободе. Как это смешно! Тут, в тюрьме, я иногда ловлю себя на радости, что В., П. и Р. на свободе. Как будто все должны или могут не быть на свободе!
Пишешь, что у вас много солнца. Хорошо, хорошо. Хочу, чтобы у вас всегда было солнце, радость и песни…
Что же тебе написать о себе? Знаешь, очень хочется на свободу. Всегда, всегда. Так сильно, так неудержимо. Но это сильное желание наполняет не меланхолией, не тоской, а огнем. Ведь время летит, каждый день приближает к свободе. Ни один день не пропадет даром – уменьшает срок. А к тому же огромнейшее желание учиться. Дни заполнены целиком, не хватает времени. Здесь ужасная глушь, и поэтому хочется ближе чувствовать свободу, чаще получать письма. Прими это во внимание и пиши чаще.
25 ноября 1929 г.
Подруге Г.
Обращаюсь к тебе за разрешением весьма важной проблемы: допустимо ли, чтобы у политзаключенного на пятом году сидения был такой день, когда ничего не хочется делать? Вот у меня сегодня такой день. Мысли и воспоминания выбили нас из «научной колеи», все умные книжки отложены в сторону, и мы сегодня, по правде сказать, больше смеялись, чем делали что-либо другое… А что ты делала весь день? О, если бы сравнить наш день и ваш! Но ничего! Мы еще поработаем, только можно ли отработать за минувшие годы? Мне кажется, что нет, ибо тогда я буду работать за «сегодня», а не за «вчера». Ты пишешь: «Выходи скорей!» О, как бы я уже вылетела, а не вышла, но…
2 декабря 1929 г.
Товарищу М. Златогорову.
Решила написать тебе спокойное письмо. Но разве это возможно? О нет! Как подумаю обо всех вас, как вспомню твое последнее письмо, спокойствие бесследно исчезает, а изо всех уголков души рвется бурный восторг. С трудом удается выбрать из всего вороха дум и чувств то, о чем хочется тебе рассказать в первую очередь.
Ну хорошо, прежде всего о социалистическом соревновании. Как жаль, что ты не был среди нас в тот момент, когда мы читали твое письмо, что ты не видел, какое впечатление произвело оно на всю нашу коммуну! Слушая рассказ об ударных бригадах, девушки буквально окаменели. Только через несколько минут обрели они снова дар речи, начали разговаривать, радоваться, удивляться, восторгаться. Трудно было себе представить, что весь тот героизм и энтузиазм, которые являлись самыми характерными чертами эпохи гражданской войны, вошли ныне в быт, стали повседневным явлением. Мы слышали о соревновании, я с особой радостью узнала, что идея его рождена комсомолом, понимала, что оно должно сыграть огромную роль в деле осуществления лозунга «догнать и перегнать», но… насколько же шире, могучее, интереснее это в жизни, чем в наших представлениях!
Знаешь ли ты, как дорога мне каждая ниточка, которая связывает меня с живой жизнью? Не могу тебе больше писать, как и осуществлять другие свои желания. У нас также, хоть и на свой лад, напряженные прекрасные будни. Не хватает суток. Но ничего не значит, что прошла неделя, месяц. Нет! Это ведь значит на неделю, месяц ближе к воле…
11 декабря 1929 г.
Ему же.
…Живые факты вашей действительности способны захватить друзей, смутить врагов. И одни и другие делают свои выводы. А я вот вчера вместе со своей соседкой по камере вспоминала о живых фактах нашей действительности – о некоторых товарищах, осужденных по уголовным статьям кодекса законов. Один из них – пожизненно. Вот где нужна сталь и моральная сила, чтобы в безмерно тяжелых условиях не сломаться, сохранить свое лицо! Подумай – жить среди бандитов и воришек, без газет и книг, без бесед с товарищами, за бессодержательной каторжной работой, под «ласковой опекой», удваиваемой или утраиваемой после каждого шага, сделанного не по регламенту…
Таких много. Вот и сейчас вспомнила еще пять-шесть пожизненно осужденных. Вечная тюрьма? Конечно, не вечная, но все же невыносимо тяжелая. А все же выносят! Сохраняют и бодрость и веру в «завтра». Выковываются люди.
Много не напишешь на этих редких листочках, надо рассказывать, много рассказывать такого, что должно быть широко известно. Вот, когда встретимся, заберемся куда-нибудь, и будет беседа бесконечная, захватывающе интересная. А тогда берись за перо и пиши, рассказывай свободной советской молодежи о том, «как пахнет жизнь» у ее товарищей, близких соседей.
14 декабря 1929 г.
Товарищу С.
…А мы теперь живем особенно интенсивно. Никогда у нас в стенах тюрьмы не было тихо, но теперь особенное настроение. Отовсюду такие хорошие вести! Конечно, немало и плохих, но они как-то стираются, уходят на второй план, а тон задают именно радостные. Если бы ты знал, с каким нетерпением мы ждали подтверждения своего вывода о наступлении. Вторичного, во сто раз более сильного и решающего. Дождались и торжествуем. Хочется еще подтолкнуть вперед, сильнее накалить, ярче выразить. Но… сиди и «не рыпайся». Что же, посидим еще. А все-таки чудесное «скорей» не только живет, но и мчится вперед. Вспоминается Маяковский: «Мы идем! Не идем, а летим! Не летим, а молньимся!» Одним словом – хорошо, чудно хорошо!!! Обо всем хочется спросить: и о Китае, и об урожае, и о коллективизации, и о тысяче других вещей. Но напишешь ли? Не найдет ли опять на тебя «молчанка» на несколько месяцев? Ой, только не это! Прошу тебя очень, очень. Сегодня столько тебе надавала поручений, столько поставила неотложных вопросов, что, боюсь, придется тебе потратить немало времени на все это. Но знаю, что все это сделаешь, исполнишь. Ну, пусть бы сейчас можно было тебя увидеть! Вижу тебя, твои движения, улыбку, слышу твой голос, но все это не то. Настоящее! Пусть оно будет! Представляешь ли себе его ясно? Нет, все представления бледны и бескровны. Ты увидишь! Мы увидим, мы будем пламенеть радостью, мы, счастливые, будем громко смеяться…








