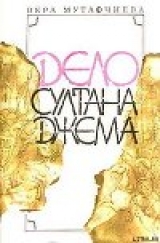
Текст книги "Дело султана Джема"
Автор книги: Вера Мутафчиева
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Вера Мутафчиева
Дело султана Джема
Предисловие
Имя султана Джема давно забыто, а между тем несколько сот лет назад оно было у всех на устах. В ту пору – сотни лет назад – о Джеме слагали стихи и писали романы, ему посвящались бы и газетные подвалы, существуй газеты и газетные подвалы в его времена; о Джеме слагали песни странствующие певцы. В семнадцатом веке не найти темы более напряженной, более волнующей, чем история Джема (или Зизима, как его называли на Западе).
Как это часто бывает, для писателей и поэтов Джем явился лишь поводом, канвой, по которой они вышивали узор собственных измышлений. Для семнадцатого столетия Джем был злосчастным узником и коварно обманутым возлюбленным благородных дам, так же, как и он, томившихся в заточении; они видели в Джеме кристально чистого юношу, жертву придворных интриг и людского жестокосердия.
То был, по сути, не настоящий Джем, а герой семнадцатого столетия. Он с одинаковым правом мог бы носить любое другое имя, однако имя Зизим имело свои преимущества: оно было восточным, нашумевшим, окруженным ореолом таинственности.
Пошумел и отшумел романтичный страдалец Зизим. Восемнадцатый век привел с собой иных героев; и уж совсем иных – век девятнадцатый. Что ж побуждает нас сегодня вернуться к Джему?
А то, например, что тайна Джема и по сей день не раскрыта. Правда, спустя четыре года после смерти тело его было вырыто из могилы в доказательство того, что Джема не существует более. Однако нам важна не смерть его, а жизнь, подлинная его жизнь, которую в свое время никто не пожелал описать.
Мы возвращаемся к Джему еще и потому, что он был не просто печальной жертвой людей и обстоятельств Судьба Джема показывает, что некоторые истины отнюдь не новы, что они сохранили значение и для нашего времени; что есть истины великие, вечные, чему свидетельство – человеческая история. Скажем, та истина, что между человеком и его родиной существует сложная связь, правда пока еще не нашедшая точного определения («Без корня и полынь не растет»,– говорят одни, а другие противопоставляют этому: «Нет пророка в своем отечестве»); однако истина эта бессмертна, и пока существуют на земле люди, пока у человека есть родина, будет существовать и тема – судьба изгнанника.
И по третьей причине возвращаемся мы сегодня к Джему. В его судьбе на протяжении полутора десятилетий – в самом конце пятнадцатого века – с полной очевидностью выявились подлинная сущность и противоречия европейской восточной политики. Позже «дело Джема» назвали «началом восточного вопроса» – вероятно, по праву.
Следует понять, что «восточный вопрос» начался не с продвижения России к теплым морям и не с усилий Запада помешать этому продвижению, а с усилий того же Запада задержать развитие европейского Востока, бросив его на произвол судьбы, предав многовековым страданиям. Никогда освобождение только что порабощенных Балкан не было столь легко достижимым, как во времена Джема. Запад пренебрег этой возможностью не случайно. Некоторые полагают – по ошибке, плохо рассчитав. Неправда – расчет был точен. Этому расчету мы «обязаны» очень многим. Говоря в самых общих чертах – своим запоздалым развитием; о перенесенных страданиях упоминать не станем: в истории нет места сантиментам.
Вот по этой-то, главным образом, причине мы и возвращаемся к судьбе султана Джема. В течение весьма длительного времени нас пытаются убедить, что события на Балканах, завершившиеся их балканизацией (термин, в котором если и нет прямой обиды, то снисходительность присутствует безусловно), были исторически предопределены. Что, мол, поделаешь! Кто виноват, что Балканы являются преддверием Востока и принимают на себя все нашествия варваров. Мы-де понимаем вашу боль, по география есть география, она вне человеческой воли.
Нас, видите ли, понимают, Однако, зачем нам скрывать, что мы тоже кое-что понимаем? Понимаем, например, что в «деле султана Джема» (как в любом другом деле) не следует искать ни исторического предопределения, ни географических факторов. В действительности за ним стояла воля некоторых людей, направлявших «восточный вопрос» в самых его истоках. Этим людям сыграли на руку и географические факторы, и предопределенность. Они умело использовали и то и другое.
В сущности, все не столь уж сложно. И мы и наши оппоненты отлично знаем, что в человеческой истории нет места состраданию. После того как нас обрекли на все то, что благопристойно называют «историческим предопределением», излишне делать благопристойный вид. Наше печальное преимущество в том, что мы можем оаскрыть правду о «деле султана Джема».
Свидетели по этому «делу» давно мертвы, но при современных методах судопроизводства несложно заставить говорить и мертвых, коль скоро речь идет о деле крупном. Вряд ли они станут противиться, им – что! Они могут ожидать лишь приговора истории. Этот приговор никому не причинит вреда, поскольку выносится он заочно и условно.
Вера Мутафчиева
Часть первая
Показания Великого визиря нишанджи[1]1
Нишанджи – глава канцелярии, прикладывавший печать, тугру, к указам султана. – Здесь и далее примечания переводчика.
[Закрыть] Мехмед-паши о событиях с 3 по 5 мая 1481 года
Рано утром, чуть свет, меня разбудил чей-то голос. Я вскочил в испуге – великого визиря не станут будить из-за пустяка.
Уже поднявшись, попытался я разглядеть того, кто ко мне ворвался. В полутьме с трудом узнал его: это был один из юных телохранителей султана.
– Что случилось? – спросил я. Мехмед-хан приучил нас к подобным неожиданностям; сам он, казалось, никогда не спал.
– Паша, – отвечал он, – этой ночью почил Мехмед-хан.
Я обмер. Всем нам известно, что судьба шествует своими путями и подносит человеку то, чего он менее всего желает, но это было уж чересчур: Мехмед-хан не мог избрать для смерти более неподходящий час.
Все то, что побудило меня предпринять те или иные действия – я говорю о предпринятом мною между 3 и 5 мая, – тогда еще не определилось как мысль или решение. Я лишь понимал, что Мехмед-хану не следовало умирать, что его смерть очень многое изменит в моей судьбе, в судьбе всех нас, нашего государства, всего мира. Эти еще смутные соображения заставили меня приказать телохранителю:
– Молчи! Будь нем как могила! Кому известно о случившемся?
– Мне… и постельничему султана… – ни жив ни мертв, проговорил юнец. Он знал, что его слова означают смертный приговор им обоим.
– Оставайся здесь! – бросил я ему через плечо. Потому что следовало распорядиться насчет постельничего.
Я послал за ним Юнуса, моего немого суданца.
Пока я одевался, он уже привел его ко мне, крепко держа за шиворот.
– Покончи с ними немедля, здесь же, в моем шатре! Только отверни ковер, чтобы не забрызгать! Потом запихнешь под мое ложе, а вечером зароешь где-нибудь!
Пока я наматывал чалму и пристегивал ремень с оружием, немой Юнус прикончил обоих и все сделал, как я велел.
«Идем!» – жестом приказал я ему следовать за мной.
Помню, я удивился, что день еще не наступил. Короткий промежуток между известием, принесенным телохранителем, и его собственной смертью показался мне несколькими часами. Я окинул взглядом лагерь. Лагерь спал. «Это хорошо!» – подумал я. Шатры раскинулись далеко, куда хватал глаз. Двести тысяч воинов, собранные от Сербии до Персии, кто – правоверный, кто – нет, вступившие в войско и по своей воле и против воли, спешили урвать последний час сна перед походом. Да, прошел слух, что именно сегодня мы выступим в поход.
Вы спросите: куда? Не знаю, как, судя по всему, не знаете и вы – за пять столетий так и не сумели доискаться, куда именно намеревался Мехмед Завоеватель повести свои войска в то утро, не заставшее его в живых. Я вижу, вас раздражает это белое пятно в ваших познаниях. А мы были к тому привычны, неизвестность не тяготила нас, ибо мы во всем полагались на великого Мехмеда Второго. Человека, которому никогда не изменяло боевое счастье.
«Идем!» – вторично кивнул я Юнусу, и мы стали пробираться между шатров. Через полотнища было слышно, как глубоко и спокойно, храпя на сотни голосов, спит наше войско. Все эти люди, возмужавшие или состарившиеся в битвах, вверили свою судьбу Завоевателю. А его уже не было на свете.
Я даже не пытаюсь объяснить вам, что означала для нас его смерть. Время Мехмеда Завоевателя не походило ни на какое другое, и вы, мнящие себя знатоками Османской державы, не подозреваете, что некогда, хотя и непродолжительно, она была совсем иной.
Скажу главное: в наше время и в нашем мире люди поклонялись двум пророкам – Мухаммеду или Иисусу. А у Мехмед-хана был еще и свой пророк – Победа. Во имя Победы он не останавливался ни перед чем. Не остановила его даже святая наша церковь, пред которой склонялись такие исполины, как Осман и Орхан. Мехмед Завоеватель одним мановением руки отнял у нее все земельные владения и превратил их в сипахские наделы,[2]2
Сипахи – военные пленники, получавшие земельное пожалование за несение военной службы.
[Закрыть] чтобы создать войско, какого не знал мир. Он получил это войско и вместе с ним – непримиримую ненависть наших священнослужителей. Однако могущество Мехмед-хана было столь велико, что он мог повернуться спиной к этой ненависти, более того: его спина – квадратная, одинаковая в высоту и ширину – даже внушала почтение этой ненависти.
Для Завоевателя не существовало правоверных или гяуров.[3]3
Гяур – турецкий подданный-немусульманин (презр.).
[Закрыть] Каждый желавший и способный служить ему был принят в Стамбуле, во дворце Топкапу. Когда Мехмед-хану не удалось взять Родос, он объявил всей Европе, что ищет искусного мастера, который бы составил и вычертил план успешной осады острова иоаннитов. Из многих десятков немцев, англичан и французов (уморительно было видеть их в Топкапу, как они толпились там со своими свернутыми в трубку чертежами, по-ярмарочному пестро разодетые, перекрикивая друг друга на всех мыслимых наречиях) награды удостоился некий мастер Георг из Пруссии. Мехмед-хан осуществил его план, не пожалев золота, и еще столько же золота высыпал на этого Георга – полного его имени никто так и не узнал, не имелось надобности.
Завоеватель сумел убедить нас (во всяком случае, заставил удержаться от возражений), что победа превыше всего, а к ней не придешь, если спотыкаться о запреты, страх или совестливость. Человек без предрассудков – так назовете вы Мехмед-хана. Вопреки вашим представлениям в его времена людей без предрассудков было множество, но никто не довел это свойство до такого совершенства, таких высот, как Мехмед Завоеватель. И в тот предутренний час в нашем стане спали рядом в двух соседних шатрах или даже в одном и том же шатре правоверные, неверные и еретики – их свело вместе одно лишь имя Мехмед-хана.
«Одерживали бы мы победы без Мехмед-хана?» – потерянно размышлял я, все еще не зная, что предпринять, а пора уже было принимать решение.
Двое секироносцев пред султановым шатром расступились – я обладал правом входить к султану и не будучи позванным.
Внутри было не совсем темно. Благодаря карминным полотнищам в шатре был разлит красноватый сумеречный свет. Десяток шагов до полога, за которым находилось ложе нашего повелителя, я прошел на цыпочках – словно шел на грабеж или что-либо еще более скверное. И полог отодвинул тоже как бы крадучись.
Мехмед-хан недвижно покоился на тигровых шкурах, но с первого взгляда было видно, что он погружен не в сон. Напряженное лицо его выражало боль и тревогу.
Я склонился над ним.
На портретах, показанных мне сейчас вами, Мехмед-хан не очень похож на себя. Видимо, рисователи вознамерились, коль скоро не в их власти поразить вас красотой султана, представить его внушительным. А он, поверьте мне, был не таким.
Прежде всего – смехотворно низкого роста. Говорят, именно такие, до смешного низкорослые люди отчаянно честолюбивы. Мехмед-хан очень страдал из-за своего роста. При каждой встрече с ним я видел, как он – владыка одной половины мира и гроза второй – сидит всегда выпрямившись, а советников своих сажает на пол, чтобы казаться на голову выше их.
Есть люди низкорослые, но ладно скроенные, их низкорослость сходит за изящество. Иное дело мой государь. Он был уродлив и нескладен – мир праху его! Словно из того количества плоти, что потребно для создания высокого, крупного человека, аллах слепил низкого, сплющив его сверху вниз. Мехмед-хан не мог обхватить руками живот; когда он сидел, ноги у него не доставали до пола, они качались и дергались при каждой столь частой у султана вспышке гнева или веселья. У этого человека одно настроение внезапно сменялось противоположным – мне казалось порой, что в крепко сбитом теле чересчур много крови, она словно билась в слишком тесном для нее сосуде, вызывая судороги, предвидеть которые никто не умел.
Уродливым – прости меня, всемогущий аллах! – было бы и лицо нашего повелителя, если бы оно не освещалось необыкновенно подвижным, острым и глубоким умом. Воистину человек, наделенный мудростью, не может выглядеть уродливым, не бывает так. И хотя создатель наградил нашего султана лицом, вытянутым в ширину больше, чем в длину, хотя его жирный подбородок складками ложился на грудь, хотя тонкий с горбинкой нос выглядел несоразмерным очень маленькому рту почти без верхней губы при толстой нижней, а глаза напоминали дырочки в простреленной мишени – при всем том лицо Мехмед-хана не было уродливо.
В то утро, распростертый на тигровых шкурах, откинув назад голову с редкой и, как проволока, колючей рыжей бородой, Мехмед-хан внушил мне трепет. Должно быть из-за того выражения, о котором я вам уже говорил.
Я взял его руку – мне все еще не хотелось верить наихудшему. Она была непомерно тяжела и шевельнулась вся, не сгибаясь. Я вдруг спохватился, что пробыл тут слишком долго. С трудом собрался с мыслями и с еще большим трудом пришел к решению.
– Юнус, – сказал я, выйдя из шатра и к ужасу своему увидев, что лагерь начал просыпаться. – Приведи носильщиков Мехмед-хана!
Они вскоре явились с позолоченными носилками султана. Я велел им войти в шатер, что-то несвязно пробормотав о болезни Мехмед-хана и о том, что боли усиливаются, когда он пытается спустить ноги. Когда я, стараясь придать себе ледяное спокойствие и решительность, приказал посадить Мехмед-хана в носилки, они переменились в лице.
Это было нелегко. Мехмед-хан и при жизни был тяжел, а мертвый он весил вдвое больше. С превеликими усилиями просунули мы его в дверцу – он противился, успев уже похолодеть. Мы положили его поперек носилок, кое-как прикрыли расшитым халатом и задернули занавески. Однако не совсем плотно. Я хотел, чтобы в щель проглядывала часть лица султана и одна рука.
При первых же шагах носильщиков рука стала мерно раскачиваться, так что издали казалось, будто Мехмед-хан приветствует свои войска.
Даже врагу не пожелал бы я очутиться на моем месте в то раннее утро 3 мая. Я ехал справа от носилок, время от времени наклоняясь к дверце, словно для того, чтобы что-то сообщить султану или выслушать его повеление; впереди ехали верхом секироносцы-караульные (я нарочно приказал ехать всем тем, кто, возможно, заподозрил обман), а позади – два отряда янычаров.
Опаснее всего было ехать по лагерю. Тут находились те, кто поднял бы мятеж, узнай они о смерти повелителя. Точно по горящим углям, продвигался я между шатрами. Тысячи шатров – казалось, им не будет конца. Но вот полотняный городок остался позади, в часе пути от нас белели минареты Юскюдара, а за ними, на другом берегу, выплывал из утренней дымки Стамбул.
«Аллах, поддержи меня в день сегодняшний!» – взывал я. После пережитого ужаса я обессиленно обмяк в седле. Но вдруг меня пронзила мысль: можно ли считать, что опасность миновала, когда истинная опасность впереди?
Вы можете на это возразить, что для первого советника султана, второй особы в империи, такой день всегда тяжек – день смены властителей. Вы правы, но лишь в известной мере, ибо у нас все это бывает по-особому и гораздо сложнее. Как правило, после смерти султана войска поднимают бунт; каждый, кто мечтал надеть халат визиря, раздает янычарам и церкви все свое состояние, чтобы расположить их, привлечь на свою сторону, не упустить этого дня междуцарствия.
Немногим нашим великим визирям удавалось уцелеть после такого дня, их можно пересчитать по пальцам. Как я ни подбадривал себя, мне не верилось, что я буду в их числе. Не надежда выжить – иные причины побуждали меня спешить в Стамбул. Я знал, что за те несколько часов, которыми я, нишанджи Мехмед-паша, располагал, в моей власти решить будущее империи. Точнее: сохранить и продолжить дело моего великого повелителя.
Не я один предвидел угрозу, о ней знали многие. Но я не мог рассчитывать, что кто-нибудь (кроме, простите, меня) не пожалеет собственной жизни, чтобы помешать почти неизбежному: возврату к временам, предшествовавшим царствованию Мехмед-хана.
Я уже говорил – наши священнослужители были ущемлены законами Мехмед-хана. Они воспользовались бы его смертью. И у них было на кого ставить. На законнейшем основании, даже не прибегая к насилию. Они опирались на старшего сына султана – шехзаде[4]4
Шехзаде – сын султана, князь, принц.
[Закрыть] Баязира.
Я рад тому, что история подтвердила мое мнение о Баязиде Втором, прежде я не осмеливался его высказывать. Впрочем, вам больше, чем мне, известно о Баязиде, я не был свидетелем его царствования. Но даже как шехзаде он, казалось мне, был не на месте. Не могу точно определить, отчего он вызывает во мне неприязнь, он прекрасно относился и ко мне, и к остальным столпам империи. Много говорилось и о его талантах – он слыл отличным, непревзойденным стрелком из лука, знатоком богословия и звездочетства.
А еще шла молва о том, что таланты шехзаде были на виду, даже выставлялись напоказ, тогда как другое – его пороки – держались в тайне. Но кто мог допустить, что у него есть пороки? В ту пору совсем юный, он имел одно огромное достоинство – самообладание. В отличие от своего отца он при посторонних никогда не проявлял гнева, не предавался плебейской веселости, у Баязида никогда нельзя было понять, что ему по душе, а что вызывает раздражение. Вот эта искусная увертливость и отвращала меня. Разумеется, не меня одного, хотя история видит во мне чуть ли не единственного его противника.
Я находил близорукими тех янычарских военачальников, мулл и кое-кого из отставленных визирей, кто преклонялся перед Баязидом. «Такой, как он, – думалось мне, – способен обмануть даже родную мать» (должен, кстати, напомнить, что и по сей день неизвестно, кто она, Баязид никогда не оказывал ей почестей, не произносил ее имени, а сам Мехмед-хан позабыл свои юношеские увлечения). Священнослужители, видимо, рассчитывали, что человек, причастный к божественным наукам и верный учению пророка, избавит их от унижения и нищеты, в которые они были ввергнуты Завоевателем. Именно эти надежды наводили меня на мысль, что благочестие Баязида, как и все прочее в нем, преднамеренное.
Свою оценку будущего нашего повелителя я составляю не сейчас, после того, как он стал достоянием истории. Она сложилась у меня еще в ту пору, когда Мехмед-хан отправил своих сыновей, одного – в Амасью, другого – в Конью, правителями провинций, бейлербеями. По-разному истолковывали это: одни видели в решении султана страх перед сыновьим заговором и междоусобицами, другие – желание, чтобы его юные отпрыски постигли премудрости правления. Сдается мне, я лучше других понимал моего повелителя. Мехмед-хан так любил жизнь и все, что он брал от нее и что намеревался взять впредь, что ему не хотелось видеть перед глазами свой приговор – собственных сыновей, ждущих смерти отца, чтобы самим стать государями. Однако некая подробность – Мехмед-хан оставил своих внуков в Стамбуле в качестве заложников – вынуждала меня в известной степени верить слухам. Мехмед-хан не полагался на случай; он всегда был вершителем своей судьбы и, даже на вершине могущества, не переставал ни на миг заботиться о своей безопасности.
Несмотря на свою неприязнь к Баязиду, чье восшествие на престол – у меня не было в том сомнений – вернуло бы нас далеко назад, в тот день я был обязан сообщить ему печальную весть и удержать столицу до той минуты, когда он явится и возьмет власть в свои руки.
На первый взгляд – совсем просто. Даже вспыхни в Стамбуле мятеж, никто бы не ссудил меня, ибо мятеж был неизбежен. Что же тогда тревожило меня, спросите вы. Не могу утаить, ведь это обнаружилось всего днем позже: я не хотел, чтобы султаном стал Баязид.
Вы даете мне понять, что не мое дело было решать, кто булет турецким султаном. Я знал это. Но все мы слишком были связаны с Мехмед-ханом, с делом его жизни, отдали ему свои лучшие годы, свою кровь. Кто докажет мне, что дело, столь дорого мне стоившее, не мое дело?
И кроме того, признаюсь, утром 3 мая я еще пытался перехитрить судьбу. В том, что я скрывал смерть Мехмед-хана, не следует видеть непокорство шехзаде Баязиду. Напротив, он должен быть мне благодарен за то, что я оттянул бунт янычаров, дал ему время занять престол.
Мы прибыли в Юскюдар, на берег Босфора. Я нарочно приказал носильщикам и секироносцам оставаться на плоту рядом с носилками. Оба отряда янычаров следовали за нами в нескольких больших лодках.
Улицы были почти безлюдны. Войско стояло лагерем в Ункяр-чаири, а мирных жителей в Стамбуле насчитывалось тогда очень мало. Город еще не оправился от длительных осад, завершившихся его падением.[5]5
В 1453 г. Мехмед II взял Константинополь (Стамбул) и сделал его турецкой столицей.
[Закрыть] Редкие прохожие при виде носилок кланялись до земли. Тяжелая рука Завоевателя раскачивалась, словно приветствуя их; я от усталости с трудом держался в седле и молил небо поскорей привести нас в Топкапу.
Стража засуетилась, и ворота дворца распахнулись перед нами. Миновав три пустынных двора – части дворцовой стражи тоже находились в Ункяр-чаири, – мы наконец оказались пред личными покоями султана.
Со мной снова были только Юнус и оба секироносца. Я приказал вынуть труп из носилок и отнести на султаново ложе. Заперев двойным поворотом ключа двери высочайших покоев, я почувствовал, что с моих плеч свалилась огромная тяжесть.
Секироносцы и Юнус ожидали меня. Молча указал я им на новое здание казнохранилища. Я знал, что оно пусто – Мехмед-хан еще не успел перевезти сюда свою казну из Эдикуле. Все сопровождавшие султана в последнем его пути один за другим вошли под темные своды хранилища. Я запер и эту дверь, а ключ повесил рядом с первым у себя на поясе. Все!
Только тогда, помнится, почувствовал я, как дрожат у меня руки и ноги, меня просто била лихорадка. Что я выиграл благодаря приложенным усилиям? Многое. Время. И надо было разумно распорядиться этим выигрышем.
Оба письма я написал в дворцовой прихожей, собственноручно. Никогда прежде не доводилось мне писать так много – для этой работы мы держали писцов. Помню, закончив первое из них, я долго сидел в полумраке прихожей. Собирался с силами для второго – смертного приговора самому себе. Какой бы из двух сыновей султана ни занял престол, ни тот ни другой не простят мне, что я написал одновременно два письма, что вел двойную игру.
Я уже почти решил ограничиться первым – к Баязиду. «Отчего не остановиться на этом?» – рассуждал я, хорошо зная, что не остановлюсь. Успех Баязида все равно означал для меня смерть, ведь я принадлежал к сипахам, был причастен к тем мерам, которыми Мехмед-хан ущемлял святую нашу церковь. Иными словами, мой выбор почти ничего не решал; так или иначе песенка моя была спета.
Когда эта мысль дошла до моего сознания, мне стало легче. И я очень быстро составил второе письмо. Коротенькое, всего в несколько слов. Спрятал его под халат) и вышел за дверь, держа в руках только один свиток. Гонец сыскался тут же: это был преданный мне человек, к тому же не знавший грамоту. Он поскачет в Амасью, сменяя лошадей на каждой заставе. «На каждой заставе», – повторил я. По моим расчетам это должно было занять одиннадцать дней.
Второго гонца я искал дольше, ни один не казался мне достаточно надежным, чтобы доверить ему мою жизнь. Пока меня не осенило, что лучше всего справится с поручением немой Юнус. Я вывел его одного из казнохранилища, расстегнул на нем одежду и прилепил к его черной коже свое письмо.
– Живым или мертвым, – я шептал Юнусу в самое ухо, а мне казалось, будто слышно на весь Стамбул, – но лучше живым доберись в Конью! Сменяй лошадей не только на заставах, а каждые три часа! Избегай встреч, прячься хоть под землю! За неделю доскачешь в Конью. Вот тебе деньги, много денег, раздавай кому потребуется. Но и знака не подавай, что это я послал тебя, слышишь? Ты меня знать не знаешь, ты ничей! В Конье спросишь Джема.
С самого утра ни разу, пожалуй, даже мысленно, не решался я произнести это имя (Джем!), хотя и молил аллаха о помощи ради Джема, ради великого дела Мехмед-хана. «О аллах, сохрани и защити черного моего раба! Сохрани и защити своих воинов! Что значит роптанье нескольких сотен мулл и судей – из-за того, что у них была отнята кость? Не молитвы нужны тебе, о аллах, а победа истинной веры. Мы принесем тебе эту победу!»
Вероятно, никогда прежде не молился я так горячо, всем сердцем, как в тот день. И должен тут же добавить: мои молитвы не были услышаны. Быть может, аллаха и вправду сильно прогневали дерзость Мехмед-хана и нищета нашей церкви.
В последовавшие за тем часы я был ни жив ни мертв. Я двигался, говорил, отвечал на вопросы, а сам был далеко. Всеми своими помыслами я был рядом с Юнусом.
Да, верно, аллах покарал меня за вмешательство в мировые события, но кое от чего он меня все же избавил: от длительного ожидания. Оно окончилось уже к исходу следующего дня.
Сидя взаперти у себя в конаке[6]6
Конак – дом, резиденция турецкого феодала.
[Закрыть] (я старался поменьше быть на глазах у людей), я вдруг услыхал далекий шум, почти неуловимый, можно было даже подумать, будто тишину нарушили случайные нестройные звуки. Однако я уже весь обратился в слух, так что меня это не обмануло: на улицы Стамбула вступило войско. Какое? То, что находилось в Ункяр-чаири, другого не было. Значит, в лагере прослышали о смерти Мехмед-хана и заторопились в столицу, чтобы не упустить случая пограбить и пожечь. Мои старания отгородить Азию от Европы остались тщетными – накануне я отдал приказ, чтобы ни один корабль не пересек пролива, ни туда, ни обратно.
Я ожидал, что еще до наступления вечера переселюсь в лучший мир в качестве первой жертвы мятежа. Но аллах пожелал, чтобы я искупил свою вину еще одной ночью страданий. Всю ночь напролет слушал я вопли, доносившиеся из Еврейской и Греческой слободы, всю ночь смотрел на отблески пожаров в водах Босфора. О бегстве я не помышлял – мой конак был оцеплен янычарами. Но если бы и не было их, заверяю вас, я бы не пытался бежать. Зачем? Чтобы неделей позже умереть по приказу нового султана? Стоило ли?
Как это ни кажется вам невероятным, я не пытался бежать и по другой причине: коль скоро события приняли именно такой оборот, мне действительно полагалось умереть. Потому что я был частью Мехмедова царствования, потому что мне не нашлось бы места в державе Баязида. Меня бы не стали терпеть, и я бы не мог вытерпеть.
Я встретил смерть – смею утверждать это – с полной невозмутимостью. Меня мучила лишь мысль о том, что за мной последует и тот, ради торжества которого я бы охотно отдал жизнь; я боялся, что погубил Джема, надежду Мехмедовых воинов. Если вы убедите меня, что не мои действия толкнули его на тот путь, на какой он ступил, я не стану сожалеть о том, что был вызван вами из небытия.
Но вы безмолвствуете. Похоже, вам самим не ясно, кто явился первопричиной бунта Джема. Либо же вам просто нет дела до угрызений совести давно умершего старого солдата.
Я кончаю. Не могу свидетельствовать о том, что случилось после 5 мая 1481 года.
Пятого вечером я был убит.








