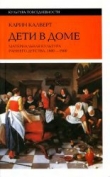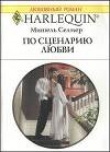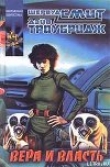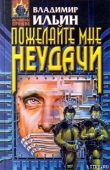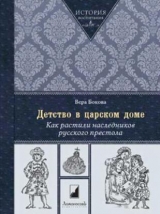
Текст книги "Детство в царском доме. Как растили наследников русского престола"
Автор книги: Вера Бокова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 15 страниц)
Бриллианты госпожи фон Ливен
П осле Александра и Константина в семье Павла и Марии Федоровны пошли сплошные дочери, шесть подряд: Александра (1783–1801), Елена (1784–1803), Мария (1786–1859), Екатерина (1788–1819), Ольга (1792–1795) и Анна (1795–1865). Лишь напоследок явились еще два мальчика – Николай и Михаил. Последний был «порфирородным»: родился, когда отец уже был императором.
Рождение внучек не было неприятно Екатерине. Маленькие великие княжны забавляли бабушку. Она с удовольствием с ними возилась, присматривалась к проявлениям характера и в общем была к ним привязана – именно как бабушка. Но воспитание их интересовало ее довольно мало.
Внуки, мальчики – иное дело. Их рождение и воспитание было делом государственным. Там императрица вникала во всякую мелочь. Девочки же составляли до поры до времени «бесполезное украшение гостиных», как выразился современник, а потом выходили замуж. Говорили, что после рождения пятой внучки в ответ на поздравления Екатерина обронила: «Слишком много девок – трудно будет замуж выдавать».
Вот это отсутствие государственного интереса и побудило Екатерину «отдать» девочек родителям. Сама она поначалу контролировала лишь назначение персонала к внучкам, подозревая, очевидно, что родители не способны справиться даже с этим, но постепенно, убедившись, что все идет как надо, перестала вникать и в это. Родным домом великих княжон считался Гатчинский дворец – резиденция их родителей, а у бабушки они лишь гостили.
Растили дочерей Павла в полном соответствии с европейскими образцами. Их мать, великая княгиня Мария Федоровна, сама получила такое воспитание и воспроизвела его в отношении собственных дочерей. Во главу угла ставилась выработка таких качеств, как добронравие, целомудрие и привычка к занятиям. Большое значение придавали светской шлифовке: воспитанию выдержки, любезности и строгой непринужденности. Кроме того, европейская принцесса должна была знать несколько языков (неизвестно, в какой стране придется жить после замужества), уметь рукодельничать и владеть «приятными искусствами», что способствовало развитию вкуса и помогало скрасить досуг себе и окружающим. По мнению императрицы-матери, каждая женщина должна была быть «совершенная швея, ткачиха, чулочница и кухарка» и признавать «свою слабость и преимущество мужа во всяком случае».
Науками юных девиц слишком не напрягали. Вполне достаточно было иметь элементарные сведения из истории, географии, мифологии и истории литературы (европейской, разумеется).
Всему этому великих княжон обучали специально приставленные люди, а мать Мария Федоровна контролировала результаты и исполняла в отношении к детям роль высшего судьи.
Девочек выкармливали кормилицы, пестовали разноплеменные няни и бонны – благодаря их присутствию малютки начинали говорить одновременно на двух– трех языках. С восьми лет к девочкам приставляли гувернанток для планомерного обучения языкам и манерам и постоянного контроля за поведением. Чуть позднее начинали ходить учителя, а уже лет с одиннадцати-тринадцати юным особам начинали присматривать женихов, чтобы в шестнадцать-семнадцать выдать их замуж.
Когда восемь лет исполнилось старшей из великих княжон, Александре Павловне, бабушка-императрица лично озаботилась приисканием ей достойной воспитательницы. Ей хотелось, чтобы это была прибалтийская немка – аккуратная, исполнительная и умеющая добиться послушания и дисциплины.
Екатерина написала рижскому генерал-губернатору Брауну: «Дорогой Браун, вы присылаете мне лучшие апельсины; не сможете ли вы прислать мне лучшую гувернантку для моих внучек?»
Только что Браун получил эту записку, как ему доложили о визите баронессы фон Ливен. Вошла высокая привлекательная дама под сорок с важной осанкой и твердым выражением лица. Муж ее, генерал– майор русской армии, незадолго до этого умер, оставив ее почти без средств к существованию и с пятью детьми на руках. Убедившись, что воспитывать детей должным образом ей не под силу, баронесса продала имение и отправилась в Ригу в намерении открыть небольшой пансион для девиц. Она просила у Брауна содействия своему проекту.
Сразу оценив твердость и практицизм собеседницы, генерал предложил ей, до приискания постоянной квартиры, помещение к своем доме и еще несколько дней к ней приглядывался. Затем сказал, что нашел ей хорошее место – гувернантки у великих княжон. «Ах, боже мой! – всплеснула руками Ливен. – Да я же не говорю по-французски!» – «А это вовсе не обязательно, у них будут учителя. Дело идет о хорошем, солидном нравственном воспитании – вот что от вас потребуется. И детям своим вы обеспечите в будущем достойную карьеру».
Рассказывали, что по приезде баронессы Ливен в Царское Село императрица Екатерина, стоя за ширмой, случайно подслушала, как гостья сетует кому-то из придворных на трудности предстоящей ей работы: ведь не только двор, но и сама императрица подает девочкам дурной пример своим образом жизни. Екатерина вышла из-за ширмы и сказала госпоже Ливен: «Вы именно такая женщина, которая нам нужна».
И все вышло так, как говорил генерал Браун.
Не только Екатерина, но и Мария Федоровна оценила многочисленные достоинства новой воспитательницы: безупречную нравственность, честность и преданность. Скоро баронесса Ливен была сделана главной воспитательницей великих княжон, полновластно распоряжающейся на детской половине. Конечно же, у нее были многочисленные помощницы, а у каждой девочки имелась личная гувернантка (у Елены – мисс Сейме, у Екатерины – Алединская, у Марии – м-ль Моно, у Анны – мисс Николсс и т. д.). Ни в назначения, ни в «кадровые перестановки», ни в распоряжения Ливен ни мать, ни бабушка не вмешивались. Девочки привязались к ней несравненно сильнее или, во всяком случае, относились к ней намного теплее, чем к родной матери, хотя Шарлотта Карловна была с ними строга, а порой даже сурова.
Результаты воспитания оказались превосходны.
Каждая из великих княжон блистала, как подлинный бриллиант. Они безупречно держались, имели идеальную репутацию, и каждая была одарена бесчисленными талантами. Александра Павловна к двенадцати годам
говорила на четырех языках, пела, танцевала, рисовала, лепила из воска, играла на клавесине, а в тринадцать опубликовала в сборнике «Музы» свои переводы с французского «Бодрость и благодеяние одного крестьянина» и «Долг человечества» и снабдила их собственными замечаниями.
Красавица Елена увлекалась пением и миниатюрной живописью.
Мария особенно серьезно училась истории, музыке и пению. Ее вкус считался безупречным, художественное чутье абсолютным. В Веймаре, где она жила после замужества, ее частым гостем бывал И.-В. Гете, называвший Марию Павловну женщиной выдающейся.
Екатерина Павловна, помимо искусств и живых языков, по собственному желанию изучала латынь, математику и политическую экономию, которую читал ей тот же Генрих Шторх, что был преподавателем и у ее брата Александра.
В 1809 году к Екатерине Павловне посватался Наполеон Бонапарт, и, чтобы иметь благовидный предлог отказать «корсиканскому выскочке», великая княжна спешно приняла предложение принца Георга Ольденбургского, состоявшего на русской службе.
После заключения брака принц получил назначение на должность тверского генерал-губернатора, и его супруга – «тверская полубогиня», как ее прозвали, превратила этот город в подобие столицы. В ее салоне читал свои сочинения Н.М. Карамзин, бывали известные литераторы Ю. А. Нелединский-Мелецкий, А. М. Бакунин, Ф. В. Ростопчин и др. Екатерина была умна и энергична, обладала широким политическим кругозором и государственными способностями, оказывала влияние на брата императора Александра I – в частности, ее стараниями был удален в ссылку знаменитый реформатор М.М.Сперанский, вызвавший недовольство значительной части дворянского общества, что не шло на пользу авторитету государя. У великой княгини было множество приверженцев, втайне не отказавшихся бы увидеть ее на российском престоле – Екатериной Третьей.
Все сестры Екатерины Павловны были выданы замуж за границу и играли видную роль в общественной и интеллектуальной жизни своих стран.
В дворцовых хрониках даровитые сестры еще при жизни превратились в легенду. Дочь Николая I великая княжна Ольга Николаевна вспоминала: «Мы рассматривали их портреты, просили рассказать нам об их характерах, манерах, появлении в свет. Сравнивали эти идеальные для нас существа с собой и находили себя очень посредственными в сравнении с ними».
Усилия Шарлотты Карловны Ливен были оценены ее нанимателями очень высоко. Она закончила свои дни состоятельной женщиной, кавалерственной дамой ордена св. Екатерины, светлейшей княгиней. В дарованном ей гербе помещался двуглавый российский орел с вензелями императоров Павла I и Николая I. Умерла Ливен в один год с императрицей Марией Федоровной, прослужив при дворе 45 лет, с 1783-го по 1828-й.
Павел и Мария Федоровна поручили ей воспитание и своих младших сыновей Николая и Михаила в их первые годы, требовавшие женской заботы.
Как закалялась сталь
25 июня 1796 года, еще при жизни императрицы Екатерины II, великая княгиня Мария Федоровна разрешилась от беремени девятым ребенком – и снова после долгого перерыва это был сын, да еще и сын-великан!
Восхищенная бабушка тут же известила о событии своего постоянного корреспондента барона Ф. М. Гримма: «Сегодня в три часа утра мамаша родила большущего мальчика, которого назвали Николаем. Голос у него – бас, и кричит он удивительно; длиной он – аршин без двух вершков (62,2 см. – В. Б.), а руки немного менее моих. В жизнь мою в первый раз вижу такого богатыря». И позднее добавила: «По необыкновенной силе своей, он предназначен, кажется мне, тоже царствовать, хотя у него и есть два старших брата».
Как в воду глядела! Александр умер, не оставив наследников, а Константин отрекся от престола, так как надумал жениться на женщине не царского происхождения и отречение было непременным условием нового брака. И Николай в 1825 году взошел на трон.
На двенадцатый день после рождения Николая торжественно окрестили в царскосельской дворцовой церкви. Его восприемниками были брат Александр Павлович и сестра – Александра Павловна. Бабушка уже болела и лично в церемонии не участвовала, только смотрела за происходящим сверху с церковных хоров и благословила внука образом Богородицы Одигитрии, с которым Николай потом не расставался всю жизнь.
«Во время церемонии крещения вся женская прислуга была одета в фижмы и платья с корсетами, не исключая даже кормилицы. Представьте себе странную фигуру простой русской крестьянки из окрестностей Петербурга, в фижмах, в высокой прическе, напомаженную, напудренную и затянутую в корсет до удушия. Тем не менее это находили необходимым. Лишь только отец мой, при рождении Михаила, освободил этих несчастных от этой смешной пытки», – рассказывал потом Николай.
Первые годы руководила воспитанием маленького великого князя, а вслед за тем и его брата Михаила, появившегося на свет в 1798 году, все та же незаменимая Шарлотта Карловна Ливен. Ее Николай аттестовал как «уважаемую и прекрасную женщину, которая была всегда образцом неподкупной правдивости, справедливости и привязанности к своим обязанностям и которую мы страшно любили. Мой отец при вступлении на престол утвердил ее в этой должности, которую она и исполняла с примерным усердием. Обязанности ее, при жизни императрицы, были тем более тяжелыми, что отношения между сыном и матерью были часто натянутыми, и она, постоянно находясь между обоими сторонами, только благодаря своей незыблемой прямоте и доверию, которое она этим внушала, умела всегда выходить с честью из этого трудного положения».
У каждого мальчика был собственный штат: английская бонна, две дамы для ночного дежурства, четыре няньки (горничных), два камердинера, два камер-лакея, восемь лакеев и восемь истопников. Такое непомерное количество истопников не должно удивлять. Они работали посменно и обслуживали не только детские покои, но и комнаты остального персонала, а кроме того, выполняли всю работу, требующую физических усилий: двигали и переносили мебель и громоздкий багаж при переездах, таскали воду в ванны (водопровода в современном понимании во дворцах тогда еще не было) и т. д.
Бонной маленького Николая стала шотландка Джейн (Евгения Васильевна) Лайон («няня-львица», как он ее называл), дочь лепного мастера, приглашенного в Россию на работу.
Совсем молоденькая – в момент назначения ей было около двадцати лет, Евгения Васильевна была усердна и решительна и в интересах своего подопечного, к которому была безгранично привязана, готова была спорить даже со всемогущей госпожой Ливен. Лайон говорила по-русски и потом всю жизнь очень гордилась, что первой научила великого князя складывать пальчики для крестного знамения и читала вместе с ним русские молитвы – «Отче наш» и «Богородицу».
Николай ее обожал. С братом Михаилом они частенько спорили – и порой весьма горячо, –
чья няня лучше. Михаил, пылко привязанный к своей «мистрис Кеннеди», настаивал на ее преимуществах, но как младший не всегда мог подобрать убедительные аргументы. Обычно, не одержав верх в споре, он примирительно заключал, что обе няни хорошие и умные. Тогда Николай, подумав минуту, оставлял последнее слово за собой: «Моя все-таки лучше, она – добрее!»
Как и для абсолютного большинства дворянских детей того времени, для Николая именно няня была главным человеком его детства – няня, а не родители. Мать Мария Федоровна при всех своих добродетелях не отличалась сердечностью и в отношениях с детьми на первое место ставила выполнение долга. Первые месяцы жизни сына она считала своим долгом ежедневно посещать его и проводила в детской каждый день от десяти до пятнадцати минут (столько же времени длился стандартный светский визит). После того, как Николаю исполнился год и ему «не опасна была перемена воздуха», сама она ходить в детскую перестала и требовала, чтобы ребенка приводили к ней в апартаменты – утром и вечером.
Мальчика привозили в коляске и держали в комнатах матери от получаса до двух часов. В это же время к матери приводили и других детей, так что Николай Павлович мог повидаться с братьями и сестрами. Позднее, когда Николаю исполнилось два года, эти посещения сделались менее регулярными, и бывало, что ребенок не видел мать по нескольку дней подряд. Как писал биограф Николая, «Николай и Михаил Павловичи в первые годы детства находились с своею августейшею матерью в отношениях церемонности и холодной учтивости и даже боязни».
Подобные же отношения были с матерью и у других детей. Считая себя обязанной быть строгой и взыскательной, Мария Федоровна исключала из отношений с детьми и их персоналом шутки и ласки. Как вспоминала великая княжна Анна Павловна, когда мать входила в детскую, все в испуге замирали, вытягивались в струнку и напряженно ждали неприятностей. Когда же императрица уходила, все сразу ощущали легкость и свободу.
А к отцу Николай был очень привязан. Павел тоже не слишком часто посещал детей, но делал это всегда с удовольствием и, когда приходил, был легок и весел, много шутил, запросто усаживал нянек, не гнушался поднять какой-нибудь уроненный ими или детьми предмет или игрушку – вообще старался забыть о своем императорстве сам и заставить забыть окружающих.
«Отец мой нас нежно любил», – вспоминал Николай Павлович. Мальчик навсегда запомнил даже незначительные случаи, связанные с отцом: как во время парада «отец, бывший на коне, поставил меня к себе на ногу», как «однажды, когда я был испуган шумом пикета Конной гвардии, стоявшего в прихожей моей матери в Зимнем дворце, отец мой, проходивший в это время, взял меня на руки и заставил перецеловать весь караул», как «обер-шталмейстер граф Ростопчин от имени отца подарил мне маленькую золоченую коляску с парою шотландских вороных лошадок и жокеем», как «в Павловске я ожидал моего отца в нижней комнате, он возвращался, я пошел к нему к калитке малого сада у балкона; он отворил калитку и, сняв шляпу, сказал: „Поздравляю, Николаша, с новым полком, я тебя перевел из Конной гвардии в Измайловский полк“»…
Вообще память у Николая была выдающаяся: он помнил себя очень рано и со множеством подробностей. К примеру, встреча с А. В. Суворовым произошла, когда ребенку не было и четырех лет. Пораженный непохожестью Суворова ни на кого из знакомых, маленький Николай Павлович «осыпал его множеством вопросов» по поводу многочисленных наград, а генералиссимус встал на колени и «имел терпение все показать и объяснить».
Хорошо запомнил Николай и кратковременное пребывание в марте 1801 года в Михайловском замке, куда царское семейство переехало по настоянию императора Павла еще до завершения отделочных работ. «Когда нас туда привезли, – вспоминал Николай, – то поместили временно всех вместе, в четвертом этаже, в анфиладе комнат, находившихся не на одинаковом уровне… Наше помещение находилось над апартаментами отца, рядом с церковью… Помню, что всюду было очень сыро и что на подоконники клали свежеиспеченный хлеб, чтобы уменьшить сырость».
Естественно, что в память ребенка врезались и обстоятельства рокового 11 марта – последнего дня жизни Павла. Вечером, когда дети поднялись к себе и принялись за обычные игры, «Михаил, которому было тогда три года, играл в углу один в стороне от нас; англичанки, удивленные тем, что он не принимает участия в наших играх, обратили на это внимание и задали ему вопрос: что он делает? Он не колеблясь отвечал: „Хороню своего отца!“ Как ни малозначащи должны были казаться такие слова в устах ребенка, они тем не менее испугали нянек. Ему, само собой разумеется, запретили эту игру, но он тем не менее продолжал ее, заменяя слово „отец“ – семеновским гренадером. На следующее утро моего отца не стало».
Ночью графиня Ливен разбудила мальчика; его спешно одели и свели вниз, где уже были сестры, маленький Михаил, потрясенная прислуга. «Караул вышел во двор Михайловского дворца и отдал честь. Моя мать тотчас же заставила его молчать… Вошел император Александр в сопровождении Константина и князя Николая Ивановича Салтыкова; он бросился перед матушкой на колени, и я до сих пор еще слышу его рыдания. Ему принесли воды, а нас увели. Для нас было счастьем опять увидеть наши комнаты и, должен сказать по правде, наших деревянных лошадок, которых мы там забыли».
Смерть отца, при всей своей трагичности, не потрясла Николая. Отец всегда был где-то в отдалении, существом полуреальным, а теперь просто переместился из действительности в мечту, в сферу дорогих воспоминаний и полумифических образцов. Всю последующую жизнь отец оставался для великого князя, а потом императора авторитетом и примером, которому он подражал во многих бытовых мелочах.
В год к Николаю приставили, помимо бонны, также двух гувернанток (на дворцовом жаргоне – «полковниц», ибо их покойные мужья находились в этом чине) – Юлию фон Адлерберг и ее помощницу г-жу Тауберт. Они поочередно дежурили при ребенке, следили за его здоровьем, заботились о его начальном религиозном воспитании и говорили с ним по-французски, чтобы осваивал язык.
Эти женщины, «няня-львица», воспитательницы Михаила и сестры Анны составляли непосредственное окружение будущего монарха, его детский мир. Брат и сестра, а также дети «полковницы» Адлерберг – Владимир и Юлия – были первыми товарищами по играм.
В этом смешанном обществе ребенку было хорошо. У них была уйма игрушек – помимо особенно любимых лошадок еще куча всякого оружия и воинской амуниции, мячики и воланы, масса книг с картинками. Великолепными игрушками были стулья и кресла – из них получались и дворцы, и кареты, и крепости. После поездки на коронацию Александра I в 1801 году любимой игрой детей надолго стала именно коронация: сестрица Анна была императрицей, а братья – ее верными рыцарями и придворными. Анну наряжали как умели: драпировали в занавеску, обвешивали бусами и хрусталиками от люстры. Потом она ехала в карете из стульев, а «придворные» гарцевали на палочках по сторонам… ну и так далее.
Летом, когда детей вывозили в Гатчину, Павловск или Царское Село, их игры переносились на воздух – и здесь конца не было военным баталиям, сопровождаемым громкими боевыми воплями, а также обширному строительству, к которому Николай Павлович пристрастился в самом нежном возрасте. Он старательно рыл песок и землю и «строил» домики для любимой няни или чаще (будущий военный инженер) – всевозможные «военные объекты»: крепости, гавани и мосты. А кроха Михаил (будущий артиллерист) с неменьшим упоением эти мосты и крепости разрушал. В игре Михаил отличался остроумием, насмешливостью и ловкостью, а Николай держался серьезно, властно, любил командовать и хвастаться.
Николай был вспыльчив и гневлив, порой дрался, но также был терпелив и настойчив в достижении цели.
Мальчики изживали присущую им обоим робость и страх перед стрельбой (их часто брали на учения, а нередко и провозили пушки под окнами великих князей, причем Николай поначалу пугался и прятался, но потом постепенно привык), а также застенчивость, для чего их брали на различные официальные церемонии. Первый такой «светский дебют» Николая произошел, когда он только что научился ходить – в год и четыре месяца. Его привели на «малый бал» в Павловске, где он даже «танцевал» с сестрицей Анной Павловной.
Оба великих князя были очень чувствительны, плакали из-за расставания с близкими людьми, огорчались, если любимая няня забывала их вечером поцеловать, чрезвычайно заботились о своих питомцах – канарейках, собачках, белках и зайцах. Последних всегда с охотой отпускали на волю и по этому случаю устраивали праздник. «Гуманность – первая добродетель, которую
надо воспитывать, особенно в великих князьях», – отмечал впоследствии их воспитатель Н. И. Ахвердов.
Осенью 1801 года настала пора переходить из женских рук в мужские. У Николая появились первые воспитатели – «кавалеры» Н.И.Ахвердов и П.П.Ушаков; через несколько месяцев мисс Лайон и другие женщины навсегда ушли из его детской жизни. И хотя к разлуке с няней Николая готовили заранее, пережил он это событие непросто: тосковал, украдкой плакал и старательно (сам) писал нежные письма: «Моя нянинь-ка! Посылаю вам гостинцы… Я вас люблю и всегда буду помнить. Николай».
Менее чем через год Михаил присоединился к Николаю, и они опять стали неразлучны, занимаясь с одними и теми же учителями по одним и тем же программам.
В учебных тетрадях учителя каждый день записывали свои суждения о пройденном и усвоенном, внимании и прилежании подопечных. Тетради ежедневно представлялись Марии Федоровне, которая внимательно их просматривала и выносила резолюции – например, «Чрезвычайно стыдно»…
Главным воспитателем Николая и Михаила стал генерал-майор Матвей Иванович Ламсдорф, курляндец, ранее около десяти лет состоявший «кавалером» при великом князе Константине Павловиче. Императрица Мария Федоровна Ламсдорфа очень уважала и всецело ему доверяла.
Ламсдорф был приверженцем прусской воспитательной системы, образчик которой мы уже наблюдали в случае с несчастным Петром Федоровичем. Мария
Федоровна разрешила ему использовать элементы этой системы, в несколько смягченном, впрочем, виде. От него требовалось обходиться с мальчиками построже, ибо без отца они могли совсем разболтаться, а также, по возможности, отвлекать их от воинственных пристрастий: пусть сколь можно больше занимаются науками, носят штатскую одежду и вовсе не участвуют в военных учениях. С выполнением второй задачи Ламсдорф справиться не мог: против него были и сплошь военное окружение великих князей, и их генетическая предрасположенность, и уже проявившиеся склонности, да и прямо выраженная воля императора Александра: его братья, как и все царские сыновья, должны были готовиться к военной карьере.
Зато с первой задачей – воспитанием строгостью – Ламсдорф справился великолепно. Михаил был мягче и покладистее; ему доставалось меньше. Николай был строптив, самолюбив и упрям – и получал по полной. За свои школьные годы он опробовал весь арсенал принятых к детям наказаний: в угол; без сладкого; без прогулок; без удовольствий; покинуть класс, пока не извинится, и т. д. Ламсдорф не избегал брани, толчков, щипков, наказания линейкой и шомполом, а порой и рукоприкладства и иногда так швырял ребенка о стену, что у того делалось что-то вроде обморока. Знакома Николаю была и порка розгами, разве что обставляли это унизительное наказание не так торжественно, как когда-то в Киле у его дедушки.
Мария Федоровна во все эти воспитательные методы не вмешивалась; напротив, считала, что детскую
строптивость и упрямство следует обязательно переламывать.
Ламсдорф полагал, что развить и направить к добродетели нравственные и духовные силы детей возможно лишь при уничтожении всякой самостоятельности. Он шел наперекор их желаниям, способностям и наклонностям. Мальчики не могли свободно и непринужденно общаться, играть, предаваться обычной детской резвости, так как на каждом шагу их останавливали, упрекали, читали мораль, наказывали и даже били. Стоило детям – а особенно Николаю – высказать какое-нибудь (даже самое невинное) желание: к примеру: открыть окна в карете, чтобы можно было высунуться наружу, как почти обязательно следовал запрет.
«Граф Ламсдорф умел вселить в нас одно чувство – страх, и такой страх и уверение в его всемогуществе, что лицо матушки было для нас второе в степени важности понятий. Сей порядок лишил нас совершенно счастия сыновнего доверия к родительнице, к которой допущаемы мы были редко одни, и то никогда иначе, как будто на приговор. Беспрестанная перемена окружающих лиц вселила в нас с младенчества привычку искать в них слабые стороны, дабы воспользоваться ими в смысле того, что по нашим желаниям нам нужно было, и должно признаться, что не без успеха.
Генерал-адъютант Ушаков был тот, которого мы более всех любили, ибо он с нами никогда сурово не обходился, тогда как граф Ламсдорф и другие, ему подражая, употребляли строгость с запальчивостию, которая отнимала у нас и чувство вины своей, оставляя одну досаду за грубое обращение, а часто и незаслуженное. Одним словом – страх и искание, как избегнуть от наказания, более всего занимали мой ум», – вспоминал позднее Николай.
Несмотря на все усилия наставников, «выбить» из Николая неугодные черты характера им так и не удалось. Чем сильнее было давление, тем резче сопротивление. Ему запрещали – он делал назло. Страницы журналов воспитателей пестрели записями о необузданности, вспыльчивости и нарочитой грубости Николая. Годы шли, а мальчик сохранял прежнюю «строптивость и стремительность характера», все ту же настойчивость и «желание следовать одной собственной своей воле».
В этом противостоянии воспитателю, идущему наперекор всем его наклонностям и способностям, у Николая выработался характер поистине стальной. О его силе воли ходили впоследствии легенды. «Твердость его напоминала мужей древности, украшавшихся сими качествами», – писал в своем дневнике камер-юнкер В. А. Муханов
Учебная программа мальчиков была довольно основательна. Русское письмо осваивали сначала, как и современные дети, выводя палочки и крючки. Потом совершенствовали почерк путем многократного копирования прописей с нравоучительными сентенциями («Не давши слова – крепись, а давши – держись», «Дети должны родителей любить и слушаться» и т. п.). Практические навыки закреплялись писанием писем и диктантов: «Когда состояние Царево все другие превосходит, всех силою и могуществом превышает, всех больше делает и умеет, и наконец все правление от него зависит, то необходимо должно, чтоб вящщею паче всех святостию и благочинием дом, персона и жизнь его были украшены. Ибо как купец одним аршином меряет все товары, так целое общество подобится жизни своего Государя». Мать приказала мальчикам вести свои личные дневники – заполнять их вечером перед сном. Предполагалось, что это приучит их к самоанализу, породит желание самосовершенствоваться. На практике же писание дневника почти сразу превратилось в докучную формальность, в скучную фиксацию событий. По внутренним побуждениям Николай стал вести дневник лишь много позднее – в 1822–1825 годах (может быть, имелись его дневники и за другие годы, но сохранились только эти).
В 1802 году дети стали брать уроки танцев у известного танцмейстер Лепика – сперва с неохотой, потом со все большим удовольствием. Музыку Николай поначалу тоже не любил: скучал, вертелся, шалил и дурачился; зато вскоре он сам пристрастился к духовному пению и позднее охотно пел с придворными певчими. По признанию Николая, ему еще совсем маленьким каждый раз хотелось плакать от пения церковных певчих, и только боязнь насмешек удерживала от того, чтобы дать волю чувствам.
В 1804 году им стали преподавать рисование, которое очень нравилось Николаю. Он любил раскрашивать рисунки, сделанные Ахвердовым или Ушаковым, а также рисовать самостоятельно – карандашом, пастелью и акварелью. Впоследствии он свободно рисовал с академических слепков, гравировал, компоновал батальные сценки и карикатуры; очень любил изображать военную форму. Впоследствии он иногда рисовал на полях официальных бумаг. Николай и Михаил учились академическому рисунку у И.А.Акимова и сменившего его в 1810 году В. К. Шебуева. Одно время мальчикам давал уроки О. Кипренский, а в гравировании – знаменитый гравер Н.Уткин.
В 1803 году стали учить Закон Божий под руководством о. Павла Криницкого. Впрочем, на религиозное воспитание Николая Павловича большого внимания не обращали. Его дочь великая княжна Ольга Николаевна вспоминала: «Он был убежденным христианином и глубоко верующим человеком, но Евангелие он читал по-французски и серьезно считал, что церковнославянский язык доступен только духовенству». Впоследствии под влиянием собственных детей, уже зрелым человеком, Николай «выучился понимать чудесные обряды нашей Церкви, молитвы праздников и псалмы, которые в большинстве случаев читаются быстро и непонятно псаломщиками и которые так необычайно хороши на церковнославянском языке».
Начаткам французского с 1802 года учила сама мать – в это время в Европе стало входить в моду, чтобы матери сами учили своих детей. Учить императрица совсем не умела, и мальчики эти уроки не любили.
Кроме этого, великим князьям преподавали немецкий язык, математику, географию, физику. Николай был медлителен, рассеян и часто делал ошибки. «В учении видел я одно принуждение и учился без охоты, – вспоминал он. – Меня часто и, я думаю, не без причины, обвиняли в лености и рассеянности, и нередко граф Ламсдорф меня наказывал тростником весьма больно среди самых уроков… Наш с братом Михаилом главный наставник был не слишком просвещенным человеком и не отличался способностью не то что руководить нашим ученьем, но хотя бы привить нам вкус к нему».