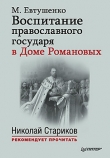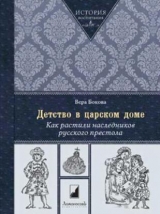
Текст книги "Детство в царском доме. Как растили наследников русского престола"
Автор книги: Вера Бокова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 15 страниц)
Мария Федоровна планировала, подобно немецким принцам, отправить детей в Лейпцигский университет, что должно было, как она считала, несколько уравновесить воинственные наклонности сыновей. Александр I решительно восстал против этого плана как противоречащего русским традициям.
М.М. Сперанский подал императору мысль отдать братьев учиться в новооснованный Царскосельский лицей. Эта идея Александру понравилась, но против нее ополчилась уже Мария Федоровна. В итоге ограничились домашними занятиями, к которым привлекли известных университетских профессоров: экономиста А. К. Шторха, правоведов В. Г. Кукольника и М. А. Балугьянского, историка Ф. П.Аделунга и др. Одновременно от братьев были удалены их детские друзья и прежние воспитатели. Вместо них пришли новые – Саврасов и Глинка, которые быстро завоевали доверие и дружбу великих князей. Увеличились учебные часы и предметы. Теперь им преподавали историю философии, латинский и древнегреческий языки, политэкономию, русскую и всеобщую историю, право, а также тригонометрию, механику, гидродинамику, фортификацию, артиллерийское дело, тактику. С этого времени, помимо
отчетов воспитателей, Мария Федоровна получала собственноручные отчеты сыновей на русском языке.
«Успехов я не оказывал, – вспоминал Николай, – за что строго был наказываем, хотя уже не телесно. Математика, потом артиллерия и в особенности инженерная наука и тактика привлекали меня исключительно; успехи по сей части оказывал я особенные, и тогда я получил охоту служить по инженерной части».
К гуманитарным дисциплинам будущий император никакого интереса не выказывал. Виною тому, возможно, были его наставники, слишком сухо и педантично подающие свои предметы. Если с историей у Николая Павловича отношения в общем сложились и впоследствии он знал ее неплохо, то относительно других дисциплин он так и остался в убеждении, что нормальный человек всерьез этим заниматься не может: качество, не совсем полезное для монарха.
«Не надо слишком долго останавливаться на отвлеченных предметах, – писал он впоследствии, – которые потом или забываются, или не находят никакого приложения в практике. Я помню, как нас мучили над этим два человека, очень добрые, может статься, и очень умные, но оба несноснейшие педанты: покойные Балугьянский и Кукольник. Один толковал нам на смеси всех языков, из которых не знал хорошо ни одного, о римских, немецких и бог весть еще каких законах; другой – что-то о мнимом „естественном“ праве. В прибавку к ним являлся еще Шторх со своими усыпительными лекциями о политической экономии, которые читал нам по своей печатной французской книжке, ничем не разнообразя этой монотонии. И что ж выходило? На уроках этих господ мы или дремали, или рисовали какой-нибудь вздор, иногда собственные их карикатурные портреты, а потом к экзаменам выучивали кое-что в долбяжку, без плода и пользы для будущего».
Не способствовали успешной учебе и внешние события. Наступил 1812 год, Наполеон пошел походом на Россию, и юные великие князья, как и все тогдашние подростки, погрузились в переживания военных событий, мечтая оказаться в передовых порядках. «…Отъезд государя в армию был для нас двоих ударом жестоким, ибо мы чувствовали сильно, что и в нас бились русские сердца, и душа наша стремилась за ним! – вспоминал Николай. – Но матушке неугодно было даровать нам сего счастия. Мы остались, но все приняло округ нас другой оборот; всякий помышлял об общем деле; и нам стало легче. Все мысли наши были в армии; ученье шло, как могло, среди беспрестанных тревог и известий из армии. Одни воинские науки занимали меня страстно, в них одних находил я утешение и приятное занятие, сходное с расположением моего духа».
Николаю пошел уже семнадцатый год. Он все чаще бывал на разводах, парадах, ученьях войск, предаваясь страсти к «шагистике» и стараясь освоить все мелочи обожаемого им «фрунта», военной выправки и маршировки. Рассказывали, что Николай завидовал искусству Михаила в учебном шаге и даже сказал однажды: «Как обидела меня природа! Брат оттягивает ногу вершком более и опускает носок на вершок ниже!»
Война перевалила границы России и велась на полях Европы, а юноши все продолжали упрашивать мать разрешить им отправиться в армию. Наконец, в 1814 году, когда кампания, по сути, была окончена, вдовствующая императрица сдалась. Детям все равно предстояло совершить европейский вояж, и его теперь безопасно можно было соединить с выездом в войска.
Мать напутствовала великих князей превосходно написанным письмом, проникнутым высоконравственными сентенциями. Она советовала им быть строго религиозными, заботиться о правильном распределении времени, посвящать свободные минуты чтению, предостерегала их от праздности и умственной лени, убивающей духовные способности и заглушающей самые лучшие задатки. Если бы сыновья это еще и прочитали!..
Императрицу-мать очень беспокоил Париж, куда неминуемо предстояло попасть юношам. Париж, «гнездо разврата», со всеми его соблазнами, казался ей местом особенно пагубным для молодых людей. В качестве превентивной меры она попросила врача Крейтона показать сыновьям следствия «невоздержанности». Доктор отвел юношей в военный госпиталь и показал больных сифилисом в последней стадии. Зрелище подействовало – во всяком случае, на Николая. «Больные, которых я увидел, – вспоминал он, – произвели во мне такой ужас, что я до самой женитьбы своей не знал женщин».
И Николай с Михаилом отправились «воевать». К этому времени война уже кончилась. Войска союзников взяли Париж, всюду царило ликование, и в этой
атмосфере эйфории и всеобщего восторга молодые великие князья объехали пол-Европы. Везде они любовались парадами и смотрами войск, везде посещали дворцы, казармы, театры, госпитали, университеты и богадельни. Действительно, получилась обычная образовательная поездка, соединенная с поисками будущей спутницы жизни.
«В Берлине Провидением назначено было решиться счастию всей моей будущности, – писал Николай, – здесь увидел я в первый раз ту, которая по собственному моему выбору с первого раза возбудила во мне желание принадлежать ей на всю жизнь; и Бог благословил сие желание шестнадцатилетним семейным блаженством». Брак Николая с прусской принцессой Шарлоттой (в православном крещении Александрой Федоровной) был заключен в 1817 году, когда жениху исполнился двадцать один год. Со временем он стал отцом обширного семейства – четверых сыновей и трех дочерей. Все его дети, в свою очередь, тоже имели обильное потомство, так что императорский дом вскоре невероятно разросся и насчитывал к концу XIX века более ста представителей.
Взрослый Николай имел все признаки профессионального военного и «технаря», прекрасно разбиравшегося в различных производствах. Именно в его царствование начали строить железные дороги, пустили пароходы, стали внедрять паровые двигатели на производстве. В активе Николая было четыре языка: русский, французский, немецкий и английский. Позднее, уже став императором, он освоил (на разговорном уровне) еще и польский – когда собирался ехать в Варшаву, чтобы короноваться польской короной.
О русском языке стоит сказать отдельно. Именно в николаевское царствование знание русского языка стало обязательным для дворянства. Николай демонстративно использовал его в общении с придворными и чиновниками и требовал, чтобы на нем велось делопроизводство (в предшествующие царствования деловая переписка нередко шла по-французски).
Спартанское воспитание приучило Николая к простоте уклада. Он спал на походной кровати (как Павел), на тюфяке из соломы, ел горячее один раз в день, в обед, довольствуясь утром и вечером чаем с хлебом, но мог и сутками ничего не есть; почти не пил вина, не курил, выдерживал многотысячеверстные путешествия – всегда в открытой коляске или санях, – никогда не кутался и не знал домашней одежды (халатов у него просто не было). При этом он старался всегда быть подтянутым, бодрым и свежим и выглядел молодцом, даже когда его свита уже валилась с ног от усталости.
К царской миссии Николая не готовили, и необходимые для нее знания он добывал опытным путем. Можно сказать, что Николай сам превратил себя в царя. К своей новой роли он подошел с небывалой ответственностью и, как прежде старался стать образцовым военным, так теперь, превратившись в государя, принялся воспитывать в себе (поразительно настойчивой внутренней работой) желательные «царские» качества – трудолюбие, выносливость, великодушие, справедливость, милостивость и – особенно – чувство долга.
Грустный опыт собственного детства сформировал у Николая Павловича взгляд на воспитание детей, который он старался реализовать в своей семье: «Им (детям), – говорил он, – следует внушать чувства возможно большего почтения, но в то же время вселять в них доверие к родителям, а не страх».
Та система детского воспитания, которая в итоге сложилась в семье Николая, и стала эталонной для большинства его потомков.
«Мы просто делили с ними жизнь»
Дети Николая Павловича росли в по-настоящему счастливой семье.
Брак Николая и Александры Федоровны, заключенный по взаимной глубокой любви, всеми современниками признавался за образцовый. В этом дуэте Николай был воплощением безупречной мужественности, а Александра – бесконечной женственности. Он был глава семьи – твердый, уверенный, слегка деспотичный, но всегда любящий, снисходительный и нежный. Она никогда не претендовала на первые роли или развитие собственной личности и послушно следовала за мужем, одаривая его абсолютной преданностью и позволяя себя всячески баловать. «Мой жребий все же прекрасен. Я буду и на троне только его подругой! И в этом для меня все!» – писала Александра Федоровна. В своем дневнике она записывала, что однажды вскоре после воцарения, когда, как казалось, Николай был всецело занят государственными делами, она сказала ему: «Теперь я на втором плане в твоем сердце, так как первое место в нем занимает Россия». – «О нет, ты ошибаешься, – ответил Николай, – ибо ты и я одно; таким образом, ничто не может измениться». – «Как это чудно! – продолжала писать Александра Федоровна. – Можно ли после таких слов не быть счастливой, счастливой без конца!»
Атмосфера в семье Николая была возвышенной и сентиментальной. Августейшие супруги любили друг друга и были счастливы. Они любили своих детей и не считали нужным это скрывать. Для Николая его семья была и крепостью, и убежищем от проблем, и источником бесконечной радости.
«Император Николай Павлович был самый нежный отец семейства, веселый, шутливый, забывающий все серьезное, чтоб провести спокойный часок среди своей возлюбленной супруги, детей и позже внуков. Император отличался своей любовью и почтением к жене и был самый нежный отец», – вспоминала фрейлина М. П. Фредерике.
В кругу семьи грозного императора можно было застать, к примеру, за кормлением кашей младенца или за веселой и непосредственной возней с детьми и их маленькими приятелями. Сын художника П. Ф. Соколова рассказывал со слов отца, что однажды тот во внеурочное время оказался на детской половине Зимнего дворца. Соколов писал тогда портреты великих княжон, и ему нужны были для работы те платьица, в которых позировали девочки, чтобы дома спокойно прописать необходимые детали. «Знакомый со всеми входами и выходами дворца, отец направился прямо в детскую половину, где помещался гардероб.
Каково же было его изумление, когда, отворив дверь в детскую, ему представилась следующая картина: посреди комнаты император Николай Павлович в сюртуке без эполет и мимо него торжественное шествие маленькой армии в различных пехотных и кавалерийских формах, с барабанами, свистульками, мал мала меньше, в комической важностью старающейся держать строй, чтобы заслужить одобрение своего командира. Увидев моего отца, император велел ему остаться смотреть, „какой у него развод“. Эта маленькая комедия продолжалась довольно долго, пока, наконец, государь не закончил церемонии, расставив ноги и заставив весь отряд пройти под ними, как корабли проходили под колоссом Родосским».
В счастливой семье императора Николая оттаяла даже чопорная императрица-мать Мария Федоровна. Она превратилась просто в бабушку, любящую и любимую внуками.
«Бабушка приходила уже с утра, – вспоминала дочь Николая великая княжна Ольга Николаевна, – со своей гобеленовой вышивкой… садилась в детской и принимала там доклады, в то время как мы вовсю резвились… Никогда не забывала она привезти нам с собой гостинец. У меня до сих пор хранится привезенный ею браслет с камеей, изображающей отца».
Когда великим княжнам позволили играть с воспитанницами одного из институтов благородных девиц и сшили точно такую же институтскую форму, бабушка охотно притворялась, что не узнает внучек, и, подзывая их к себе, пресерьезно говорила: «А вы кто, милая?
Как ваша фамилия?» Девочки приходили в восторг: им казалось, что они выглядят настоящими институтками.
Семейная атмосфера и пример родителей воспитывали детей сами по себе, почти без усилий со стороны наставников. «Мне очень трудно передать, что дала Мама моему детскому сердцу, – вспоминала Ольга Николаевна. – Она была именно матерью, и описать это невозможно. С ней мы чувствовали себя дома как в раю. Каждую свободную минутку я бежала к ней, зная, что никогда не помешаю… Что касается общения с нами, детьми, то в нем не было никакой предвзятости, никаких особых начал, никакой системы. Мы просто делили с ней жизнь, и это было так легко, как воздух, который вдыхаешь, как будто иначе и не могло быть. Если Мама уезжала, мы становились как потерянные. И тем не менее я не могу сказать, чтобы она занималась нами. Может быть, сильное впечатление производил пример ее жизни. Только когда я сама была уже замужем, я поняла, что значит иметь такой пример перед глазами. Выезжала ли она, навещала ли институты или принимала дам у себя, всегда что-то от ее существа захватывало и нас, и в те вечера, когда мы стояли у рояля и слушали игру и пение, мы учились глазами и ушами, без длинных тирад, тому, как надо вести себя с людьми».
Николай был свято убежден, что «члены царственных домов должны стремиться стать достойными своего высокого положения, чтобы помирить с ним народное чувство». Дети воспитывались в строгости; им с ранних лет внушалось понятие долга и дисциплины. Вместе с тем им предоставлялось и много свободы. Вне уроков и протокольных обязанностей дети много гуляли, особенно летом, играли в своих комнатах и на детских площадках в парке, плавали, гребли, бегали, лазали по веревочным лестницам трапеций и через заборы (даже девочки), валялись на сеновале.
Живя в Царском Селе, семья Николая I занимала Александровский дворец. Специально для Александра Николаевича и его сестер рядом с дворцом на территории собственного садика, разбитого у окон личных императорских покоев, был построен маленький домик. В нем была гостиная и четыре комнаты для Александра Николаевича, Марии, Ольги и Александры, обставленные миниатюрной мебелью. Домик находился на небольшом острове – Детском – посреди пруда. На острове дети играли, катались на лодках (имелась маленькая пристань для спуска на воду «игрушечного флота»). Здесь же проходили детские праздники.
В другом уголке Александровского парка у Белой башни был устроен земляной бастион, внутри которого на площадке стояла мачта с веревочными лестницами и натянутой вокруг нее сеткой – прыгать.
В Гатчинском дворце в одном из залов Арсенала были устроены для детей бильярд, качели и даже настоящая катальная гора.
Процветал любительский театр, в котором с удовольствием принимала участие вся семья, причем отец, император Николай, с особенным успехом играл комические роли, чаще всего всяких смешных немцев. Став взрослыми, великие князья Константин, Николай и Михаил Николаевичи с успехом выступали как актеры-любители.
Когда императору указывали на излишне свободное поведение детей, в особенности девочек, он говорил: «Предоставьте детям забавы их возраста, достаточно рано им придется научиться обособленности от всех остальных».
К физическим наказаниям детей император, памятуя собственное детство, не прибегал – это тем более примечательно, что вообще розга как воспитательное средство была в его царствование очень распространена. Он умел поставить расшалившегося ребенка на место и без грубости, а преподанный таким образом урок оказывался часто действеннее апелляции к «заднему уму».
Однажды вечером, когда император вместе с гостями собирался играть в карты, великий князь Константин Николаевич, которому тогда было лет десять, чрезмерно расшалившись, подскочил к одному из игроков, Ивану Матвеевичу Толстому, собиравшемуся усесться, и со смехом выдернул из-под него стул. Толстой грузно упал на ковер. Его кинулись поднимать, а скверный мальчишка, хохоча, выскочил из комнаты. Император немедленно отреагировал. «Он положил на стол свои карты, – рассказывал очевидец, граф В. А. Соллогуб, – встал и, обращаясь к императрице, сидевшей невдалеке: „Встаньте, сударыня! – произнес он, возвышая голос для того, чтобы все присутствующие (а главное – преступный сын. – В. Б.) могли расслышать то, что он говорил. Императрица поднялась. – Давайте попросим прощения у Ивана Матвеевича за то, что так плохо воспитали нашего сына!“»
Царских детей не приучали к роскоши и излишнему комфорту: комнаты их были невелики, просто обставлены, снабжены лишь самым необходимым. Близкие по возрасту дети (две старшие дочери и два младших сына) жили вместе. Собственную комнату с элегантной обстановкой дети получали только по наступлению взрослости – в шестнадцать лет. Детей не баловали сладостями – конфеты и мороженое они видели лишь за общим столом или по праздникам. Ольга Николаевна вспоминала, что одеваться ей всегда было «скучно». «Мама или гувернантка заботились вместо меня об этом, и только будучи замужем, я стала думать о том, как я одета, чтобы понравиться моему мужу».
Любые проявления тщеславия отец-император немедленно пресекал. В 1827 году старшие девочки Мария и Ольга (восьми и пяти лет) должны были участвовать в церемонии крестин великого князя Константина Николаевича. «К крестинам, – вспоминала Ольга Николаевна, – нам завили локоны, надели платья-декольте, белые туфли и Екатерининские (ордена св. Екатерины. – В. Б.) ленты через плечо. Мы находили себя очень эффектными и внушающими уважение. Но – о разочарование! – когда папа увидел нас издали, он воскликнул: „Что за обезьяны! Сейчас же снять ленты и прочие украшения!“ Мы были очень опечалены. По просьбе Мама нам оставили только нитки жемчуга».
До пятнадцати лет на наряды великих княжон выделялось всего по триста рублей в год; недостающее добавлялось в виде подарков на Рождество и дни рождения.
Не менее решительно отец препятствовал и любым другим проявлениям тщеславия. Современница рассказывала, что великая княжна Мария Николаевна «любила, чтоб часовые отдавали ей честь, и как шустрая девочка (ей было тогда двенадцать лет. – В. Б.) умела всегда после обеда ускользнуть с глаз старших, проворно выбежать на крыльцо с апельсином в руках, сделать книксен часовому и сказать ему: „Миленький солдат, сделайте мне честь, я вам подарю апельсин…“ И часовой, разумеется, исполнял желание великой княжны, и она пре– довольная убегала опять во дворец. Николай Павлович поймал как-то нечаянно на месте преступления шалунью, и с этих пор было строго запрещено часовым отдавать честь великой княжне, когда она одна, а приказано отдавать ей честь только тогда, когда она выходит или выезжает из дворца со своей воспитательницей или с кем-нибудь из членов царской фамилии».
Когда французский посол маршал Мармон просил позволения официально представиться маленькому наследнику, Николай Павлович отклонил его просьбу: «Вы вскружите ему голову. Генерал, командовавший армиями, выражает свое почтение восьмилетнему ребенку!.. Я хочу сперва воспитать из сына человека, а потом уже сделать из него государя». И Николай пригласил Мармона в Царское Село, чтобы познакомиться с наследником в неофициальной обстановке.
Вместе с тем детей очень рано приучали к необходимой в их положении
публичности. В те блаженные времена цари еще не прятались от своего народа. И Александр I, и Николай I, их семьи могли себе позволить прогуливаться по городу или по парку в окружении простых смертных, которых не разгоняла полиция, а удерживала в некотором отдалении от августейших особ лишь почтительная вежливость. Все загородные императорские резиденции были одновременно дачными местами, и праздная публика беспрепятственно ходила в царские сады.
Современница вспоминала, как в 1834 году «излюбленная прогулка наша (в Царском Селе) была – ходить смотреть, как играли царские дети на зеленом лугу против Александровского дворца». Четырехлетний Константин Николаевич, «тогда еще маленький хорошенький карапузик, с которым, не стесняясь зрителями, вечно воевала нянька его, англичанка Мими. Помню, какая раз вышла баталия у них из-за потерянного кушака. Англичанка, чтобы наказать мальчика за это преступление, насильно повязала его по рубашечке своим носовым платком, а маленький великий князь ревел во все горло и от стыда прятался головой к ней в юбки… На тот неистовый крик подошел к ним государь, и когда узнал, в чем дело, то дал сыну маленький подзатыльник и сказал: „Прекрасно, Мими! Прекрасно! Так ему и надо, пусть не теряет больше своих кушаков“».
Постоянное сознание того, что, где бы они ни появились, на них непременно сбегаются смотреть зеваки, как на слонов в зверинце, делалось для царских детей привычным. Большого удовольствия это не доставляло («мне было гораздо приятнее смотреть самой, чем давать себя разглядывать», – говорила Ольга Николаевна), но помогало преодолевать застенчивость и напряженность, вырабатывало спокойную естественность манер и поведения.
Сыновья – великие князья – по традиции готовились к военной карьере, и потому особенно много внимания обращалось на их физическую форму и строевую подготовку. В наибольшей степени это касалось двоих младших, так как средний брат – Константин Николаевич – предназначался к службе во флоте. Даже в воспитатели ему дали знаменитого мореплавателя и ученого-гидрографа Федора Петровича Литке, а с семи лет Константин каждое лето совершал морское плавание. Третий сын Николая I – Николай Николаевич, – как и отец, должен был стать военным инженером, а четвертый – Михаил Николаевич – артиллеристом.
Младшие братья-погодки росли и учились вместе и оба были зачислены в 1-й кадетский корпус. В корпусе они, конечно, не жили; занимались дома по его программе, но летом вместе с кадетами принимали участие в лагерных учениях и маневрах. Император часто сам командовал учениями и никакой поблажки сыновьям не делал. Один из бывших кадетов, вспоминая, как Николая и Михаила привозили в придворной карете на отрядные учения, рассказывал: «По окончании ученья государь повел нас с заднего плаца на штурм лагеря, направив колонну 1-го корпуса, в которой шли великие князья, в лагерный клоак, который они и перешли по пояс».