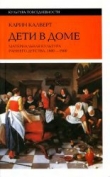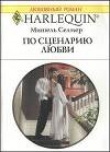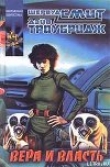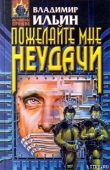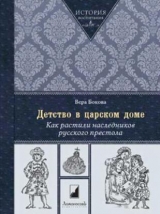
Текст книги "Детство в царском доме. Как растили наследников русского престола"
Автор книги: Вера Бокова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 15 страниц)
Протокол и этикет были тяжелой работой, поэтому дети пользовались всякой возможностью выйти за их строгие рамки, пошутить и посмеяться. Ольга
Николаевна вспоминала, как однажды гувернантка А. А. Окулова (незадолго до того только назначенная) решила привести к ней и ее сестре Александре (по домашнему прозвищу Адини) в гости своих племянниц. Те заранее трепетали и представляли себе визит к великим княжнам (!) чем-то очень торжественным. Проказницы-царевны решили их разыграть. «Адини и я сложили целую гору подушек. Задрапированные пестрыми платками и лентами из Торжка, обмотанными вокруг голов, мы сели поверх подушек, вооружившись киями от бильярда вместо табачных трубок. Дверь отворилась – полнейший конфуз! Затем взрывы хохота, киданье подушками – так произошло знакомство. Но Анна Алексеевна (Окулова) была очень долго огорчена таким недостойным представлением».
Большим озорником был в подростковом возрасте великий князь Константин Николаевич. В 1837 году во время посещения Оружейной палаты в Москве он совсем расшалился и, не забывая задавать умные вопросы и делать дельные замечания (к слову, он уже в десять лет неплохо знал историю Россию), одновременно примерил огромные сапоги Петра Великого, потом уселся на резной трон Ивана Грозного и совсем уже было приладился нахлобучить себе на голову шапку Мономаха, но воспитатель Ф. П. Литке этому решительно воспротивился.
Настоящая светская жизнь – вечера, неформальные балы, любительские спектакли, живые картины, массовые прогулки в санях на Елагин остров и т. п. – начиналась для царских и великокняжеских дочерей только
после наступления совершеннолетия, в пятнадцать-шестнадцать лет. Они могли выезжать в основном к родственникам и в немногие «дружественные» дома – главным образом придворных. В «городские дома» члены императорской семьи ездили редко.
Если для обычной дворянской девушки светская жизнь становилась преддверием замужества: на балах и в театрах ее могли видеть потенциальные женихи, с ними завязывались знакомства и рано или поздно следовало сватовство (для того, собственно, дочерей и «вывозили»), то для великой княжны всевозможные светские увеселения были всего лишь возможностью немного разнообразить жизнь, выйти за пределы того замкнутого круга, в котором она поневоле оказывалась и куда не проникали ни новые идеи, ни свежие впечатления. Важно было также выработать привычку к светскому общению – преодолеть застенчивость и закрытость самих девушек, расшевелить их. Ведь им самим со временем предстояло играть заметную роль в свете. Ольга Николаевна вспоминала: «В фейерверке игривых слов, галантных шуток и ничего не значащей болтовни, как это принято молодежью в обществе, я чувствовала себя вначале потерянной».
Светские выезды увеличивали число знакомств великих княжон. Часто в это время у них появлялись новые задушевные подруги и первые сердечные увлечения. И вот тут требовалась вся бдительность гувернанток, чтобы не позволить легкой заинтересованности превратиться в серьезное чувство. Ведь все знали, что обычные светские кавалеры не для великих княжон – их браки
устраивались только на международном уровне. Та же Ольга Николаевна вспоминала: «Я поймала на себе взгляд… (который) заглянул в мою душу. Я не могу передать того, что я пережила тогда: сначала испуг, потом удовлетворение и, наконец, радость и веселье. По дороге домой я была очень разговорчива и необычайно откровенна и рассказала (гувернантке) Анне Алексеевне обо всех моих впечатлениях. Она стала моей поверенной и ни одного чувства я не скрыла от нее… Она спросила меня: „Нравится он вам?“ – „Я не знаю, – ответила я, – но я нравлюсь ему“. – „Что же это значит?“ – „Мне это доставляет удовольствие“. – „Знаете ли вы, что это ведет к кокетству и что это значит?“ – „Нет“. – „Из кокетства развивается интерес, из последнего внимание и чувство, с чувством же вся будущность может пошатнуться. Вы прекрасно знаете, что замужество с неравным для вас невозможно. Если же вам подобное „доставляет удовольствие“, то это опасное удовольствие, которое не может хорошо кончиться. О вас начнут сплетничать, репутация молодой девушки в вашем положении очень чувствительна; не преминут задеть насмешкой и того, кто стоит над вами. Помните это всегда!“»
Женихи и невесты для членов русской императорской фамилии подбирались во время заграничных визитов или ответных посещений России зарубежными кандидатами из числа определенных владетельных фамилий Европы, главным образом немецких и скандинавских, протестантских по вероисповеданию, а также немногих православных (Греция, Черногория). Юноши, в особенности наследники, могли приискать себе невесту во время образовательного европейского вояжа, причем могло случиться и так, что их внимание привлекали совсем юные девушки, о которых в России еще не сложилось целостного мнения. Так произошло с Александром Николаевичем, выбор которого пал на пятнадцатилетнюю принцессу Гессен-Дармштадтскую – его русская родня о ней еще толком ничего не знала. Тут же стали собирать сведения. Императрица-мать списалась с родственниками и вскоре получила обнадеживающие сведения: девица, несмотря на молодость, была «очень серьезна по натуре, очень проста в своих привычках, добра и религиозна».
Иногда во время таких ознакомительных поездок братья решали судьбы сестер. Тот же Александр Николаевич, присмотревшись к одному из австрийских эрцгерцогов, отрекомендовал его родителям как наиболее подходящего жениха для сестры Ольги.
Узнав об этом, Ольга тут же стала мысленно считать себя невестой и настраиваться на будущее чувство к нареченному жениху. В результате, когда эрцгерцог приехал в Россию, по ее словам, «…сердце заговорило для него».
Установка на обязательное замужество, причем с тем, кого «пошлет Бог», настраивала великих княжон на самое серьезное отношение к браку. В разговорах девушек «чаще всего речь шла о наших будущих детях, которых мы уже страстно любили и верили, что внушим им уважение ко всему прекрасному и прежде всего к предкам и их делам и привьем им любовь и преданность семье, – вспоминала Ольга Николаевна. – Наши будущие мужья не занимали нас совершенно, было достаточно, что они представлялись нам безупречными и исполненными благородства».
Проникнутые сознанием долга девушки старались не позволять себе неподобающие чувства. С юношами положение было сложнее. Менее ограниченные в своем поведении, они довольно часто переживали до брака и по одному, и по нескольку сердечных увлечений, порой настолько серьезных, что молодые великие князья готовы были даже на отречение от своих династических прав ради любви. Такой пылкий роман пережили и сыновья Николая I – Александр и Михаил, и сын Александра II – будущий Александр III. Каждый раз, когда возникала подобная проблема, молодой человек имел объяснение с отцом, и чувство долга одерживало верх.
Тем не менее история рода Романовых на протяжении XIX века знала несколько случаев неравных браков: великий князь Константин Павлович пошел на отречение от прав на престол ради любви к польской аристократке Жанетте Грудзинской; старшая дочь Николая I Мария Николаевна после кончины своего первого (правильного) супруга позволила себе тайный морганатический брак с неровней – графом Строгановым. Брат Николая II Михаил Александрович женился не просто на неровне, но и на женщине дважды разведенной – Наталье Вульферт. Такие случаи с течением времени делались все более частыми, что свидетельствовало, несомненно, о проникновении в императорское семейство новых идей и представлений. И можно предположить, что если бы история дала Романовым более долгий век, принцип брака по любви возобладал бы и в этой династии, как он одержал верх в других европейских владетельных домах.
Следует прибавить, что брачный возраст на протяжении XIX века неуклонно увеличивался, и если в XVIII веке каждый великий князь встречал свое двадцатилетие уже связанным брачными узами, то в XIX столетии к венцу выходили в основном уже взрослые люди – случалось, браки заключались и в двадцать пять, и в двадцать семь лет. Но одно правило соблюдалось неукоснительно: наследник престола к моменту принятия короны обязательно должен был быть женат. Следование этому правилу привело, как известно, к тому, что наследник Александра III – Николай Александрович – вынужден был жениться почти сразу после кончины отца, когда его тело еще не предали земле а вся страна находилась в трауре – нехорошее предзнаменование для будущего царствования.
После того, как брачный союз устраивался, следовала помолвка и назначался день свадьбы – обычно через несколько месяцев. Незадолго до венчания в нескольких залах Зимнего дворца обязательно организовывали выставку приданого царственной невесты. На столах и в стеклянных витринах выставляли фарфор, хрусталь и столовое серебро, постельное и столовое белье,
туалетные принадлежности (в том числе из драгоценных металлов), меха, платья, включая роскошный подвенечный наряд, украшения и т. п. Посмотреть на все это могли приглашенные на свадьбу, придворные, родня, а с конца XIX – начала XX века – еще и репортеры светской хроники, благодаря которым описание приданого с прибавлением фотографий становилось достоянием обывателя.
В конце последнего зала ставили стол с «приданым жениха», которое традиционно являлось подарком отца невесты. Оно состояло из большого количества рубашек, нательного белья (каждого вида по 4 дюжины), а также ночного халата и туфель из серебряной парчи, которые полагалось надевать новобрачному перед тем, как войти в день венчания в спальню к молодой жене. Халат был тяжеленным – весил 16 фунтов (около 7,5 кг) и придавал своему носителю довольно комичный вид какого-то оперного султана, но обычай есть обычай, и женихи следовали ему неукоснительно.
Несбывшийся
Уже в финале истории дома Романовых судьба наконец-то послала императорской семье такого наследника, о каком она мечтала.
Николай Александрович (1843–1865) был вторым ребенком Александра II и Марии Александровны (старшей у них была рано умершая дочь Александра).
Высокое предназначение Николая заботило родителей с самого его рождения, хотя официальный титул наследника он получил только в феврале 1855 года, после смерти деда, Николая I. В 1845 году его отец писал жене: «Послезавтра ему минет уже два года. Бог да сохранит нам этого милого мальчика. Я всегда трепещу при мысли о предстоящей ему судьбе. Но в этом, как и во всех прочих случаях жизни, нужно повторять: „Да будет воля Его!..“ Да сделает Он его достойным занять со временем место, ему предназначенное».
Дед Николай Павлович обожал внука, много им занимался и, по своему обыкновению, рано приучал к военному делу.
Современник рассказывал: «Однажды, возвращаясь с внуком в шарабане, он (император) остановил его у гауптвахты Большого Петергофского дворца и велел Николаю Александровичу распустить дворцовый караул от лейб-гвардии Конно-Гренадерского полка. Шестилетний Никса бойко командовал: „Слушай! На плечо! К ноге! В сошки!“ Император похвалил его, поцеловал и только заметил, что надо командовать громче».
Первоначальным воспитанием Николая и других детей руководила в основном сама Мария Александровна. Она старалась каждую свободную минуту проводить в детской и вникала в каждую мелочь гораздо глубже и основательнее, чем все ее предшественницы. К этому времени вообще стало считаться нормой, чтобы приоритетом матери служили дети. Былая дисциплинарная дистанция предельно сократилась.
Николай был любимцем матери: «Она любила его нежнее других и совершенно исключительно занималась им (в ущерб прочим) и гордилась его воспитанием», – писал современник. Она воспитывала Николая, сообразуясь с его природными способностями, мягко и ненавязчиво его направляя. Особых усилий это почти не требовало: это был в полном смысле слова золотой ребенок.
Бонной его была Мария Андреевна Юз, ранее воспитывавшая братьев Александра II – Николая и Михаила Николаевичей. Гувернанткой Николая, как и его брата Александра (первые годы братья росли вместе), была назначена Вера Николаевна Скрипицына, занимавшая до этого должность инспектрисы Воспитательного общества благородных девиц (Смольного института). Она учила мальчиков молитвам и грамоте, а позднее предметам по программе начальной школы – русскому чтению и письму, арифметике и священной истории, первым навыкам французского и немецкого языков, начаткам истории и географии.
В 1848 году у братьев появился военный дядька – унтер-офицер лейб-гвардии Семеновского полка Тимофей Хренов, обучавший их начальной военной подготовке.
С 1849 года воспитание великих князей возглавил бывший директор Пажеского корпуса Николай Васильевич Зиновьев, в помощники которому были приданы генералы Г. Ф. Гогель и Кознаков. Главной их задачей было приучение мальчиков к военному делу, особенно к требованиям армейской дисциплины.
С 1850 года начались регулярные уроки: каждый день по два часа занятия со Скрипицыной, потом фронт, маршировка и ружейные приемы у Хренова и два раза в неделю уроки гимнастики и танцев.
По вечерам в воскресенье к великим князьям приглашались их сверстники – племянники генерала Зиновьева Козловы, С.Шереметев, Н.Адлерберг, А. Олсуфьев, юные герцоги Лейхтенбергские и принцы Ольденбургские, и все вместе они играли в мяч и в войну, устраивали изрядный шум и возню.
Весной двор переезжал в Царское Село, где любимыми местами Николая и его братьев был Детский остров, а также специально для них
устроенный гимнастический уголок с лестницами, канатами, мачтами и крепостными укреплениями.
Уроки продолжались и в Царском Селе, но здесь много времени отводилось прогулкам и всевозможным играм – настоящее деревенское приволье.
К 1 июля (когда праздновался день рождения бабушки Александры Федоровны) семейство Александра Николаевича переселялось в Петергоф, где неизменно занимало Фермерский дворец. Рядом был Финский залив с его шхунами, яхтами и ботиками, и юный Николай Александрович, подобно своему предку Петру Великому, страстно увлекся морем. Ему построили яхту для морских прогулок, названную «Никса», а дед Николай Павлович зачислил внука в гвардейский Морской экипаж.
У детей Александра II было счастливое детство – с любящими родителями, дедушкой и бабушкой, со множеством игр, игрушек, приятелей, удовольствий, с праздниками на Царицыном и Ольгином островах. Будущий наследник рос в на редкость гармоничной атмосфере.
В 1852 году наступила пора гимназического курса, и к Николаю и Александру – теперь уже к каждому порознь, ибо существовал индивидуальный подход в воспитании, а братья различались и возрастом, и темпераментом, и способностями, – стали ходить учителя. Известный историк литературы Я. К. Грот преподавал русский язык, всеобщую и русскую историю, географию, церковнославянский и немецкий языки; С. П. Су– хонин – математику, Ф. И.Шау – английский язык, Ф. Курнар – французский, И. И. Лау – чистописание,
Н. И. Тихобразов – рисование. Закону Божьему учил протопресвитер В. В. Бажанов, который был наставником еще отца великих князей. В программе были музыка, танцы, фехтование, верховая езда – все как полагается. Уроки занимали сорок пять часов в неделю, включая время для подготовки.
О том, насколько серьезным было образование цесаревича, свидетельствует хотя бы программа по русской словесности. Среди произведений, которые проходил Николай, были сочинения Хераскова, Фонвизина, М.Н.Муравьева, Екатерины II, И.И.Дмитриева, Карамзина, две книги «Илиады» в переводе Гнедича, произведения Жуковского, «Горе от ума» Грибоедова; «Борис Годунов», «Полтава», «Медный всадник», «Скупой рыцарь», отрывки из «Евгения Онегина» и др. произведения Пушкина; «Герой нашего времени» Лермонтова, отрывки из «Мертвых душ», «Тарас Бульба», «Шинель» Гоголя; «Бирюк» и «Бежин луг» Тургенева, «Антон– горемыка» Григоровича, «Поярков» и «Красильниковы» Мельникова-Печерского и др. Кроме того, наследника основательно знакомили с древнерусской литературой, он даже занимался переложением некоторых псалмов и притчей Соломона с церковнославянского на современный русский язык.
Учителя не могли нахвалиться Николаем: он поражал наставников блеском ума и способностей. «Будущий наследник обещает чрезвычайно много, – писал Я. К. Грот. – Наружность у него приятная. В лице его много сходства с отцом и отчасти с дедом. Черты лица у него правильные и гармонические, глаза голубые с большой живостью, светлые волосы, коротко остриженные. Нрав Николая Александровича веселый, приветливый, кроткий и послушный. Для своих лет он уже довольно много знает, а ум его развит. Способности у него блестящие, понятливость необыкновенная, превосходное соображение и много любознательности».
18 февраля 1855 года умер Николай I, и цесаревич Александр Николаевич стал императором, а великий князь Николай Александрович – наследником и цесаревичем. Его назначили атаманом всех казачьих войск и канцлером Александровского университета в Гельсингфорсе – на должности, которые до вступления на престол занимал его отец, – и зачислили во все полки гвардии.
Теперь предстояло озаботиться его дальнейшим образованием, которое должно было не только соответствовать предназначению Николая, но и быть по-настоящему качественным и всеобъемлющим. Императрица Мария Александровна начала поиски подходящих лиц и программ.
В разговоре с А. Ф. Тютчевой Мария Александровна однажды сказала: «Пусть мне во всей России назовут человека, который с природным умом соединял бы истинное образование, с сильной волей – твердые принципы, веру и неиспорченную нравственность, и я ручаюсь вам, что преодолею все препятствия и поставлю этого человека к своим сыновьям». Но найти такого наставника для цесаревича было непросто. Несколько кандидатур оказались неудачными. В.П.Титов был слишком неопытным педагогом, К. Д. Кавелин – слишком либералом, А. Ф. Гримм (уже служивший ранее наставником у великого князя Константина Николаевича) – слишком немцем.
Наконец появилась кандидатура, устроившая всех: граф Сергей Григорьевич Строганов, бывший попечитель Московского учебного округа и куратор Московского университета; с его управлением был связан лучший период в жизни этого учебного заведения. Строганов был умен, ироничен, блестяще образован; он воевал с Наполеоном, объехал весь мир и прочитал целые библиотеки книг. Его уважали как в академических, так и в военных и придворных кругах за безупречную честность, принципиальность, полное отсутствие низкопоклонства и верность долгу.
«Граф Строганов создал для цесаревича спокойный, такой ясный умственный мир и в то же время такой широкий, что он мог получить в нем умственное развитие не только богатое и полное, но и твердое и совсем застрахованное от опасности влияния со стороны, – писал историк Е.С. Каменский. – Ничего не скрывая от ума великого князя из того, что тогдашние увлечения времени и моды противопоставляли всему, что граф Строганов считал основными истинами в политическом вероучении, он умел так убеждать своего воспитанника в истине и так опровергать все покушения на нее, что правильное умственное воспитание цесаревича делалось без малейших усилий. То серьезною речью, то шуткой, иронией, сарказмом, метко и кстати сказанными, он обращался с великим князем так, что вызывал в нем и полное доверие, и полную откровенность.
Между воспитателем и воспитанником был постоянный обмен мыслей».
Назначенный попечителем наследника Строганов лично разработал для него университетский курс, соединявший гуманитарные и военные дисциплины, и пригласил для преподавания лучших профессоров из Московского, Петербургского, Киевского университетов и Духовной академии, в том числе историков С. М. Соловьева и М. М. Стасюлевича, филолога Ф.И.Буслаева, экономистов И. К. Бабста и Н.Х. Бунге, юристов Б.Н.Чичерина, К.П.Победоносцева и И.Е.Андреевского, военного тактика М. И. Драгомирова и др.
Все приглашенные профессора отнеслись к преподаванию с особой ответственностью, старались не просто вложить в голову наследника знания, но и научить его размышлять и анализировать, применять теории к практике. Николай Александрович был внимателен, усидчив, вдумчив; профессора наперебой хвалили его, уверяя, что за всю их преподавательскую практику у них не было более способного ученика. «Развитие его, как все тогда замечали, в умственном отношении замечательное, – писал историк С. М. Соловьев. – Главной причиной этого изумительного развития была, разумеется, его даровитость, соединенная с тонким умом и очень восприимчивою натурою. Кроме того, он умел, а эта способность столь же ценная и редкая, как даровитость».
Б.Н.Чичерин писал о нем: «…Прелестный юноша, с образованным умом, с горячим и любящим сердцем, веселый, приветливый, обходительный, принимавший во всем живое участие, распространявший вокруг себя какое-то светлое и отрадное чувство». По словам другого преподавателя – А. И. Чивилева, – великий князь «был умен, способен к труду мысли и сочувствовал всем высшим ее интересам».
М. М. Стасюлевич преподавал наследнику всеобщую историю. Он писал: «Великий князь превосходно знал отечественную историю, и его любимою привычкою было делать при всяком случае сравнение нашего прошедшего с судьбою других народов. Он хорошо понимал, что знание отечественной истории недостаточно для великой нации. „Действительно, – выразился он однажды в конце нашего разговора об отношении всеобщей истории к отечественной, – народу, который имеет значение в судьбе человечества, необходимо знать историю этого человечества, чтобы занять посреди его приличное себе место“».
Под руководством Стасюлевича Николай прочел целый ряд европейских исторических документов и мемуаров (на языке оригиналов, естественно). Сильное впечатление на него произвели мемуары министра французского короля Генриха IV – Сюлли. Цесаревич сделал ряд выписок из этого источника, в особенности его заинтересовало то место, где Сюлли давал советы королю, как тому спасти Францию, доведенную предшественниками до полного внутреннего расстройства.
Ф. И. Буслаев читал Николаю историю русской средневековой литературы и тоже знакомил его с наиболее известными памятниками: Остромировом евангелием, Изборником Святослава, различными Патериками, с Сийским евангелием с его великолепными миниатюрами, причем демонстрировал и сами рукописи, специально для этих уроков выдававшиеся из библиотек – петербургской Публичной и московской Синодальной – и даже привозившиеся из Сийского монастыря. «Я должен был предложить ему из своей науки то, что подобает ведать будущему царю России! – писал Буслаев. – Полюбив науку, его высочество полюбил и относящиеся к ней рукописи и книги, а вместе с тем приобрел охоту составлять свою собственную, кабинетную библиотеку, по своему личному выбору и вкусу».
В обязанности Буслаева входило также приватное, внеклассное ознакомление Николая с «идеями, взглядами и направлениями современной образованной или вообще читающей публики по более интересным выдержкам из журнальной беллетристики и по таким газетным статьям, которые почему-либо возбудили всеобщее внимание и наделали много шума». Это делалось вечерами, за общим чайным столом.
«Чем больше заинтересовывался цесаревич бойким движением тогдашней периодической литературы, – рассказывал Буслаев, – тем живее обнаруживалось в нем желание составить себе ясное и точное понятие о ее главнейших деятелях, об отличительных качествах каждого из них, о нраве и обычаях и вообще о той обстановке, в которой они живут и действуют. На первом плане были для него не нумер журнала, не газетный лист, а живые люди, которые их сочиняют и печатают для распространения в публике своих убеждений, мечтаний и разных доктрин. Чтобы удовлетворить такому разумному желанию, я должен был входить в биографические подробности о журналистах и их сотрудниках, прозаиках, поэтах и критиках не только новейшего времени, но и прежних годов – поскольку это находил нужным и полезным. Я рассказывал о журнальных партиях, об ожесточенной вражде, с какою критика встречала произведения наших великих писателей – Карамзина, Пушкина, Гоголя; говорил о западниках и славянофилах, о „Библиотеке для чтения“ и о пресловутом бароне Брамбеусе, о „Северной Пчеле“ Булгарина и Греча, о „Москвитянине“ Погодина и о критических статьях Шевырева, об „Отечественных записках“ Краевского и о Белинском, о „Современнике“ Панаева и о Некрасове, Добролюбове и многих других».
«Последнюю лекцию читал я цесаревичу 31 декабря 1860 года, а перед отъездом в Москву был у него вечером 16 января 1861 года, – вспоминал Буслаев. – Из всего, что тогда говорилось, помню только немногие его слова, искренние и задушевные, которые глубоко и навсегда вкоренились в моем сердце. Речь шла о наших теперь уже поконченных занятиях. Сначала он спросил меня, какою отметкою оценил бы я его сведения и успехи, если бы он держал экзамен вместе с другими моими слушателями в университете. Я сказал, что он был бы одним из самых лучших. И как обрадовался наследник такому отличию! Потом, после небольшой паузы, будто отвечая на чей-то вопрос, он тихо промолвил: „Да, теперь я знаю, как мне воспитывать и учить своих детей, если Господь Бог благословит меня ими“».
Николай Александрович действительно был юношей незаурядным. Он обладал большими способностями, настойчивостью, врожденным чувством ответственности, хотел и успешно учился работать. Современники замечали, что он «очень вдумчив и, кажется, очень озабочен своей будущей ролью». Последнее было действительно так. Николаю было всего двенадцать лет, когда фрейлина императрицы Марии Александровны А.Ф.Тютчева (дочь поэта Ф.И.Тютчева) записала такой, например, его монолог: «Папа теперь так занят, что он совершенно болен от усталости. Когда дедушка был жив, папа ему помогал, а папе помогать некому: дядя Константин слишком занят в своем департаменте, а дяди Нике и Миша слишком молоды, а я слишком еще мал, чтобы помогать ему».
В 1859 году шестнадцатилетний Николай писал в дневнике: «Трудно мое призвание и особенно в минуту столь тяжелую (шла подготовка Крестьянской реформы. – В. Б.), во время решения вопроса, жизненного для отечества нашего. Трудно папа работать, надо ему всем помогать, надеюсь, что буду в состоянии к тому».
Его дневники свидетельствуют не только о том, что ему – одному из немногих в императорской семье – была присуща способность к рефлексии, но и о постоянной и упорной работе над собой: к примеру, он отмечал, с какими своими недостатками ему следует бороться: заносчивостью, «недостатком деликатности, строгостью в суждениях о других и со снисходительностью к себе самому».
Юноша возбуждал в обществе большой интерес, симпатию, а главное – глубокие надежды. В нем видели будущего человечного и благородного правителя, способного облагодетельствовать свою страну и править не «железным жезлом», а милостью и любовью, последовательно, мудро и справедливо. Он даже обнаруживал, как казалось, либеральные воззрения, столь созвучные тогдашнему настрою российской интеллигенции. Известного своим консерватизмом правоведа К. П. Победоносцева изрядно выводили из себя возражения наследника «в либеральном духе» во время занятий, вопросы о конституции, которые он задавал.
Насчет либеральных убеждений и общественность, и наставники, возможно, преувеличивали. Во всяком случае, по свидетельству одного из друзей цесаревича, он говорил: «Мне представляется, что неограниченный монарх может гораздо более сделать для блага своего народа, чем ограниченный, потому что в каждой палате гораздо больше интересов личных и партийных, чем может их быть в самодержавном государстве».
После шестнадцати лет цесаревич стал ходить к императору на доклады министров; у него появился свой «салон», руководство которым, не доверяя чужим, взяла на себя сама императрица Мария Александровна. Здесь было немного музыки, немного салонных игр и очень много умных и занимательных разговоров, которые цесаревич слушал с большим интересом. Императрица приглашала государственных людей и придворных, ученых и писателей (в том числе Ф.И.Тютчева, графа А. К. Толстого, князя П. А. Вяземского). Попутно Николай шлифовал свои манеры и навыки поддержания светской беседы.
Устроенное для наследника по образцу отцовского ознакомительное путешествие по России охватило только ее европейскую часть и было разбито на два этапа: летом 1861 года состоялась поездка по Волге на Нижегородскую ярмарку и оттуда в Казань, а летом 1863 года – еще одна, от Петрозаводска до Астрахани и Дона. Цесаревича встречали восторженно. Он посещал университеты и хлебные баржи, мельницы, лавки, харчевни, крестьянские избы и казачьи курени, различные производства; интересовался технологиями, работой ремесленников, заработками рабочих, положением студентов, ценами.
«Войдя в избу крестьянина Куранова, – писала тогдашняя газета, – Цесаревич, по народному обычаю, положил три поклона перед святыми иконами и, заметив в божнице старинные образа, разговаривал о них с хозяином. На набожных хозяев и крестьян произвели сильное впечатление слова его высочества о старинных иконах: из этих слов они узнали, что он хорошо изучил русское иконописание и его пошибы. „На Божье-то милосердие дока какой!“ – говорили крестьяне. Но еще больше удивило их, когда его высочество, взяв из божницы кожаную лестовку, стал расспрашивать Куранова о значении ее и сам говорил, что четыре лопасти лестовки знаменуют четырех евангелистов, обшивка их – евангельское учение и т. п. <…> Нельзя описать впечатления, произведенного этим на народ, увидевший, что наследник знает и уважает заветные русские обычаи. „Русский! Настоящий русский! Слава Тебе Господи!“ – говорили крестьяне и крестьянки со слезами на глазах; многие набожно крестились».
В 1863 году Николай Александрович писал из поездки младшему брату: «Ваше Высочество, августейший братец мой Алексей Александрович, здравствуйте и преуспевайте! Ваш братец Николашка Вам кланяется и желает много лет здравствовать. Думается мне, что подзабыли вы братца вашего набольшего, вот и взял перо гусиное и отписываю вам цидулку сию неграмотную.
Я, слава Богу, жив и здоров и преуспеваю в путь-шествии моем. Газет и писем моих к братцам, думаю, вы не читаете по малой вашей, не в обиду будь сказано, грамотности. Так я сам хочу вашу милость известить и с вами малое время покалякать. Теперь аз малое время плыву на некоем паровом ките, именуемом „Поспешный“, сиречь „скоро ползущий“. Идем мы вниз по матушке по Волге, по широкому раздолью. Воистину, Ваше Высочество, широкое раздолье. Хорошо море, да Волга лучше… Берега, Ваше Высочество, какие! Страсти сущие! Почище будет, чем в Петергофской речке, высоко и привольно. Гуляй, сколько душе угодно… Хорошо, доложу вам, также на Нижний посмотреть, из себя красив выглядит; ну и город важный, богатый – все есть. Вот доложу, какие есть тут, стоят и проживают городища: Рыбинск, Ярославль, Кострома прозываются пресущественные города! Особливо Ярославль из себя красив: ну и богатеющие купцы тут проживают и на ярмонку в Низовой Новгород ездят, там торг свой ведут. Эти города называю вам, потому что вы в географии еще не тверды, а может, до того не дошли, а где-нибудь по Америке или по Африке прогуливаться с указкой изволите. Ну, признаться, и я не твердо их знал, а вот как теперь, то и помню…»