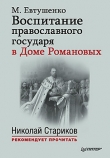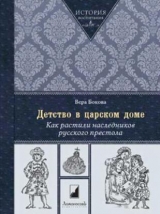
Текст книги "Детство в царском доме. Как растили наследников русского престола"
Автор книги: Вера Бокова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 15 страниц)
После того как чтение было освоено, а все необходимое прочитано и выучено, следовало обучение письму. Руку «ставили», упражняясь на прописях, с вариантами написания букв, слогов, слов. Затем следовали образцы скорописи, содержавшие нравоучительные изречения и советы. При необходимости царевич мог выводить почти каллиграфические письмена, но, как правило, став взрослым, царь писал неразборчиво: небрежность почерка в известной степени была статусным признаком. Государь стоял так высоко, что мог себе позволить не думать об удобстве читателя и переписчика своих строк.
После освоения грамоты переходили к знакомству с нотной богословской книгой – Октоихом. Эту премудрость дети постигали лет в семь-восемь. Обычно на изучение ежедневных и праздничных служб уходило около двух лет; потом наступал черед «Страшного пения» – изучения песнопений Страстной седмицы. В результате ученик должен был уметь свободно петь по крюкам (тогдашний способ записи нот) стихиры и каноны. Впоследствии, уже взрослыми, некоторые из государей (Алексей Михайлович, Федор Алексеевич и др.) и сами писали распевы, попадая, таким образом, в число ранних русских композиторов.
Общеобразовательные предметы царевичам не преподавались – подобные сведения они черпали из усердного чтения и бесед с многознающим дядькой и другими бывалыми людьми, среди которых могли быть и иноземцы.
Царевича знакомили с русскими летописями, особенно иллюстрированными – «лицевыми», рассказывали об основных русских землях и городах и соседних державах – кто там правит, как они устроены и чего от них следует ожидать; знакомили с основами дипломатии и государственного управления. Очень много времени отнимали воинские науки: верховая езда, фехтование, стрельба из лука и пищали и пр.
Между тринадцатью и пятнадцатью годами царевича выводили из «затвора» и «объявляли» народу как наследника. Случалось, что и после этого юноша умирал, и тогда «объявляли» следующего. Так, Алексею Михайловичу пришлось объявлять наследников дважды: сначала царевича Алексея Алексеевича, а после его смерти – Федора Алексеевича.
«А как уведают люди, что уж его объявили, и изо многих городов люди на дивовище ездят смотрити его нарочно», – писал Г. Котошихин. С этого времени царевич считался совершеннолетним и везде появлялся вместе с отцом – в церкви и «на потехах», проход я последнюю, крайне важную стадию своего образования: осваивал на практике дворцовые церемониалы, приобщался к «царской забаве» – охоте, тоже являвшейся в какой-то степени церемониалом, участвовал в государственных делах. В шестнадцать-семнадцать лет его женили.
Если до взрослого возраста доживали и другие царские сыновья, им выделяли «удел» – довольно обширную территорию с несколькими городами, где царевич считался владетелем – «удельным князем». Так было с сыновьями Ивана Грозного, из которых Федору предназначалось (пока был жив его старший брат Иван) Суздальское княжение, а Димитрию – Угличское.
С пяти лет начинали учить не только царских сыновей, но и дочерей. Им ни воспитателей, ни учителей не полагалось: мужчины доступа на женскую половину не имели. Приставленные к девочкам мамка и большинство нянек оставались с ними на всю жизнь, но после пяти лет начинали обходиться с детьми строже и, если требовалось, наказывали их.
Вступление в пору учебы знаменовалось для царевен переходом из детских покоев в новое помещение: отдельно стоящую постройку, связанную с остальными сооружениями дворца крытыми переходами.
Учили девочек, как и мальчиков, грамоте, молитвам и церковному пению. Наставницей была «мастерица», которую находили либо среди ближних женщин, либо, поскольку грамотниц среди боярынь было немного, делали ею даже одну из сенных девок, для чего ее специально научали грамоте.
Очень основательно и вполне профессионально девочки учились также рукоделию – и шить, и плести кружева, и в особенности вышивать шелками, золотом и жемчугом. Когда они вырастали, рукоделие становилось их главным занятием. В церквах теремного дворца, в кремлевских монастырях, а порой и в иных обителях можно было встретить покровы, воздуха, облачения и шитые образа работы царевен.
Девочек не обделяли ни игрушками, ни лакомствами, ни нарядами, ни даже развлечениями. Они могли потешаться шутами и карлицами, слушать сказки нянек и рассказы странниц и богомолок, которых привечали на женской половине (призрение странных и убогих и благотворительность в виде раздачи милостыни были обязательны для царицы и взрослых царевен). Вместе со всей семьей царевны совершали переезды на лето из Кремля в загородные дворцы (Покровское-Рубцово, Коломенское, Измайлово, Преображенское и пр.) и там могли гулять в садах и рощах (при условии отсутствия мужчин и чужих).
Нарушали монотонность будней и поездки на богомолье в монастырские обители (не дальше шестидесяти верст от Москвы).
Царевны могли видеть (не принимая сами участия) происходящие в Кремле и на Красной площади праздники, въезды послов, крестные ходы. Вдоль кремлевской стены, на башнях, на Воскресенских воротах имелось несколько смотровых площадок для царской семьи, куда можно было попасть по переходам прямо из дворца, не нарушая этикета. В Грановитой палате до сих пор существует тайная «палатка» с окнами, выходящими внутрь палаты, откуда царевны с царицей и маленькими царевичами смотрели на церемонии приема послов.
При царе Алексее царевнам дозволялось и кататься по городу (в закрытых возках), и присутствовать на театральных представлениях (в закрытой решетками ложе), и даже из укрытия наблюдать за охотой.
Вместе с тем, чем старше становились девочки, тем жестче действовали для них запреты на общение с противоположным полом и на появление на людях, зато продолжительнее и строже становились требования к их благочестию: они держали много суровых постов и выстаивали ежедневные утомительные церковные службы.
В тринадцать-четырнадцать лет у царских дочерей наступал брачный возраст, однако надежды на замужество у них практически не было. Царская дочь могла выйти только за православного и только за ровню – царского сына. За своего подданного – «холопа» – отдавать царевну было зазорно: это царь мог жениться хоть на простолюдинке – и она становилась царицей; царевна же, выйдя за простого смертного, сама становилась простолюдинкой. Равных же ей по положению православных женихов, за отсутствием самостоятельных православных царств, не имелось. Оставалось пытаться искать женихов на чужбине, притом таких, которые согласны были бы «переменить закон», т. е. перейти в православие. Некоторые попытки в этом направлении делались. Иван III выдал свою дочь Елену за великого князя Литовского Александра. Борис Годунов также намеревался выдать дочь за иноземного принца, но тот умер незадолго до свадьбы. Ирина Михайловна, старшая дочь Михаила Федоровича, была просватана за датского принца Вальдемара, но брак так и не состоялся, так как принц исповедовал лютеранство и наотрез отказался принять православие. Принца пытались взять измором; его содержали в Кремле как узника; он несколько раз пытался бежать, но безуспешно. Как бы то ни было, Вальдемар не уступил. Ирина осталась вековухой, а принца отпустили домой только после смерти царя Михаила в 1645 году.
Таким образом, большинство царских дочерей оставались навеки девицами, призванными провести жизнь в теремном затворничестве и посвятить ее благочестивым делам. Они общались преимущественно с представителями духовенства, покровительствовали монастырям и отдельным храмам и непрестанно молились за свою землю и за грехи отца и братьев.
Как мы видим, царские дети должны были расти, надежно спрятанными от дурного глаза и житейских бурь. Их растили, как комнатные растения, не знающие ни голода, ни жажды. Их почти не касались людские пороки, зависть, злость и недоброжелательство: если дети и видели что-то подобное, то лишь во взаимоотношениях своей челяди. Почти отсутствовали и сильные впечатления: дети надолго (а девочки навсегда) помещались во внутридворцовое «мелкотемье», в замкнутый и душноватый мирок теремов с их постоянным набором лиц, событий и обстоятельств.
Уклад и строй старинной царской детской оказался очень живуч и в общих чертах благополучно просуществовал до младенческих лет Павла I, то есть до второй половины XVIII столетия.
Чинность и безчинство
Такова была идеальная модель жизни царских детей в XVI–XVII веках. Действительность совпадала с ней не всегда. Начать с того, что несколько русских государей этого времени – Борис Годунов, Василий Шуйский и Михаил Романов – были «избранниками», рожденными в простой доле, и воспитывались не по-царски, а по-боярски. К царствованию их, разумеется, не готовили. Не сразу стали воспитывать как царских отпрысков и детей Бориса Годунова. Когда их отец взошел на престол, Федору было десять лет, а Ксении – двенадцать. Однако отец сразу и очень серьезно занялся ими, и в итоге дети получили прекрасное, редкое по тому времени образование. Дядькой Федора был весьма ученый человек И. И. Чемоданов, служивший до этого в Посольском приказе. Под его началом царевич изучал всякие премудрости, даже «естествословие философское», постоянно «упражнялся в благочестии, злобу, мерзость и всякое нечестие ненавидел». Современник писал о Федоре: «Научен же бе от отца своего книжному почитанию, и в ответах дивен и сладкоречив вельми; пустотное же и гнило слово никогда же из уст его не исходяше; о вере же и научении книжном со усердием прилежа…» Юношу учили географии и истории. «Любопытным памятником географических сведений сего царевича, – писал Н. М. Карамзин, – осталась ландкарта России, изданная под его именем в 1614 г. немцем Герардом». Ксения же была «писанию книжному искусна», отличалась красноречием, любила пение: «гласи воспеваемые любляше», как выражался тогдашний хронограф, а современник, английский бакалавр Ричард Джемс, записал тогда же песни, особенно любимые Ксенией и ею якобы сочиненные. Была Ксения и искусной рукодельницей – в музеях хранится несколько приписываемых ей работ.
Не слишком совпадало с моделью воспитание младшего сына Ивана Грозного царевича Димитрия Угличского (двое старших росли в высшей степени чинно). Во всяком случае, к моменту гибели, на десятом году, когда он давно уже должен был находиться на попечении дядьки-воспитателя и вовсю учиться, Димитрий (возможно, вследствие падучей болезни, которой страдал) все еще жил на женской по ловине, на попечении няньки и кормилицы, а дядьки в штате не имел.
Тяжелое детство было и у самого Ивана Васильевича – первого, официально принявшего на себя царский титул. Он остался без отца в три года, без матери –
в неполных восемь лет, и, разумеется, нормальный ход событий этим сиротством был сбит.
Долгожданный наследник, он появился на свет, когда отец его, великий князь Василий III, совсем отчаялся иметь детей: его первый брак с Соломонидой Сабуровой был бездетным, а во втором, с Еленой Глинской, первенца пришлось ждать более трех лет. На радостях великий князь не только роздал множество наград и подарков, но и снял опалу с целого ряда своих приближенных.
Крестить Ивана родители отправились в Троице– Сергиев монастырь. Крестных отцов-восприемников – сразу троих – для княжича выбрал сам Василий III. Именно по его настоятельному желанию крестным отцом Ивана стал один из самых почитаемых старцев Иосифо-Волоколамского монастыря – любимой обители Василия – Кассиан Босой. Старца, глубокого старика, «яко младенца привезоша» и во время совершения обряда постоянно поддерживали под руки два троицких инока. Другим крестным отцом стал хорошо известный великому князю игумен Троицкого монастыря в Переславле-Залесском Даниил, вскоре после смерти причисленный к лику святых. Третьим восприемником был старец Троице-Сергиева монастыря Иев Курцов.
Крещение состоялось 4 сентября 1530 года. После этого великий князь сам возложил младенца на гробницу преподобного Сергия, отдавая его под покровительство самого почитаемого из русских святых.
Умирая, отец подозвал Ивана к себе и благословил его крестом св. митрополита Петра. Мамке наследника боярыне Аграфене Челядниной умирающий приказал «ни пяди не отступать» от ребенка. Ивану в то время шел четвертый год, но на него легли уже довольно многочисленные обязанности по представительству. Через несколько дней после смерти отца он – государь – принимал гонцов от крымского хана «и подавал им мед», а в феврале 1535 года вместе с матерью присутствовал на торжественной церемонии переноса мощей одного из главных патронов московской митрополичьей кафедры – св. Алексия, митрополита – в новую раку. В июне 1536 года (неполных шести лет) он отправился на свое первое богомолье в Троице-Сергиев монастырь. В августе 1536 года принимал литовских послов, причем у трона шестилетнего великого князя «берегли» кн. Василий Васильевич Шуйский и конюший князь Иван Федорович Овчина-Телепнев-Оболенский – родной брат Аграфены Челядниной и любимец царицы Елены Глинской. Мальчик просидел весь прием, время от времени произнося полагавшиеся слова. Лишь от обеда, устраивавшегося обычно в честь послов, отказались: от имени великого князя бояре сообщили послам, что при его малом возрасте ему «будет стол в истому». Крымским послам в аналогичной ситуации объяснили, что великий князь ест у матери.
До шести лет Иван, как положено, жил на материнской половине, затем к нему был приставлен дядька Иван Иванович Челяднин, племянник (по мужу) мамки Аграфены.
Иван был царь; мать – правительница при нем, и власть она держала крепко, железной рукой расправляясь со всеми потенциальными узурпаторами.
Потом мать умерла. Одновременно ушли и другие близкие Ивану люди: советника матери Ивана Овчину– Телепнева-Оболенского уморили в тюрьме голодом «и тягостию железною», а мамку Аграфену сослали в Каргополь и постригли в монахини. Началась ожесточенная борьба за власть – «боярское правление», одно из тех, о котором в народной памяти остались потом самые тяжелые воспоминания.
Иван был царь. Перед ним становились на колени, ему целовали руку, ему льстили и потакали, пока он сидел на престоле, но в частной жизни Иван был бессилен и безгласен. При нем люди из враждующих группировок врывались во дворец, избивали, убивали и мучили друг друга – и не обращали ни малейшего внимания на слезы и мольбы малолетнего государя пощадить того или иного боярина. И за кулисами тронного зала Иван чувствовал себя пренебреженным, заброшенным, игрушкой в чужих руках.
Опекунами Ивана и его «скорбного главой» брата Юрия в конце концов стали князья Шуйские, которые совсем забросили детей: те обносились; их часто элементарно забывали покормить. В этих обстоятельствах говорить о каком-то систематическом образовании юного государя, видимо, не приходилось. Еще при матери он должен был обучиться грамоте, письму и молитвам, и на этом учение для него надолго прекратилось.
Так продолжалось до тех пор, пока царь не вошел в разум и не научился использовать человеческие слабости и пороки в своих интересах. У него появились сторонники, и в тринадцать лет он впервые «топнул ножкой», приказав псарям убить «ближнего боярина» Андрея Шуйского, одного из тех, кто притеснял его все эти годы. «И от тех мест, – как сообщал летописец, – начали бояре боятися, от государя страх иметь и послушание». А к власти пришли родственники по матери – бояре Глинские.
О следующих годах Ивана со слов Андрея Курбского известны всякие гадости: он мучил животных и людей, повесничал, разбойничал, портил девок и не занимался ничем дельным. Не исключено, что так оно и было. О крутости нрава юного Ивана свидетельствуют и летописи. По его приказам и языки резали, и головы рубили, а летом 1547 года, разгневавшись на псковских челобитчиков, жаловавшихся на наместника – князя Турунтая– Пронского, семнадцатилетний государь псковичей «бесчествовал, обливаючи вином горячим, палил бороды и волосы да свечою зажигал, и повелел их покласти нагых по земли».
В 1545 году пятнадцатилетний Иван отметил свое совершеннолетие большим и уже самостоятельным паломничеством: сперва к Троице, потом в Переяславль, Ростов, Ярославль, на Белое озеро. Посетил Кирилло-
Белозерский, Ферапонтов, Корнильев Комельской, Павлов Обнорский монастыри, потом опять отправился к Троице, а оттуда в Александрову слободу и в Можайск. В промежутках между посещениями обителей вовсю охотился и занимался звериной ловлей. Он становился взрослым, и окружению далеко не безразлично было то, что входящий в возраст государь так и остался неучем.
В это время Максим Грек написал для наставления молодого государя «Главы поучительны начальствующим правоверно». Они начинались весьма резким утверждением, что тот, кто подчиняется действиям страстей – «ярости и гневу напрасному и беззаконным плотским похотем», – не человек, но «бессловесного естества человекообразно подобие». Далее шла речь о том, что истинному христианину не подобает услаждать свои глаза «чюжими красотами», а слух «душегубительным глумлением смехотворных кощунников». Ему не следует открывать свои уши для клеветников, «ниже язык удобь двизати в досады и злословия и глаголы скверны».
Вняв поучениям и под влиянием священника Сильвестра, с которым Иван сблизился в 1547 году, он начал читать – в первую очередь, конечно, богословские и нравоучительные труды – и обсуждать с Сильвестром прочитанное. Высокообразованным человеком был и духовник Ивана протопоп Благовещенского собора Андрей, и Андрей Курбский, один из друзей молодости Ивана. Под их совместным влиянием, как считается, Иван занялся восполнением недостатков образования и в довольно короткие сроки овладел «безднами премудрости». В дальнейшем он обнаруживал глубокое знание древнерусской книжности и Священного Писания, был знатоком духовной музыки, и ему даже приписываются некоторые духовно-хоровые сочинения той поры. Уже взрослым он много читал по древней и новой истории (древнерусские переложения византийских хроник и т. п.). Основные знания Иван набрал в 1550-х годах.
В итоге он заслужил у потомков славу одного из лучших литераторов своего времени, автора нескольких ярких и весьма информативных «Посланий».
Особого упоминания среди его сочинений заслуживает Духовная грамота (завещание) 1572 года, продолжающая традицию древнерусских «поучений» (таких как «Поучения» киевского князя Владимира Мономаха, жены суздальского князя Всеволода Юрьевича Марии, великого владимирского князя Константина Всеволодовича и др.). «Заповедую вам, да любите друг друга, – наставлял царь Иван сыновей. – Сами живите в любви и военному делу сколько можно навыкайте… Как людей держать и жаловать, и от них беречься, и во всем уметь их к себе присвоивать, вы б и этому навыкали ж. Людей, которые вам прямо служат, жалуйте и любите, от всех берегите, чтоб им притеснения ни от кого не было, тогда они прямее служат, а которые лихи, и вы б на тех опалы клали не скоро, по рассуждению, не яростью…
Всякому делу навыкайте: естественному, судейскому, московскому пребыванию и житейскому всякому обиходу, как которые чины ведутся здесь и в иных государствах, и здешнее государство с иными государствами что имеет, то бы вы сами знали. Также и во всяких оби– ходах, кто как живет, и как кому пригоже быть, и в какой мере кто держится – всему этому выучитесь: так вам люди и не будут указывать, вы станете людям указывать. А если сами чего не знаете, то вы не сами станете своими государствами владеть, а люди…
И люди бы у вас заодно служили, и земля была бы заодно, и казна у обоих одна – так вам будет прибыльнее. И ты, Иван сын, береги сына Федора и своего брата, как себя, чтобы ему ни в каком обиходе нужды не было, всем был бы доволен… А ты, сын мой Федор, держи сына Ивана в мое место, отца своего, и слушай его во всем, как меня, и покорен будь ему во всем и добра желай ему, как мне, родителю своему».
Сам Иван Васильевич, как мы знаем, следовал далеко не всем правилам преподаваемой им же науки, но сыновья его, в особенности доброжелательный и набожный Федор, отцовским заветам внимали и старались им следовать.
Любопытно, что скорее всего свои сочинения Иван Васильевич не писал, а лишь надиктовывал. «Писать своей рукой, – пишет современный исследователь, – считалось как бы недостойным государя. Так, служилые люди, вплоть до бояр высокого ранга, если были грамотны, сами подписывали те или иные документы, а имя царя на грамоте писал дьяк, царь же лишь прикладывал к ней свою печать».
Едва ли не первым государем, любившим писать собственноручно и делавшим это весьма часто и охотно, был Алексей Михайлович, которого, как и всех остальных детей Михаила Романова, воспитывали в высшей степени «чинно», в полном соответствии с образцом.
Алексей Михайлович был первенцем царя Михаила. Крестили его в Чудовом монастыре. Крестными стали келарь Троицкой лавры Александр Булатников и двоюродная бабка новорожденного Ирина Никитична Романова. По традиции, в честь рождения Алексея были устроены праздничные столы – родинный, затем крестинный. Дед, патриарх Филарет, благословил внука крестом, в котором находилась частица Животворящего древа, Млеко Богородицы и восемь частиц мощей разных святых; великая инокиня Марфа (бабушка) – фамильным образом Богородицы. На крестинах свои дары новорожденному преподнес и отец Михаил Федорович. Это был золотой крест с частью Ризы Христовой и часть мощей св. благоверного царевича Димитрия. Среди подношений были также частицы мощей преподобного Михаила Малеина и св. Евдокии, тезоименитых отцу и матери Алексея.
Первой мамкой Алексея Михайловича была дворовая боярыня Ирина Никитична Годунова. Затем ее сменила Ульяна Степановна Собакина, к которой царь сохранил привязанность на всю жизнь. Уже взрослым он постоянно справлялся в своих письмах сестрам о ее здоровье.
Известно имя первого духовника Алексея Михайловича – священника главной «домашней» церкви царского семейства Благовещенского протопопа Максима.
Дядькой у Алексея был известный боярин Борис Иванович Морозов, игравший впоследствии, когда питомец его начал царствовать, важную государственную роль. Помощником Морозова был назначен окольничий Василий Иванович Стрешнев. Для обучения царевича грамоте был приглашен дьяк Василий Сергеевич Прокофьев, письму и счету его учил подьячий Посольского приказа Григорий Васильевич Львов, бывший, по московским меркам, человеком весьма образованным. Пению царевич учился у певчих дьяков Луки Иванова, Ивана Семенова, Михаила Осипова и Николая Вяземского. Приучение к коню и обучение верховой езде Алексея происходило, как и других царских сыновей, очень рано, и впоследствии, по отзывам современников, он был лихим наездником.
У царевича был собственный штат накрачеев – музыкантов, бьющих в бубны. Его «тешили» борьбой с медведем, показывали, как «работают» охотничьи соколы (возможно, именно тогда, в возрасте двух-трех лет, зародилась всепоглощающая страсть царя Алексея к соколиной охоте), перед ним выступали «метальники» – акробаты и жонглеры, его смешили «дураки и карлы». В 1636 году семилетний царевич начинает играть в шахматы. В восемь лет он уже вовсю стреляет из лука. В документах сохранились упоминания о стрельнике Проньке Донкове, которому приходилось не покладая рук делать стрелы для воинственных царевичей – Алексея и его младшего брата Ивана.
Учился Алексей блестяще, прилежно и очень быстро. Он не только научился читать, но и пристрастился к чтению. Очень рано у него стала формироваться собственная библиотека, в которую входили подаренные и купленные ему книги – азбуки, Апостол, Октоих, Псалтирь, Тестамент (поучения византийского императора Василия сыну Льву), Космография, Лексикон, Стихирарь, Триоди, Грамматика литовской печати.
Со временем благодаря усиленному самообразованию Алексей сделался весьма знающим человеком, одним из немногих московских «интеллектуалов» своего времени. Он оставил воспоминания о русско-польской войне 1654–1667 годов, написал учебник о соколиной охоте («Урядник сокольничьего пути»), пробовал сочинять стихи.
Любопытно, что именно этому государю, носившему знаковое прозвище «Тишайшего» и воплощавшему в себе идеал чинности и благочестия, выпало осуществить целый ряд значимых реформ как в области законодательства и религиозной жизни, так и во всем тогдашнем жизненном укладе. Символами царствования Алексея стали: свод законов – Соборное уложение 1649 года, церковный раскол, воссоединение с Украиной, Немецкая слобода, полки «иноземного строя» и первый русский театр. Своих детей царь Алексей тоже рискнул воспитывать по-новому, в соответствии с новейшими на тот момент образовательными тенденциями.
На протяжении XVII столетия потребность в образовании неуклонно возрастала. Россия включилась в сферу европейской политики, расширились ее деловые и экономические связи. Нового уровня грамотности и культурного развития требовало и усиление власти, и усложнение государственного аппарата, и присоединение новых территорий, и развитие производства и торговли.
В России год от года возрастало число школ; устанавливались тесные контакты с книжниками Юго-Западной Руси, где уже в 1580– 1620-х годах существовали многие учебные заведения, в которых наряду с основами православного вероучения и церковнославянским языком изучались латынь, древнегреческий и польский языки, а также дисциплины, составлявшие основу европейского образования: грамматика, арифметика, риторика и диалектика (логика).
В 1648 году «ближний человек» Алексея Михайловича любитель наук и просвещения Ф. М. Ртищев основал на берегу Москвы-реки у подножия Воробьевых гор Андреевский монастырь «для распространения свободных мудростей». В нем жили приглашенные царем Алексеем из западнорусских земель ученые монахи Епифаний Славинецкий, Арсений Сатановский, Дамаскин Птицкий и еще около тридцати иноков, которые занимались переводами с греческого богословских трудов и наставляли учеников в греческом, латыни, польском языке и науках. (Алексей Михайлович назначил неродовитого Ртищева в товарищи дядьке своего сына Алексея Алексеевича.)
На фоне всех этих явлений традиционное дворцовое образование выглядело архаичным и недостаточным.
Особенно новаторским стало обучение языкам (для царевичей сочли достаточными латынь и польский). И предшественники Алексея, и он сам, согласно чину и этикету, должны были демонстрировать брезгливость и пренебрежение к иноземцам. После общения с ними (в частности, на посольских приемах) государь демонстративно омывал руки в лохани, а затем уходил полностью очищаться в баню. Если кто-нибудь из иноверцев заходил в православный храм, церковь считалась оскверненной, и ее потом заново святили большим чином освящения. В таких условиях приобщаться к чему-нибудь, исходящему от «еретиков»-иноземцев, было шагом действительно смелым.
Но реальность давно уже научила обходить традиции и запреты. Иноземцы составляли все более заметный элемент московской жизни; без них не обходилось ни войско, ни строительство, ни ремесло, ни торговля, ни придворная жизнь. Иноземные обычаи, знания, роскошь – все это манило человека XVII столетия и притягивало его как магнитом. Сам Алексей Михайлович не избежал искушения и, помимо пристрастия ко всяким иностранным штучкам в виде замысловатых часов, игрушек-автоматов и разной занятной мелочи, с удовольствием приобщился и к «огненной потехе» – новомодным фейерверкам (в Европе эта забава вошла в употребление в XVI веке), и к театральным зрелищам, и к закордонной мудрости.
Учить детей Алексея Михайловича был приглашен умнейший монах Симеон Полоцкий (1628–1680, в миру Самуил Емельянович Петровский-Ситнианович) – поэт, переводчик, богослов, проповедник, издатель, автор знаменитой в свое время «Псалтири рифмотворной», любимой книги молодого Ломоносова, кокоторую наряду с «Арифметикой» Леонтия Магницкого и «Грамматикой» Мелетия Смотрицкого он называл «вратами учености».
Глубокое благочестие Полоцкого было гарантией, что приобщение к новой мудрости не будет содержать опасности восхваления иных вероисповеданий или умаления православия.
Симеон Полоцкий с согласия Алексея Михайловича применил для его детей новую образовательную систему: «учение грамматичное» (причем преподавались даже основы стихосложения) и познание «семи свободных художеств» – грамматики, риторики, диалектики, арифметики, геометрии, музыки, астрологии. Полоцким же были сформулированы дидактические принципы обучения и воспитания, пригодные всем отрокам: здесь был и добрый родительский пример, и признание вреда от чрезмерной родительской любви.
У Полоцкого учился и царевич Алексей, на которого возлагали большие надежды (он умер в 1670 году), и, позднее, Федор, достигший в новой науке больших успехов. По словам историка В.Н.Татищева, Федор Алексеевич «великое искусство в поезии имел и весьма изрядные вирши складывал», также «к пению был великий охотник». У Федора была обширная музыкальная библиотека; он сам занимался композицией (до сих пор исполняется его песнопение «Достойно есть»), довел до совершенства придворную хоровую капеллу и одобрил переход со старых крюковых нот на европейские.
В свое недолгое царствование (1676–1682) Федор Алексеевич довольно успешно продолжал преобразовательную деятельность своего отца царя Алексея: занимался усовершенствованием судопроизводства, отменил калечащие наказания, укрепил положение дворянства, реформировал костюм (повелев всем носить «венгерское»), унифицировал и упростил налоговую систему. При этом, как отмечал современник, стремился народ свой «преукрасить всякими добродетельми, и учениями, и искусствами, и прославити не только российские народы, но и прежде бывших славнях предков своих». В планах Федора было создание печатного курса русской истории и создание высшей школы – Славяно-греко-латинской академии, которая открылась вскоре после кончины государя, – и возглавил ее Симеон Полоцкий.
Ученицей Симеона Полоцкого – совершенно небывалая вещь – была и знаменитая «правительница» царевна Софья. Как и братья, она знала латынь и польский, слагала вирши и штудировала «свободные художества». Наставник даже посвятил ей вирши:
О благороднейшая царевна Софиа, Ищеши премудрости выну небесныя,
По имени твоему жизнь твою ведеши: Мудрая глаголеши, мудрая дееши… Ты церковные книги обыкла читати И в отеческих свитцех мудрости искати…
Еще больше новшеств включало в себя воспитание младшего сына царя Алексея (от брака с Натальей Нарышкиной) – Петра Алексеевича.