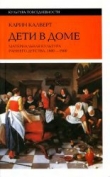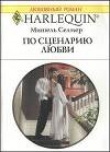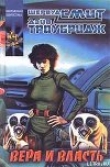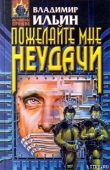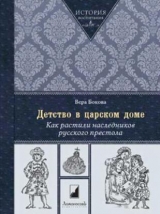
Текст книги "Детство в царском доме. Как растили наследников русского престола"
Автор книги: Вера Бокова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 15 страниц)
Неудача графа Остермана
Еще одна попытка нового по духу воспитания была предпринята в отношении юного Петра II, взошедшего на русский престол в одиннадцатилетнем возрасте.
По распоряжению Петра I его сын Алексей вступил в 1711 году в брак с кронпринцессой Шарлоттой-Софией Брауншвейг-Вольфенбюттельской. Это был первый в русском царском семействе брачный союз с иностранкой – немкой и лютеранкой, – открывавший дорогу задуманному Петром «династическому наступлению» на Европу, призванному кровными узами связать династию Романовых с европейскими владетельными домами.
Естественно, что чувства жениха и невесты при таких политических расчетах ничего не значили. Алексей и Шарлотта крепко не любили друг друга и в равной степени тяготились своим союзом. История их совместной жизни была коротка: молодые постоянно ссорились, Алексей злился и пил, даже, как говорили, бил жену; Шарлотта злилась и страдала. Все же у них родилось двое детей. Через десять дней после вторых родов, приведших в жизнь сына Петра, двадцатиоднолетняя Шарлотта скончалась. Петр I симпатизировал невестке и, когда она умирала, дал ей слово лично позаботиться о сиротах (кроме новорожденного Петра, у Шарлотты оставалась дочь Наталья).
Слово свое царь-преобразователь сдержал. И хотя династическое будущее Петра Алексеевича-внука было в то время смутно, воспитывали его как полноценного царского ребенка.
Именно он, по-видимому, был первым царственным отпрыском, которым занимались не русские няни, а бонны-иностранки. Таких по именам известно две: сначала мадам Брианд, затем мадам Роо. После смерти последней в 1719 году новую «немку» выписывать не стали, а передали четырехлетнего Петрушу на руки дядьке Семену Афанасьевичу Маврину (впоследствии Маврин впал в немилость у светлейшего князя Меншикова и в самые первые дни по воцарении Петра II был отправлен в ссылку в Тобольск).
Серьезным учением Петра дед-император озаботился, когда мальчик был на восьмом году. В наставники был выбран домашний учитель, живший в доме А.Л.Нарышкина (племянника царя Петра), – Иван Зейкин (Зейкер), венгр по национальности. Петр отправил ему рескрипт: «Господин Зейкин! Понеже время приспело учить внука нашего, того ради, ведая ваше искусство в таком деле и добрую совесть, определяем вас к тому, которое дело начни с Богом по осени».
Зейкер занимался с великим князем до 1727 года, в основном языками – латынью, немецким и французским. Учиться маленький великий князь не любил, успехи делал скромные, зато с упоением играл в солдатиков и стрелял из игрушечных пушек, то есть обнаруживал истинно царские пристрастия к военному делу «Он один из самых прекрасных принцев, каких только можно встретить, – умиленно писал французский посол Лави. – Он обладает чрезвычайной миловидностью, необыкновенной живостью и выказывает редкую в такие молодые годы страсть к военному искусству».
В 1726 году пришедшая к власти Екатерина I назначила одиннадцатилетнего Петра – единственного отпрыска Петра I по мужской линии – своим наследником, и встал вопрос о коррективах в его воспитании. Теперь предстояло вырастить не просто «принца», но государя.
И воспитателем Петра Алексеевича был назначен один из выдающихся людей эпохи – Андрей Иванович Остерман (1687–1747). К этому времени он уже более двадцати лет жил в России и благодаря своим дарованиям, предприимчивости и трудолюбию успел сделать головокружительную карьеру. Остерман ведал русской внешней политикой, имел чины тайного советника и обер-гофмейстера, занимал посты вице-канцлера, сенатора и члена Верховного тайного совета.
Назначение воспитателем к наследнику – для Остермана это была не только важная ступенька в его карьерной лестнице, но и своего рода интеллектуальный и нравственный вызов. В век Просвещения вопрос о правильном воспитании идеального правителя занимал многие умы. Блестяще образованный Остерман хорошо знал и знаменитый трактат Лейбница «Воспитание
наследника», и книгу Фенелона «Телемак», и многие другие работы на эту тему, прекрасно представляя себе, что правитель должен быть «отцом своей страны» и своего народа, строгим, но справедливым и добродетельным законодателем. Он должен вести свой народ к благоденствию и всеобщему счастью, блюсти права и обязанности своих подданных и самому со своей стороны, быть ими чтимым и уважаемым.
С этими просветительскими идеями в голове Остерман занялся разработкой программы воспитания русского «принца». Она получила название «Княжье зеркало».
Это пособие наряду с принципиальными высказываниями о государстве и политике содержало детальные инструкции по различным дисциплинам.
Юному великому князю рекомендовалось изучать языки, а также «статскую историю», «общую политику» и военное искусство. Прочие науки – математику, космографию, знания естественные и геральдику – предполагалось преподавать так, как «к увеселению потребно». Особое внимание было уделено истории и «нынешнему всех государств состоянию». На поучительных примерах прошлого и внимательном анализе настоящей политики европейских держав Петр должен был «свое государство, оного силу, потребность и способы как в зеркале увидеть». Особенно важным казалось, чтобы отрок о «житии и делах Петра I и всех приключениях его владения довольное и подлинное известие имел».
К практическому преподаванию Остерман (сам, конечно, не учивший, но осуществлявший общее руководство) привлек ученых из новооснованной Академии
наук. Академики Я. Герман и Ж.Делиль составили для Петра Алексеевича учебник по математике. Другой академик – Готлиб Байер – пособие по античной истории от сотворения мира до падения Рима. Блестяще образованный архиепископ Новгородский Феофан Прокопович написал «Наставление в христианском законе». Учебников на русском языке тогда почти не было, и эти книги пригодились потом не только другим царевичам, но и всяким простым школярам.
Теоретическая часть была в порядке. Дело оставалось за малым – превратить теорию в практику. И вот тут все забуксовало.
Пока писались учебники и инструкции, умерла Екатерина, и Петр стал императором. И хотя опеку его до совершеннолетия осуществлял Верховный тайный совет во главе с А. Д. Меншиковым, малолетний самодержец и сам был наделен немалой властью.
Его милости и щедрости домогались толпы царедворцев; у него явились толпы ласкателей. От расположения ребенка зависели многие судьбы. Что мудреного, что скоро Петр уже позволял себе кричать на Меншикова: «Я тебя научу, что я – император и что мне надобно повиноваться!» (И научил: вскоре Меншиков сгинул в березовской ссылке.)
Составленная вице-канцлером Остерманом учебная программа не была перегружена. С понедельника по пятницу Петру Алексеевичу предстояло высидеть всего двенадцать уроков по географии, истории и арифметике. Классные занятия перемежались играми, физическими упражнениями и музыкой. Дважды в неделю – по средам и пятницам – утренние часы (с 9 до 12) должны были посвящаться присутствию на заседаниях Верховного совета, дабы приобщаться к течению государственных дел.
Сперва проект программы поступил на утверждение в Верховный тайный совет. Там сразу было замечено, что Остерман как немец и рационалист пренебрег религиозной составляющей воспитания государя и, кроме утренней молитвы, никаких предметов вероучения в программу не включил. Пришлось вносить исправления: «В дванадесятые и господские праздники и в воскресные дни приходить во Святую церковь к литургии и во время оной стоять со страхом и пение слушать со вниманием, а особливо во время чтения Апостола и Евангелия прилежно слушать и рассуждать о Законе Божьем».
Потом проект поступил на утверждение… к самому императору, а как же иначе? Тот тоже внес в расписание свои поправки: «В понедельник пополудни от двух до трех часов учиться, а потом солдат учить; пополудни вторник и четверг с собаками в поле; пополудни в среду солдат обучать; пополудни в пятницу с птицами ездить; пополудни в субботу музыкою и танцованием; пополудни в воскресенье в летний дом и тамошние огороды». То есть после обеда император учиться решительно не желал.
После внесения исправлений Его Величество изволил проект утвердить, но осуществлять его не торопился.
За все лето 1727 года Петр II лишь два раза и то на самое короткое время посетил заседания Совета. Уроки также проходили от случая к случаю, когда Остерману
лаской или хитростью удавалось заманить царя в классную комнату. К слову сказать, отношения у Остермана и Петра были очень хорошие. У вице-канцлера у самого росли двое мальцов; к царственному мальчику он очень привязался и успевал иногда пробудить лучшие черты его характера – добродушие, живость и любознательность. Петр тоже полюбил наставника и без нужды старался его не огорчать. Но Остерман с его уроками и наставлениями был так скучен! К тому же разбираться в учебной премудрости тогдашнему школяру было сложно из-за крайне невнятного слога учебников и задачников. Литераторы лишь начинали шлифовать родную речь, готовя ее к превращению в литературный язык, а пока ученику предлагалось заучивать наизусть такое, например, определение: «Что есть умножение? – Умножить два числа вместе значит дабы сыскать третие число, которое содержит в себе столько единиц из двух чисел, данных для умножения, как и другое от сих двух чисел содержит единицу…», ну и так далее.
В итоге от учебы юный царь все чаще отказывался, зато «внеучебная программа» осваивалась им с большим рвением, да еще и с прибавлением, в особенности с тех пор, как в камергеры к императору был назначен сын одного из верховников – семнадцатилетний оболтус князь Иван Долгорукий.
Петр рос в одиночестве, без общества сверстников. Единственным близким по возрасту человеком в его окружении была сестра Наталья. Юный царь сестру очень любил, но она была девчонкой, к тому же не по летам разумной и вечно норовившей дать брату
полезные советы. А ему не хотелось советов, ему хотелось жить легко и весело и иметь
друга-приятеля.
Молодой Долгорукий был человеком легким, веселым, беспринципным, как сейчас говорят, «безбашенным». Он был старше, опытнее и притом очень хотел понравиться юному императору (Долгорукие мечтали о власти, которую могла обеспечить только близость к государю).
Ничего мудреного, что Петр увлекся новым товарищем и быстро к нему привязался. И Долгорукий приобщил царственного друга ко всему, что страстно любил сам: к ружейной охоте, веселым пирушкам, медвежьей травле, кулачным боям, карточной игре и утехам женской плоти.
Жизнь юного императора расцвела самыми яркими красками. Теперь он месяцами пропадал в охотничье– увеселительных поездках, то под Москвой в окрестностях Измайлова, то в Ростове, Боровске, Коломне. В промежутках присутствовал научениях гвардейских полков, плясал на балах, «строил куры», как тогда выражались, своей очаровательной юной тетке Елизавете Петровне, такой же любительнице охоты и светских увеселений. (Глядя на их флирт, Остерман даже подумывал о внутридинастическом браке: с точки зрения политики союз Елизаветы и Петра был очень даже соблазнителен, ибо соединял воедино обе ветви петровского потомства.)
Наблюдавшие жизнь русского двора иноземные посланники слали в Европу нелицеприятные отзывы.
«Монарх говорит со всеми в тоне властелина и делает, что хочет. Он не терпит пререканий, постоянно занят беготней; все кавалеры, окружающие его, утомлены до крайности».
«Он высокого роста и очень полон для своего возраста… Он бел, но очень загорел на охоте; черты лица его хороши, но взгляд пасмурен, и, хотя он молод и красив, в нем нет ничего привлекательного или приятного».
«Молодость царя проходит в пустяках… он не заботится о том, чтобы быть человеком положительным, как будто ему и не нужно царствовать. Остерман употреблял всевозможные средства, чтобы принудить его работать, хотя бы в продолжение нескольких часов, но это ему никогда не удавалось».
«Царь только участвует в разговорах о собаках, лошадях, охоте… а о чем-нибудь другом и знать не хочет».
«Царь с некоторого времени взял привычку ночь превращать в день и целую ночь рыскает со своим камергером Долгоруким».
«Говорят, что он начинает пить… О некоторых же других его страстях упоминать неудобно…»
«Прежде можно было противодействовать всему этому, теперь же нельзя и думать об этом, потому что государь знает свою неограниченную власть и не желает исправиться».
«Дело воспитания государя идет плохо».
Стремясь сохранить привязанность императора любой ценой, Долгорукие не только изощрялись во все новых и новых развлечениях монарха, но и стремились выдавить из его жизни Остермана со всеми остатками его влияния. На пользу нравственной физиономии Петра эти усилия явно не шли. «Нельзя не удивляться, – фиксировал французский посол зимой 1729 года, – умению государя скрывать свои мысли; его искусство притворяться – замечательно. На прошлой неделе он два раза ужинал у Остермана, над которым он в то же время насмехался в компании Долгоруких; перед Остерманом же он скрывал свои мысли: ему он говорил противоположное тому, в чем он уверял Долгоруких».
Остерман видел, что проигрывает. Несколько раз он заговаривал об отставке, так как не желал принимать на себя ответственность за заведомо безнадежное дело, но медлил и не уходил – уж очень не хотелось признавать свое фиаско. В его голове мелькали новые планы: отправить императора учиться за границу… приискать где-нибудь в Германии профессора, разбирающегося в тонкостях охоты, чтобы просвещал Петра во время его излюбленного занятия… Разразившаяся вскоре катастрофа положила конец и этим планам, и самому наставничеству Остермана.
Вечно обеспокоенные укреплением своего влияния на юного государя Долгорукие пошли ва-банк и надумали связать Петра со своим семейством нерасторжимыми узами. С этой целью ему в буквальном смысле «подложили» в постель красавицу Екатерину Долгорукую, родную сестру камергера Ивана.
Утром, протрезвев и проспавшись, четырнадцатилетний Петр узнал, что «как честный человек» должен теперь искупить «миг увлечения» женитьбой, ибо «похитил у молодой особы то, что вернуть было отнюдь не в его власти».
Эта перспектива, кажется, вразумила Петра. Впервые в жизни он задумался над последствиями своих поступков. Невеста была на четыре года старше; он не любил ее, но Долгорукие наседали, а Петр был «честный человек». День свадьбы назначили.
Внимательные наблюдатели отмечали, что после торжественной помолвки мальчик-император очень переменился. Он постоянно был хмур и задумчив, выказывал холодность к невесте, презрительно отзывался о своих новых родственниках, обзывая их «двуногими собаками». Впервые за много месяцев Петр отказался от охоты и даже заговорил о том, чтобы раздать желающим всю свою псарню.
Несколько раз, втайне от Долгоруких, он встречался по ночам с Андреем Ивановичем Остерманом. Даже заниматься стал прилежно.
Но роковой день приближался.
б января 1730 года, за тринадцать дней до свадьбы, назначенной на 19-е, у Петра обнаружились признаки оспы. Он слег и в ночь с 18 на 19 января, аккурат накануне венчания, скончался. Так завершилась вторая неудачная попытка воспитать для России идеального монарха.
Через несколько месяцев княжна Долгорукая родила мертвого ребенка; на этом пресеклась линия потомков несчастного царевича Алексея Петровича.
Царственные пионерки
Естественно, что ни дочери, ни племянницы Петра не воспитывались как будущие императрицы. Правда, смысла в их существовании было теперь больше, чем у царевен прежних лет. Те были обречены на почтенное, но бесплодное существование «царских молитвенниц», на прозябание в дальних покоях дворца, без всякой надежды на супружество, деторождение и даже просто на право распоряжаться самой собой.
Девочкам, рожденным в новое время, готовилась иная судьба. Петровская Россия входила в европейскую семью. Ей нужны были прочные международные связи, для установления которых годились прежде всего династические браки. И девушки из царского дома сделались разменной политической монетой, на которую со временем надеялись получить политический же капитал. В обязанность царевнам вменялось не отпугивать, но привлекать потенциальных женихов и уметь с ними объясниться. Это и было главным в их воспитании.
По сути, именно с этих девочек – дочерей Петра Анны и Елизаветы и его племянниц Екатерины, Анны и Прасковьи – началось в России женское образование. Оно было еще, конечно, очень неказистым – кривое, одностороннее, всякое, – но ведь тут главное – начало. По целине была протоптана первая тропка, а уж потом по ней прошло множество новых девочек – и царских, и не царских дочерей.
Дети покойного царя Ивана воспитывались в Измайлове, при дворе своей матери, вдовой царицы Прасковьи Федоровны, в обстановке вполне традиционной, хотя уже и тронутой «бесчинием» новых времен. Царица была женщиной благочестивой и богобоязненной, суеверной и малограмотной и хотя приобщилась несколько к увеселениям и образу жизни новой эпохи, все же предпочитала жизнь по старинке. Ее окружала бесчисленная челядь, приживалки и призреваемые, странные и убогие, шуты, сказочницы, монахини и юродивые. Атмосфера была своеобразная. Камер-юнкер Берхгольц описал в своем дневнике от 1822 года визит в Измайлово. Их привели прямо в спальню царицы, где пол был устлан красным сукном и стояли рядом две кровати – Прасковьи Федоровны и ее любимой дочери Екатерины Ивановны. Гости были шокированы присутствием там же какого-то «полуслепого, грязного и страшно вонявшего чесноком и потом» бандуриста, который «тешил» хозяйку ее любимыми песнями, судя по реакции слушательниц, довольно «скоромного» содержания. Тут же слонялась «босиком какая-то старая, слепая, грязная, безобразная и глупая женщина, на которой почти ничего не было, кроме рубашки…».
Дочерям царица Прасковья, по обычаю, дала по целому штату мамок и нянек, а когда приспела пора, дворцовые «мастерицы» обучили девочек грамоте и молитвам (Анну учила некая Ильинична). Известно, что в 1693 году «по ее (Прасковьи Федоровны) изволению и повелению известный ученый иеромонах Карион Истомин преподнес царице экземпляр составленного им „Букваря славяно-российских письмен со образованиями вещей и с нравоучительными стихами“, писанный красками и золотом. По такому же букварю занимался и царевич Алексей Петрович. Заучивали его наизусть и царевны – дочери Прасковьи Федоровны, и, верно, немало слез при этом пролили. Держали девочек в строгости, и с розгой, без которой тогда не учили, они были знакомы не понаслышке.
Ну а потом пришли новые времена. И по образцу образования царевича Алексея царице Прасковье пришлось приискивать дочерям „ученых немцев“. В скором времени к царевнам приставили гувернера и учителя немецкого языка Иогана-Христофора-Дитриха Остермана – немца важного, молчаливого, преисполненного чувством собственного достоинства. И глупого, как гусак. Единственной заслугой этого во всех отношениях бездарного человека было то, что он представил к русскому двору своего младшего брата Генриха-Иоганна, перекрещенного в России в Андрея Ивановича
Чему старший Остерман учил царевен – бог весть. Мать, царица Прасковья, в таких делах нисколько не разбиралась, а дяде, царю Петру, было не до племянниц. Он и за собственным-то сыном не мог уследить. При девочках состоял немец – и на тот момент этого было достаточно, чтобы считать, что они получают достойное образование. По-немецки, во всяком случае, и Екатерина, и Анна впоследствии говорили, но была ли в том заслуга Остермана или это жизнь научила – сие нам не ведомо.
Кроме немца, к царевнам был взят и француз – Стефан Рамбурх, которому обещали 300 рублей в год за то, чтобы он всех трех царевен „танцу учил и показывал зачало и основание языка французского“. Сам Рамбурх свой родной язык знал плоховато, а писал совсем безграмотно, но все же под его руководством царевны задолбили по несколько французских фраз. Что же касается танцев, то тут дело почти не сдвинулось с места за явной и вопиющей неуклюжестью и музыкальной бестолковостью всех трех царевен. Если у старшей Екатерины хоть что-то иногда вытанцовывалось, то Анна же с Прасковьей были совершенно безнадежны. К слову сказать, обещанного вознаграждения учитель Рамбурх так ни разу и не получил, так что и стараться было не с чего.
В общем, ни одна из дочерей Прасковьи Федоровны ни в науках, ни в „политесе“ не преуспела. Вышедшая замуж за герцога Мекленбургского Екатерина впоследствии поразила своих германских подданных полной необразованностью, дурным тоном, пошлыми манерами и вульгарным нравом, за что получила прозвище „дикая герцогиня“.
Даже по-русски царевны писали с грехом пополам. Так, Анна Ивановна адресовалась матери: „Iсволили вы свет мoi приказовать камне нетли нужды мне вчом здес вам матушка мая извесна што у меня ничаво нет… а деревенскими даходами насилу я магу дом i стол свoi вгот садержат“.
Впрочем, по-настоящему грамотных женщин в России, похоже, тогда вовсе не существовало. Практически все, кто умел писать, писали „как слышится“, не мороча себе голову ни правилами орфографии, ни знаками препинания. Огромное большинство дворянок – даже из очень родовитых семей – вообще не умели тогда ни читать, ни писать. И ничего – проживали жизнь и не тужили.
Дочери Петра I, Анна и Елизавета, росли гораздо позднее своих двоюродных сестер и в совсем другой семье. Мать их была „немка“, казалось бы, полностью выключенная из русской традиции. И тем не менее младенчество обеих „принцесс“ ничем не отличалось от первых лет дочерей царя Ивана. Были кормилицы, мамки, няньки, бесконечное баловство, кутанье и обжорство, полный набор положенных песен, сказок, суеверных примет и т. п. Впоследствии Елизавета, как и Анна Иоанновна, обнаруживала в своих привычках, наклонностях, в образе мыслей и предрассудках многие старорусские черты: это и любовь к народным песням и пляскам, и боязнь колдовства, сглаза и порчи, и глубокая ненарушимая набожность, и даже пристрастие к чесанию пяток на сон грядущий.
Тем не менее уже с трех-четырех лет девочки стали появляться на публике (что в предшествующую эпоху, как мы помним, было совершенно невозможно). Теперь детей больше не прятали. Более того, с царевен еще и писали портреты – тоже шаг новый и рискованный: в предшествующие годы изготовление „парсуны“ (портрета) допускалось только после смерти, чтобы не навредить живому.
„Светским дебютом“ Анны и Елизаветы стало участие в венчании собственных матери и отца, во время которого крошки-принцессы исполняли обязанности „подружек невесты“. Дальнейшее их воспитание происходило уже в новом духе. У них были гувернантки и учителя, и вскоре после того, как обе девочки овладели русской грамотой (к восьми годам) и прочитали положенные первые книги (все те же Часослов, Псалтирь и пр.), их стали учить „телесному благолепию“, а также „поступи немецких и французских учтивств“. „Учтивства“ эти состояли в знании церемонных поклонов, в умении танцевать, „держать спину“, принимать картинные позы и грациозно (или хотя бы жеманно) двигаться. Учили также языкам. По-немецки и по-французски дочери Петра могли впоследствии свободно и изъясняться, и писать (без грамматики). По-итальянски, фински и шведски – довольно внятно говорить. В танцах их успехи были еще более впечатляющими, особенно у грациозной и подвижной Елизаветы. Она „танцует так хорошо, как я еще никогда не видывала“, – свидетельствовала супруга английского посланника леди Рондо.
Учили девочек и рукоделию: в церкви подмосковного села Перова (где, как говорили, Елизавета тайно венчалась с Алексеем Разумовским) долгое время сохранялся комплект церковных облачений и богослужебных предметов, вышитых лично императрицей.
Царевны росли в окружении людей, которым специальными указами приходилось предписывать не сморкаться на пол, не спать в обуви и хотя бы перед ассамблеей менять нательное белье. Уже в девять-десять лет Анна с Елизаветой эти самые ассамблеи посещали, а там чего только нельзя было насмотреться да наслушаться – и „вусмерть“ упившихся, и матерно бранящихся, да и сцены недвусмысленно-откровенных придворных „амуров“ не оставались незамеченными юными царевнами. Петровское время, как всякая переломная эпоха, ознаменовалось своего рода малой „сексуальной революцией“, и нравы при тогдашнем дворе отличались изрядной распущенностью. Неудивительно, что Елизавета (об Анне сохранилось мало сведений) довольно рано и не дожидаясь брачного венца приобщилась к плотским удовольствиям. Она умела делать реверансы, горделиво и уверенно подать руку для поцелуя, знала предназначение вилок и ножей, могла по всем правилам – милостиво и любезно – по-французски приветствовать иноземного посланника – ну и довольно. Вне официальной обстановки можно было ходить дезабилье и непричесанной, звать придворных дам „девками“, бранить их, не стесняясь в выражениях, и собственноручно лупить прислугу по щекам.
Искушенные иностранцы оплошности Елизаветы, конечно, замечали, иногда сдержанно называли ее в дипломатической переписке „грубоватой“, но в основном тактично помалкивали.
Были ли в программе обучения царевен какие-то собственно научные дисциплины – точно неизвестно. Во всяком случае, князь М.М. Щербатов в своей книге „О повреждении нравов в России“ сказал о Елизавете как припечатал: „От природы одарена довольным разумом, но никакого просвещения не имела, так что меня уверял Дмитрий Васильевич Волков, бывший конференц-секретарь, что она не знала, что Великобритания есть остров“. Не исключено, что какие-то сведения из истории и географии сестрам все же сообщали, но позже, за недосугом и ненадобностью, они просто выветрились из памяти.
Сам Петр успехами своих дочерей был очень доволен, умилялся, глядя, как они переводят из книжки французские тексты, и, вздыхая, жалел, что сам в свое время почти не учился. В общем, он был прав: при всей недостаточности воспитание его дочерей было заметным шагом вперед по направлению к Европе, да и вряд ли кто из юных современниц Елизаветы и Анны мог похвастать чем-то лучшим.
Завершилось воспитание дочерей Петра, когда им было по тринадцать лет – то есть к их совершеннолетию. Само это совершеннолетие было обставлено особым обрядом – то ли изобретенным лично императором, то ли где-то им, по обыкновению, подсмотренным. Во время праздника по случаю дня рождения девочки выходили к гостям в белых платьицах с приделанными за спиной крылышками; отец-император торжественно брал ножницы и эти крылышки обрезал. Ангелы превращались в девиц на выданье. Потом следовали родительские напутствия, взаимные лобзания, слезы радости и поздравления.
Обряд был живописным, но остался достоянием только петровской эпохи. В более поздние времена ему не следовали.
Утратив ангельские крылышки, царская дочь отбрасывала книжки и тетрадки; ей шили взрослый гардероб, начинали усиленно сватать – словом, дальше шла взрослая жизнь.
Как и в случае с Алексеем Петровичем, воспитание царевен сделалось для русского дворянского общества того времени образцом, на который полагалось равняться.
В этом же роде получила воспитание и будущая правительница Анна Леопольдовна. Отличие заключалось только в том, что гувернантке маленькой принцессы – мадам Адеркас, о которой современники отзывались как об особе прекрасно образованной, начитанной, благоразумной и в целом отличавшейся „прелестью души“, удалось привить воспитаннице редкостное по тем временам качество – любовь к чтению (при дворе это был едва ли не первый такой случай!). Так что впоследствии главным занятием Анны было по целым дням валяться в постели неодетой и при этом глотать том за томом французские романы (французским языком она владела совершенно свободно).»