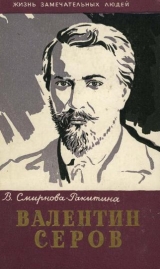
Текст книги "Валентин Серов"
Автор книги: Вера Смирнова-Ракитина
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 21 страниц)
XVII. БУДНИ
Серова-портретиста рвали на части. У него были постоянные заказы в Петербурге, в Москве, в провинции. Присвоенное ему в 1898 году звание академика живописи сделало имя Серова еще более известным. В конце концов чуть ли не половину года приходилось проводить вне дома.
Не говоря уже о том, что многочисленная царская фамилия считала для себя обязательным «портретироваться» у Серова, в столице были люди, которые годами ждали возможности заказать Валентину Александровичу портреты своих близких. В Петербурге писал Серов заказанный Третьяковым портрет Римского-Корсакова, портреты Мусиной-Пушкиной, Мещерской, Тенишевой, Романова, Горяинова и еще множество других.
В Петербурге жил близкий и дорогой Серову человек– Василий Васильевич Матэ; у него в академической квартире Валентин Александрович обычно останавливался. Там же в столице жило большинство его соратников по «Миру искусства». Общение с ними было не только удовольствием – всегда находилось множество дел и по объединению и по редакции журнала, которые надо было обсуждать, решать, а без Серова сделать это было невозможно: он был полномочным представителем московских художников.
Легкий на подъем, Валентин Александрович все же иногда тяготился разъездами. Он как-то шутя сказал своим домашним:
– Мне бы надо было поселиться в Бологом. Оно как раз на полпути между Москвой и Петербургом.
Гнетом висела необходимость основное свое время посвящать портретам царской фамилии. Он никогда не считал эту работу большой для себя честью, но, однажды попав на эту линию, не считал возможным отказываться. Неприятностей это дело приносило гораздо больше, чем можно было думать.
В памяти друзей Серова остался такой, например, эпизод: в 1900 году Серов писал портрет Николая II в форме шотландского полка – в красном мундире с меховой шапкой. После окончания портрета Серов зашел во дворец по просьбе Николая, чтобы показать свою работу царице. «Царица, – рассказывает И. Э. Грабарь, – просила царя принять свою обычную позу и, взяв сухую кисть из ящика с красками, стала внимательно просматривать черты лица на портрете, сравнивая их по натуре и указывая удивленному Серову на замеченные ею мнимые погрешности в рисунке.
– Тут слишком широко, здесь надо поднять, там опустить.
Серов, по его словам, опешил от этого неожиданного урока рисования, ему кровь ударила в голову, и, взяв из ящика палитру, он протянул ее царице со словами:
– Так вы, ваше величество, лучше сами уж и пишите, если так хорошо умеете рисовать, а я больше слуга покорный.
Царица вспылила, топнула ногой и, повернувшись на каблуках, надменной походкой двинулась к выходу…»
Царь опешил не меньше Серова, он попытался было остановить жену, уговорить ее, но безуспешно. Пришлось ему как-то замазывать этот эпизод. Николай II, как оказалось, больше всего боялся, как бы Серов не отказался от писания портретов его семейства. Это был бы достаточно шумный скандал.
О втором недоразумении в резиденции российских императоров можно судить по письму, которое Серов вынужден был послать начальнику канцелярии министерства двора.
«…Должен Вам заявить, что вчерашняя беседа Ваша со мной произвела на меня в высшей степени тяжелое впечатление благодаря замечанию Вашему, что я, пользуясь случаем, когда со мной не сговорились предварительно в цене, назначаю государю слишком высокую плату[8]8
Серов назначил за портрет Николая II 4 тысячи рублей.
[Закрыть].
Не знаю, имеете ли вы право бросать мне в лицо подобное обвинение.
Почему я назначаю столь высокую (по Вашему мнению) цену – на то у меня есть свои соображения, хотя бы и то, весьма простое, что до сих пор они (цены) были низки (по моему мнению) и гораздо ниже цен иностранных художников, работавших двору, каковы Беккер и Фламенг.
Во что мои работы обходятся мне самому, я не ставлю на счет министерству, каковы, например: переезды из Москвы и жизнь в Петербурге, поездка в Копенгаген, когда писал портрет покойного государя Александра III, не ставлю в счет и повторения сего портрета акварелью взамен эскиза, впрочем, это была простая любезность (стоившая мне более месяца работы).
Не желал бы я упоминать обо всем этом – Ваше замечание вынудило меня на то. Во всяком случае, сколько бы я ни спросил, – сколько бы мне ни заплатили – не считаю Вас вправе делать мне вышеуказанное замечание и покорнейше просил бы Вас взять его обратно.
Академик В. Серов».
Только через несколько лет, уже после событий 1905 года, Серов нашел в себе силы окончательно разорвать тяготившие его отношения с царским двором и сумел это сделать так твердо и решительно, как не сумел бы, пожалуй, никто из современных ему художников.
Но и работая во дворце, Серов никакого особого почтения к своим царственным моделям не испытывал. Он даже не прочь был позабавиться при случае на их счет и позабавить друзей.
Так, со вторым портретом Николая II, где тот изображен сидящим за столом в домашней тужурке и писанным в один год с портретом в шотландской форме, Серов проделал такую шутку.
По дороге во дворец Серов заехал на совещание в редакцию «Мира искусства». Портрет был при нем. До начала совещания оставалось еще какое-то время. В зале было темновато, пустынно. Серов заскучал. И вдруг, недолго думая, поставил портрет на стул во главе стола, где обычно сидел Дягилев, слегка задрапировав верх картины. Руки царя оказались на уровне стола, и в полумраке зала портрет производил впечатление живого человека, сидевшего за столом. Серов отошел в сторонку и с наслаждением наблюдал, как шарахались в испуге приходившие на совещание члены «Мира искусства». Проделка Серова вспоминалась долго.
К началу века, ко времени полного расцвета замечательного серовского таланта, относится множество работ не только петербургских, но и московских. Многие из его портретов были просто эпохальными. Большой успех имел знаменитый портрет Михаила Абрамовича Морозова, тот, на котором он стоит словно чугунный, широко расставив ноги, не человек, а памятник крупному капиталу. Это один из тех портретов, где Серов настолько проникается характером модели, настолько тонко понимает ее сущность, что незаметно для себя становится сатириком, бытописателем нравов. В иные минуты он поражается не степени своего прозрения, а удивительной наивности натуры, которая не видит жестокого разоблачения. И. Э. Грабарь вспоминает разговор, который был у него с Серовым.
«…Я встретился с ним случайно на улице. Поздоровавшись, я спросил, что он пишет сейчас.
– Да вот только что кончил портрет Михаила Абрамовича Морозова.
– Что же, довольны вы?
– Что я? Забавно, что они довольны, – сказал он, ударяя на слове они.
Я сделал удивленное лицо, ибо был озадачен этой фразой.
– Ну вот увидите, тогда поймете, – сказал он, прощаясь».
Но не ко всем «капиталистам» Серов одинаково строг. За год до портрета Михаила Абрамовича он написал портрет его сынишки – Мики Морозова, лучший из детских портретов не только в творчестве Серова, но и во всей русской живописи. Прелестный кудрявый ребенок с тонким одухотворенным личиком сделан с такой экспрессией, в таком порыве, что рядом с ним кажутся неподвижными куклами все иные портреты. И по цвету это старый Серов, Серов эпохи исканий цвета, пленера, света. С этим портретом близки, пожалуй, только две более поздние вещи – «Портрет сына» и «Дети».
К московским портретам этого же периода относится очень мастерски сделанный портрет Лосевой – грубое, жесткое лицо женщины с большим характером. Серова упрекали за него, считая, что это просто светский пустячок, но внимательный зритель сразу же поймет, что именно привлекло в этом лице Серова-психолога.
Все эти бесконечные поездки, многочисленные работы по заказу надолго отрывали Валентина Александровича от училища, от семьи.
Большим горем не только для его близких и друзей, но и для всей России была тяжелая, многомесячная болезнь Валентина Александровича.
В ноябре 1903 года Серов, проезжая на извозчике по Мясницкой улице, почувствовал невыносимую боль в области желудка. Подъехав к Школе живописи, он с трудом поднялся по лестнице и упал, потеряв сознание. Его внесли в квартиру директора училища князя Львова. Немедленно вызвали врачей, но те не только не могли понять, что произошло с Серовым, не могли даже успокоить боль. Положение, однако, сразу же признали настолько серьезным, что вынуждены были сказать Серову о завещании.
Как ни тяжко было Валентину Александровичу, но разговор о завещании не мог не вызвать у него усмешки. Что мог он завещать своей семье? Долги? Набор красок и кистей? Гроши, которые надо было дополучить с двух-трех заказчиков, и жалованье в училище за текущий месяц? Но все же, чтобы не осложнять жизнь бедной Лелюшки, завещание он подписал. Свидетелями были Остроухов, Философов и зять Третьякова – Боткин.
Болезнь все обострялась. Появилось подозрение на гнойник, но места этого гнойника никто определить не мог. Консилиум решил делать операцию.
Перед операцией Серов попросил привести детей. Врачи разрешили – ненадолго и только старших. В комнате больного появились бледные и перепуганные Оля и Саша. Дочь много позже вспоминала, что отец лежал удивительно красивый. Привычный цвет лица у него был красноватый, а тут лицо было бледное, черты лица правильные, строгие, волосы и борода темнее и длиннее, чем обычно. Но говорить ему было очень трудно.
В доме у Серовых творилось бог знает что. Ольга Федоровна не отходила от постели мужа, который до самой операции лежал у Львовых. Узнав о болезни сына, приехала Валентина Семеновна. Но она вся целиком ушла в болезнь сына, в страх за его жизнь и ничем заниматься не могла. Вести хозяйство она и в хорошие-то времена не умела, а здесь все сыпалось у нее из рук. В конце концов пришлось бразды правления взять в свои руки четырнадцатилетней Оле, хозяйничать, руководить бабушкой и тремя сорванцами-братьями.
До конца жизни у Валентины Семеновны оставалось воспоминание о том, как она в тоске и страхе подъезжала к зданию училища на Мясницкой, как показывалась вывеска магазина Пло, вот сейчас, через несколько секунд, будет квартира Львова, и уже никуда нельзя будет спастись от того неизбежного известия, которое там ожидает…
Когда Серова перевезли в лечебницу Чегодаева в Трубниковский переулок, весть об этом широко разнеслась по Москве, и совершенно незнакомые люди пришли к ее дверям, стояли на морозе, ожидая известий об исходе операции.
Операцию делали лучшие хирурги Москвы Березкин и Алексинский. О том, чтобы были привлечены самые квалифицированные силы, позаботились близкие и верные друзья Серова доктора Боткин, Трояновский.
Несмотря на то, что все было сделано для облегчения положения больного, операция оказалась крайне тяжелой.
У Серова нашли старое прободение язвы желудка, которое в свое время не могли определить, и огромное количество внутренних спаек.
Валентин Александрович начал понемногу вставать только в январе.
В феврале он уехал отдыхать и поправляться в Домотканово. Никогда он не позволил бы себе такого длительного отдыха, если бы не болезнь. Уже весной, в Домотканове, у милых Дервизов, он опять мог вернуться к живописи, работать не торопясь, писать то, что было мило, что задевало сердце своей простой прелестью. Там он написал замечательную картину «Стригуны». Три молоденьких, угловатых еще жеребенка остановились где-то около конюшен или сараев, а небо на горизонте пылает тоскливым зеленым закатом. Такие закаты бывают в конце февраля, в начале марта. Вся картина русская, типичная для средней полосы нашей родины, – столько в ней простой, безыскусственной лирики и вместе с тем тонкости и поэтичности! Это, конечно, один из шедевров серовской кисти.
Позже, уже в разгаре весны, Ольга Федоровна увезла мужа за границу. Они объехали Италию – Флоренцию, Рим, Неаполь, Помпею, Болонью, Равенну, Венецию, Падую.
Из заграницы старшие Серовы проехали в Финляндию, где их ждали все чада и домочадцы. В Финляндии у Серовых с 1901 года была крошечная усадебка близ деревни Ино, клочок земли и дом, перестроенный из рыбачьей хижины. Уговорил Валентина Александровича купить эту дачку его большой петербургский друг знаменитый русский график Василий Васильевич Матэ. Для большого серовского семейства здесь было раздолье. Дети целый день возились в море или в саду. Старший мальчик Саша, несколько позже, самостоятельно построил небольшую яхту, на которой отец и сын с увлечением занимались мореплаваньем. Здесь, в Ино, была у Валентина Александровича собственная большая мастерская, то, чего он всегда был лишен в Москве, где роль мастерской играл небольшой кабинет, в котором трудно было даже развернуться с мольбертом. Здесь, в Финляндии, вдали от всех обязанностей и забот, Серов много писал пейзажей. Здесь же написана такая чудесная вещь, полная воздуха, света, настроения, напоминавшая этим его ранние работы: «Дети» – портрет сыновей на балконе на фоне прибрежного песка и светлого Балтийского моря. Старший из мальчиков смотрит на разворачивающийся перед ним морской простор, на предвечернее блекнущее небо, младший повернулся к зрителю и глядит серьезно и задумчиво. Мальчики очень похожи друг на друга, одинаково одеты, но художник подметил и передал различие их характеров – сосредоточенную серьезность старшего и мечтательность младшего.
В этой картине Валентин Александрович снова возвратился к светлому, многокрасочному колориту своих ранних работ, к пленеру, к тому ощущению радостной чистоты и свежести, которые пропитывали его первые вещи.
Почему-то возврат к этому живописному мироощущению происходит только в Ино. За его пределами – поиски тональности, поиски совсем другой цветовой гаммы. Пробы новых материалов – темперы, гуаши…
Последний всплеск этой многоцветной, красочной волны тоже связан с Ино. Это несколько позднее написанная картина «Купанье лошади». Один из мальчиков, изображенный на первой картине, ставший уже подростком, привел лошадь в прибрежную воду Финского залива. Эта вещь удивительна по своим краскам. Серо-голубые тона моря и неба сливаются с воздушными далями, и в них купаются загорелый мальчик и коричневая лошадь. Солнечные блики играют на воде и лижут ноги мальчика. Все так просто, свежо и сочно, что кажется, вот-вот подует прохладным морским ветерком и до зрителя долетят мелкие серебряные брызги.
В Ино Серов свободен. Никакой заказчик не висит у него над душой. Никуда он не должен торопиться. Здесь можно вернуться к рисунку, можно раскрыть давно не раскрывавшиеся альбомы, делать наброски, сесть и спокойно подумать над квадратным полем чистого холста или над листом плотного ватмана. А после таких раздумий так хорошо работается.
Жизнь в Финляндии дала немало замечательных произведений в самых разных жанрах. Именно потому в разных, что была возможность подумать и попробовать свои силы.
Нельзя поэтому не остановиться и не вспомнить написанную тут же совсем необычную небольшую картинку «Финляндский дворик». Он сделан совсем в новой манере, обобщенной и очень европейской. И только мастерство тонального разрешения – серовское. На картине изображена белобрысая девчушка, которая доит черно-белую корову, а на крылечке рядом сидит черно-белый кот.
Пребывание в Финляндии хорошо действовало на Серова. К осени он чувствовал себя здоровым и крепким. Можно было возвращаться в Москву к привычным делам, к училищу, к портретам.
· · ·
Осенью из Москвы Серов съездил под Малый Ярославец, в Белкино, именье Обнинских. Там он успел написать два портрета – Обнинского и Обнинской. Последний – одно из самых лиричных серов-ских произведений. Молодая милая женщина с ручным зайчиком. Оба портрета сделаны смешанной, мягкой техникой – карандаш, сангина, пастель. Эта техника делается Серову с годами все милее. Матовость бумаги, четкий рисунок, возможность тонкой и детальной проработки лица – все это прельщает художника, которому надоел клеенчатый блеск масляной живописи, – он и в масляных портретах последнего времени старается избавиться от этого блеска, кладя краску жидким слоем и по возможности используя саму фактуру холста.
А в портрете своего друга Шаляпина, который он пишет сразу же после портрета Обнинской, он опять же экспериментирует: на этот раз это акварель, покрытая легким слоем лака. Да и весь этот портрет – эксперимент. Он оригинален по замыслу, по позе, по выполнению.
Шаляпин стоит обнаженный до пояса, боком к зрителям. Певец остановился на мгновение перед тем, как начинать одеваться для сцены. Он еще без парика, без грима, но в его облике видна та сосредоточенность, которая предшествует большой работе.
До конца года Серов успевает написать еще несколько больших портретов, среди них такие, как портрет всесильного министра Витте.
Работая, Серов любил наблюдать свои модели. Ну, разве не интересно проникнуть в глубь души Сергея Юльевича Витте? Тем более что в мире происходят такие сложные и тягостные события, как русско-японская война, к которой Витте имеет непосредственное отношение. Строгий и проницательный взгляд Валентина Александровича точно оценивает тех, с кем ему приходится сталкиваться. Частенько он мысленно даже ставит им отметки: кому. тройку, кому двойку, редко-редко кому четыре с минусом и очень часто – единицы. «Я ведь злой, – говорит он о себе. – Если подмечу в человеке чванство, глупость, гениальничание – ему несдобровать». И действительно, стоит ему подметить смешную черточку, даже просто нелепую манеру стоять, сидеть, разговаривать, держать голову, вытягивать шею, он непременно внесет эту черту в свою живописную характеристику на портрете.

Портрет М. И. Ермоловой. 1905.

Портрет Ф. И. Шаляпина. 1905.
Правда, особенно доставалось от него мужчинам, на которых он смотрел глазами более рационалистическими и более строгими. Но и среди мужчин были такие, которые пленяли его своей интеллектуальной силой, своими талантами, своей оригинальностью. Женская же красота, ее необычность, непохожесть нравились ему, как мог бы нравиться какой-нибудь экзотический цветок. Он лелеял ее на холсте, стараясь передать то, что пленило его, и частенько забывал быть злым и суровым судьей. Особенно влияло на него женское очарование, если оно соединялось с интеллектом, с какими-то высокими качествами характера, с талантом. Потому так чудесны серовские портреты артисток – монументальная Ермолова, добродушная Федотова, легчайшая Анна Павлова или женственная Карсавина. Такие портреты – это праздник среди бесконечных трудовых будней. Это «отрадное».
XVIII. В ДНИ ИСПЫТАНИЙ
Серое, сумрачное утро воскресенья 9 января 1905 года.
У окна одной из комнат квартиры художника Матэ, что находится в здании Академии художеств в Петербурге, стоят трое. Они неподвижны и молчаливы. Их напряженные позы почти не меняются, они смотрят и смотрят на то, что происходит за окном в нескольких шагах от них – у Николаевского моста. Эти трое – сам хозяин: высокий, худой, моложавый Василий Васильевич Матэ, рядом с ним плотный, коренастый Серов и тут же с краю маленький, хрупкий скульптор Илья Яковлевич Гинцбург. Он судорожно держится за спинку стула.
У Серова в руках альбом и карандаш, но он только изредка проводит на бумаге какие-то отрывочные линии. Нижняя губа его закушена, глаза сурово и сумрачно глядят в окна. «Я художник, – думает он, – я обязан зарисовать это. Это обвинительный документ…» И все же руки слушаются с трудом.
– Я не могу, – едва слышно произносит Матэ, – подумайте, уже восьмой!.. Что делать? Что делать?.. – Он рад бы отвернуться, уйти, но что-то как магнит держит его здесь у окна, за которым развертывается страшная народная трагедия под названием «Кровавое воскресенье».
Художники с утра наблюдали, как толпы измученных, истощенных рабочих старались пройти на Дворцовую площадь, на поклон «к царю-батюшке». Сначала все было спокойно, манифестация шла чинно, с хоругвями, с иконами, но вот перед мостом откуда-то появились войска. Конные казаки начали налетать на мирную толпу, давить ее, разгонять, послышались выстрелы… В первые минуты все это показалось недоразумением, но скоро стало ясно – это чей-то жестокий, бесчеловечный приказ. Это же поняла и толпа. Люди пытались броситься в стороны, старались спрятаться. Но где же спрячешься на мосту? А войска гнали их назад, навстречу идущим сзади, так чтобы произошла свалка, давка, беспорядок.
Серов, бледный, расстроенный, смотрел молча. Со стороны казалось, что он владел собой, и даже его рука не отказалась служить ему, когда он попытался зарисовать некоторые моменты из того, что происходило у входа на мост. Но по его окаменевшему лицу видно было, как кипит у него внутри и как глубоко запало ему в душу то, что он видел.
К полудню мост и улицы, прилегавшие к нему, опустели. Только на истоптанном грязном снегу осталось лежать несколько тел. Проехали госпитальные дроги, лениво собрали раненых. На полицейские фуры сложили убитых. Дворники прошлись с метлами, засыпали золой и песком кровавые пятна. Казалось, все вошло в норму. И никому не приходило в голову, что кончился роковой для монархии день: расстреляно было народное доверие.
Кто-то из зашедших вечером к Матэ художников рассказал, что на Дворцовой площади было еще страшнее, что убитых надо считать сотнями, а раненым нет числа, что репрессии только еще начинаются, полицейские шныряют по рабочим кварталам. И что все это дело попа Гапона…
Серов целый день был молчалив и бродил по комнате, не находя себе места. Альбом с зарисовками, казалось, жег ему руки, и вместе с тем он боялся оставить его. Вечером он попросил не зажигать свет, дать ему посидеть в темноте. Мысли у него были самые горестные.
Невольно вспомнился последний страшный год.
Едва в январе Валентин Александрович переехал из лечебницы Чегодаева домой, как газеты принесли ошеломившую всех новость: в ночь на 27 января Япония напала на русскую эскадру, стоявшую в Порт-Артуре. С этого дня горестные новости постоянно обрушивались с газетных страниц. Во время поездки по Италии Серовы узнали о цусимской трагедии и о том, что японские войска осадили Порт-Артур. В апреле весь художнический мир был потрясен вестью о гибели броненосца «Петропавловск», взорвавшегося на японской мине. Вместе с кораблем погиб прекрасный художник Василий Васильевич Верещагин. Далее пошли сообщения о наших поражениях под Мукденом, под Ляояном. Бездарность командующего генерала Куропаткина была очевидна всем, кроме правительства. Об отсутствии оружия знали все, – кроме царя. О том, что вместо снарядов на фронт посылают иконы, говорили везде, кроме дворца.
Россия была взбудоражена и беспокойна. Забастовки и стачки волной перекатывались из одного конца России в другой. Даже до тихой Финляндии, куда на лето приехали Серовы, докатились смятение и настороженность. Но особенно сложно и трудно было в столицах. Это Серов увидал воочию, едва вернулся домой из Финляндии. Он, конечно, не знал и не представлял себе всех движущих сил, участвовавших в великих событиях, но прекрасно понимал, что народ поднимает голову. Он не знал, что рабочими стачками и забастовками руководит уже партия большевиков, созданная Лениным в 1903 году. Не понимал он и того, что это промышленный кризис 1900–1903 годов сделал то, что борьба рабочих и крестьян принимает все более революционный характер. И вместе с тем он многое знал и много видел такого, чего не видели его товарищи. Со слов матери и Дервизов он знал, что и в деревне так же неблагополучно, как и в городе, что-то зреет, а что – пока сказать трудно. Валентин Александрович никогда не был равнодушным обывателем. Его, как русского человека и чуткого художника, давно уже тревожил тот внутренний надрыв, который он наблюдал в русской жизни. Чем же, как не чуткостью к несправедливостям окружающего, объяснить то, что его вдохновляли такие сюжеты, как «Приезд жены к ссыльному», – картина, над которой он работал несколько лет, делая то масляный этюд, то акварельное его повторение, то рисунок сепией, то отдельные наброски? Тема интересовала его, кровно задевала, требовала своего воплощения. Теми же чувствами была продиктована и другая его работа – трагическое воплощение крестьянского горя – «Безлошадный», написанная в 1899 году. А в 1904 году он открывает еще одну столь же страшную страницу русской жизни. Это картина «Набор». Что могло быть трагичнее для крестьянской семьи, как мобилизация в армию основного работника? Это грозило полным разорением хозяйства, нищетой, гибелью стариков и детей. Потому-то так выразительны три фигуры, что бредут по запорошенной снегом дороге, изображенные Серовым на его картине. Это парень с ошалелым, растерянным лицом и две женщины, вцепившиеся в него. Вся горькая безнадежность, вся бессмыслица войны выражена в картине. Кажется, что художник хочет сказать: пахать бы этому парню землю, а матери и жене возиться спокойно со своими домашними делами, и так у них горя и забот хватает. Так нет же, забрили…
Валентин Александрович понимал, что для выражения этих его мыслей нужны какие-то иные изобразительные средства, чем, скажем, для портретов светских дам. Он искал их, продумывал, находил. Рисунок его стал угловат, резок, жесток. Здесь, как и в «Стригунах», написанных весной, оказался очень важным элементом силуэт. В живописи многое обобщено, лишние детали отброшены, так яснее выступает основная идея.
Пока что внимание Серова к народу не перерастало ни в открытое возмущение, ни в особое сочувствие враждебным режиму силам. Он копил недовольство в себе, изредка выражая его в дружеском кругу. Об этом говорил в письме к Дягилевой Философов, навещавший Валентина Александровича в Москве во время его болезни: «Приходится молча выслушивать мысли, чувства и жалобы сознательно умирающего художника, не умеющего и не желающего простить уродства жизни».
А что принесли осень и зима 1904 года? Тягостное настроение всей либерально-демократической интеллигенции передавалось и ему, Серову.
Он, как и многие, искал какого-то ответа на возникавшие вопросы, ждал просвета в тучах, обложивших горизонт. Может быть, поможет искусство? Москвичи ждали оппозиционности от Художественного театра. Так ждали, что даже довольно беззубую пьесу Ибсена «Доктор Штокман» готовы были считать революционной. На «Штокмана» ходили, «Штокману» аплодировали. Но подлинно революционное произведение, говорившее правительству всю правду, нашли не за рубежом, а в России. Это была пьеса молодого, но уже известного писателя Максима Горького «На дне». Только глубокой растерянностью цензуры можно объяснить то, что эта пьеса попала на сцену. Но она попала и сыграла огромную роль. «Свобода во что бы то ни стало!» – так понял эту пьесу Станиславский, так и передали эту мысль актеры зрителям. Горький стал кумиром театра и Москвы.
В конце 1904 года Валентин Александрович познакомился с Алексеем Максимовичем Горьким и попросил его позировать. Портретом Горького Серов продолжал ту же линию, которую начал «Приездом жены к ссыльному», «Безлошадным», «Набором». Портрет – это тоже протест, протест во всеуслышание.
Портрет Алексея Максимовича – одно из выдающихся произведений Серова. Для изображения этого человека, бывшего символом обновления русской жизни, Серов нашел новые выразительные средства, острые и точные. Здесь, так же как и в последних работах, большую роль играет силуэт. Угловатый, жесткий, он выражает динамику и патетику образа, запечатленного художником.
Стройный молодой торс, строгое, простое, но полное скрытых эмоций характерное лицо Горького, не то рабочего, не то мыслителя, выразительный жест руки, словно бы собирающейся вот-вот рвануть ворот рубахи, чтобы распахнуть грудь навстречу свежему ветру, – вот то, что мы видим на портрете. А сколько за этим подтекста, сколько понимания сущности человека! Это настоящий буревестник революции! Надо думать, что этой своей модели Серов поставил не меньше пятерки.
Валентин Александрович писал портрет в темных, несколько приглушенных тонах. Черный цвет одежды взят резко, обобщенно и вместе с тем разработан с тем предельным мастерством, с которым вообще его умел разрабатывать только один Серов. Смуглое лицо, овеянное непогодами, рыжеватые усы, русо-каштановые волосы, и все это на сером беспокойном фоне. Фон делает весь холст беспокойным и мятежным…
Но это уже прошлый год. А сейчас, в начале нового, 1905 года, Валентин Александрович в Петербурге. Мрачность не оставляет его. В конце декабря стало известно, что комендант Порт-Артура генерал Стессель предательски сдал крепость японцам. Так позорно окончилась бесславная русско-японская война. Чему уж тут радоваться? И вот они с Матэ, с милейшим Василием Васильевичем, который раз обсуждают российские события. И даже день сорокалетия Валентина Александровича, 7 января, весь проговорили о том, что происходит. А тут еще это страшное воскресенье!..
Дикий кошмар глубоко запал ему в душу.
Позже Репин рассказывал, что после того, что Серову пришлось повидать, «даже его милый характер круто изменился: он стал угрюм, резок, вспыльчив и нетерпим; особенно удивили всех его крайние политические убеждения, проявившиеся у него как-то вдруг; с ним потом этого вопроса избегали касаться…
Нередко приходилось слышать со стороны:
– Скажите, что такое произошло с Серовым? Его узнать нельзя: желчный, раздражительный, угрюмый стал…
– Ах, да! Разве вам не известно? Как же! Он даже эскиз этой сцены написал, ему довелось видеть это из окон академии 9 января 1905 года».
Серова возмутило и потрясло не только, что он видел, но и то, как реагировало на происходившее русское общество. Огорчили его и товарищи-художники. Ему казалось, что ответ на злодейство мог быть только один – полный и решительный отпор инициаторам этого кошмара. В данном случае был совершенно конкретный виновник происшедшего – великий князь Владимир Александрович, дядя царя. Он президент Академии художеств и одновременно командующий войсками Петербургского округа. Он отдал приказ о расстреле безоружных рабочих. Против этого художники бессильны, но они могут и должны все до одного уйти из академии, оставить президента в одиночестве и хотя бы этим показать ему, как они глубоко осуждают его поступки.
Серов обсуждал эти вопросы в Петербурге. Сочувствующих было много. Все возмущались, все понимали беззаконие и жестокость, проявленные правительством, но никто не хотел покидать насиженного места. Лишиться звания академика? Стоит ли? «Не нашел он понимания и у своего старого друга и учителя Ильи Ефимовича Репина. Не вняли ему и в «Мире искусства», там совсем не до политики. Бенуа уезжал в Париж, не то действительно по делам, не то перепуганный событиями. Дягилев с головой был погружен в свою очередную затею: подготавливал выставку русского исторического портрета.








