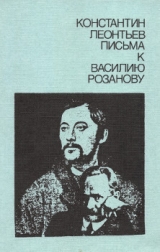
Текст книги "Письма к Василию Розанову"
Автор книги: Василий Розанов
Соавторы: Константин Леонтьев
Жанр:
Эпистолярная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 9 страниц)
Теперь, когда я все это перечислил, вам будет ясно, что можно было мне и не сердиться и не особенно болеть, а все-таки не писать.
Кончина моего старца от. Амвросия не застала меня врасплох; он был так слаб, что я дивлюсь, как он мог еще дожить до 79 лет. Я столько лет ждал со дня на день его смерти, что теперь ничуть этим не поражен. Понимаю, конечно, что встретятся еще не раз случаи, если проживу еще долго, когда я буду восклицать: «где от. Амвросий»!.. Но что же делать! Воля Божия! Господь, если нужно, и другого человека нам пошлет!
До получения известия, я каждый день поминал его имя на молитве за здравие, а после стал поминать за упокой. И только… Но для многих других, не столь приготовленных, или по сердечному (не чисто-духовному) чувству, безгранично ему преданных, это очень тяжело. Я знаю даже таких, у которых личное к нему чувство было сильнее самой веры в церковь. Мое чувство к нему было более духовного оттенка; я его слушался, избегал делать что-нибудь важное без его благословения; видел от него много всякого добра (даже и вещественного в прежние трудные времена); но так страстно, как другие, привязан к нему не был. Я уверен, что есть люди (особенно пожилые монахини), которые надолго его не переживут, да есть и молодые мужчины, за веру и будущность которых я несколько боюсь; для них от. Амвросий был все.
Страхова статью (о Л. Толстом) прочел с негодованием, отвращением и бешенством! Какая хитрая, подлая статья; и с другой стороны – какая рабская преданность Толстому!..
Я так был взбешен этой статьею, что хоть сейчас возражать, и возражать грубо, беспощадно и т. д.
Но, разумеется, писать не стал. Я никогда полемикой с отдельными лицами не занимался, а теперь и тем более мне не до нее, когда я только и думаю о том, как бы поскорее расплатиться с некоторыми (старыми) долгами[91] и вовсе перестать писать.
Когда я в последний раз, прощаясь с от. Амвросием, – говорил ему об этом новом моем чувстве, года два, не более пробудившем впервые и все растущем, – об отвращении к писанию, не к чтению других авторов, о нет, но к собственному писательству, он мне сказал: «Ну, поправляйте, издавайте старое, а нового ничего не пишите, разве по нужде» (т. е. для уплаты долгов и для помощи ближним).
Помоги мне, Господи, исполнить завет этого святого человека.
Варваре Дмитриевне передайте, что у меня особо сильных страданий, боли нет, при моих сложных и неизлечимых недугах; только иногда душит до слез нервный гортанный кашель. Но и в этом я отчасти сам виноват, – курю, с помощью Божией, впрочем, стал гораздо меньше курить, а все-таки еще курю. Вот за этот грех и казнюсь поделом.
(Для других курить не грех, а для меня грех)
Ну, а что вам сказать в ответ на то, что вы говорите о Вронском и вообще о наших людях власти… Не знаю! Разве то, что понемногу сами дойдете с вашим умом и вашим вкусом. Если мои книги не растолковали вам почему может и должен нравиться Вронский, то что может сделать письмо?
Помните, вы писали мне, что понимаете, почему мне нравились с одной стороны Бодянский, а с другой – разбойник Сотри? Неужели Вронскому и рядом с ними[92] места не найдется! И т. д. и т. д.-
Нет, еще все тот же припев:
Надо нам видеться.[93]
Ибо рядом с полнейшим согласием у нас с вами есть непостижимые недоразумения… Так, например, для вас лица Достоевского просты и естественны. А для меня они почти все отвратительно изломаны.[94] А вот именно Вронский-то для меня прост и естествен; всех «изломаннее» в Анне Карениной – это Левин. Одно это «искание» меня бесит… «Искатели» должны быть редки и велики умом.[95] И тогда они стоят внимания. Так и было в старину, а теперь этих вредных искателей, как собак, и кроме ненужных страданий и вреда от этого ничего не выходит. Что касается (вы пишете) до иностранного принца, в котором Вронский увидал в увеличенном виде свои же черты и сказал: «неужто и я такая глупая говядина!» – то это со стороны Толстого гениальный взмах кисти, – но со стороны Вронского просто ошибка, от тяжелого собственного настроения. И принц, и он сам – здоровые крепкие, светские люди, – и прекрасно. А что мы, кабинетные, или вообще «штатские» люди не таковы, нам же хуже. Кстати, скажите: который из двух героев романа Анна Карен., в случае религиозного переворота, стал бы просто православным, ездил бы к отцу Амвросию или даже стал бы примерным монахом. Конечно, Вронский, а не несносный этот Левин (такой же противный лично, как сам Лев Николаевич).
Постарайтесь приехать…
Умру, – тогда скажете: «Ах! Зачем я его не послушал и к нему не съездил»!
Смотрите!.. Есть вещи, которые я только вам могу передать.
К. Леонтьев
Василий Розанов. Послесловие
Письмо это было последним. Леонтьев умер 24 дня спустя после написания последнего из здесь приведенных писем (12 ноября 1891 года). Он умер не от своей мучительной болезни, а от той самой pneumonia, пример которой избран (в «Византизме и славянстве», центральной философской у него статье) для объяснения признаков смерти в своем «триедином процессе». Дурная погода, встретившая его у Троице-Сергия, на которую он уже жалуется в последних из этих писем, не заставила его поберечься. Он схватил простуду: развилось воспаление легких, болезнь не смертельная в молодости, но в возрасте 60 лет роковая. И он умер, прохворав недолго и не страдав исключительным страданием. Мысль обрадовать его напечатанием большой о нем статьи все время не оставляла меня: но, к сожалению, именно этот 1891 год был для меня полон исключительных хлопот, забот, отчасти – опасностей. Телеграфное известие о его смерти, прочитанное в газете, поразило меня удивлением и жалостью. Мало к кому я так привязывался лично, темпераментно. Собственно, мы любим людей по степени того, насколько глубоко они проходят внутрь нас. Один где-то пополоскался во рту, другой – прошел в горло и там застрял, третий – остановился на высоте груди; и лишь немногие, очень немногие за всю жизнь, проходят совсем внутрь. С Леонтьевым я испытал последнее. Личность его еще не озарилась для меня тем мягким, снисходительным, прощающим и любящим светом, какой исходит из его рассказов: «Из жизни христиан в Турции». Я знал его лишь в суровых и беспощадных чертах его философии, политики и публицистики. Соловьев верно формулировал его мысли в термине: «идейный консерватизм». Определив фазу 19-го столетия, как фазу «предсмертного смешения», он захотел ей сказать, как некогда Иисус Навин о дне сражения: «стой, солнце, и остановись, луна». Конечно, он знал, что ничего от его крика не остановится, разве что не надолго, слабо. Все царствование Александра III он приветствовал как эту нужную исторически «остановку»; на царствование Александра II, особенно после первых дней, смотрел, как на несчастие русское и даже как на несчастие европейское. «Люди умирают», – и надо это умирание остановить. Известно, что и Вл. Соловьев посмотрел на фазу нашей истории, как на предсмертную, – в последние дни своей жизни («Три разговора», предсмертные беседы с проф. С. Трубецким). Но он не произнес: «стой», и ничего вообще в сторону «смерти» не произнес, если не считать таких неудачных вещей, как стихотворное приветствие императору Вильгельму, двинувшему войска свои на «готов и магогов» (китайцы). Но так ли они были оба правы? Есть ли вообще основание для такого окончательного пессимизма? «Человечество износилось: в цивилизации нет больше зарождающихся идей и в то-же время этнографический материал hominis sapientis исчерпан». Так они оба думали. Но в каком смысле можно оказать, что, напр., русский народ «исторически износился», если буквально он живет сейчас не сложнее и не душистее, не «развращеннее» и не культурнее, чем при Владимире Мономахе? Буквально свежесть его и остается, как при Владимире Мономахе? Если у западных народов, германцев и романцев, в движение приведена вся масса народов, «вскисло» и «взошло» уже все, что способно к этому (хотя и это хорошо ли мы знаем), то на пространстве восточ. Европы жили историческою жизнью буквально тысячи, а не миллионы; люди и человеки, а не народы. Наконец, прожили ли и отжили ли мусульмане?. Что такое еврей и кончено ли с ним? Явно, что главные узлы истории даже и не завязывались, а не то, чтобы развязались в прямую и гладкую, рациональную, понятную нить. Ничего в истории непонятно, – значит, вся она еще в будущем. Жизнь греков, римлян, уже ко временам Александра Великого и Тиверия – изъяснилась внутренним изъяснением, равно была понятна для Фокиона, Демосфена, Ювенала и Тацита. Нам все еще ничего не понятно из хорошо известных фаз всемирной истории: что? для чего? чем все кончится? Т. е. главнейшие части всемирной истории просто даже не начались; все еще идут только «подготовительные члены». Не только совершенно крепок «жид», и не для всемирного же торга он создан, – не только не тронуто ядро русского племени, не жила вовсе Литва, ничего не сказали угрюмые финны: но посмотрите на свеженьких, как ядреное яблоко, татар «с халатами»: неужели эти молодцы, эти явные дети, нимало не развращенные (признак смерти, разложения) не способны прожить час хорошей истории?! Право, и Соловьев, и Леонтьев судили человечество по петербургским адвокатам, петербургским журналистам, неудачным профессорам московским, харьковским, киевским. Бог с ними! Какая же это фаза «всемирной истории». Просто – это неудачные современники.
Два-три века сереньких людей и сереньких событий – и то еще ничего определенного не говорят о плане истории, о «конце» всемирных событий. Что можно было представить себе глуше, печальнее веков VIII–XIV византийской истории? Вот история глухонемого, вот века глухонемые. И прошли. И ничего. «Все разлагается», томились они. Но не образуется ли чего-нибудь вновь? Три эти кардинальные факта: жид, мусульманин, христианин – даже и не разговаривали еще между собою иначе, как в миссионерском перевирании и наивности. Целые миры цивилизации, так сказать, еще не «сняли друг перед другом шапки», не поздоровались, прямо – не посмотрели друг на друга. Все еще замкнуто, сомкнуто. Какие новые, громадные, неожиданные картины могут быть выброшены из жерла всемирной истории, когда придут в настоящее касание эти кардинальные ее камни. Само христианство казалось «изжитым» обоим писателям, ибо оба они видели, что оно переходит «просто в мораль», а эта мораль просто сливается с «либерализмом и прогрессом». «Я бы обрадовался секте скопцов», – говорит Л – в в одном из приведенных писем. Но почему не взять секту обратную, столь же живучую, страстную, мистическую? Вообще Л – в был слишком теоретичен, слишком обобщенный человек, не вглядывавшийся и даже просто незнакомый с любопытнейшими подробностями. Ну, если взять, напр., наше русское сектантство (не старообрядство), то ведь уже одно оно во всяком случае не говорит о «потухшем кратере человечества». Мало ли там чего есть. Если от мира сект этих обратимся к общему их основанию, на которое все-же они ссылаются, приводят из него оправдание для себя, к Евангелию, – то вот мы уже найдем источники для «рек воды живой», еще не пролившейся. Бедный до несчастья, Л – в ссылался на «том 5 Догм. Богословия Макария», но ведь всем (и духовн. лицам) хорошо известно, что это компиляция латино-немецко-русская. Взял бы он Кальвина, Меланхтона, наших Аввакума и Селиванова, т. е. углубленных мыслителей над Евангелием, – и ум его запутался бы, вошел бы в калейдоскоп узлов религиозных, которые его заняли бы более «гран-пасьянса». Поразительно, что в письмах его нет ссылок на ап. Павла, да и на Евангелие – почти нет, а только на «предания оптинских старцев». Т. е. он сам не погружался в стихию и глубь Евангелия. Вообще, в «грозе истории» оба они не жили, а только пользовались «от дождя» ее. А в «грозе»-то и интерес, там и бесконечность. Там и надежды жизни. Нельзя отрицать, что оба они жили в бездарную эпоху; но при всей любви и благоговении к их памяти невозможно не заметить, что и сами они не смогли эту сторону современности преодолеть, и легли в ней костьми, хотя чрезвычайно томясь. Счастливы, свежи, радостны они были бы только в великую эпоху. Это слишком ясно из биографии, из всего духовного их образа. Явно, они были «рак на мели», «рыба на берегу». Потопа новых вод на берег, прилива «на мель» – вот чего подъять, не физически только, но и духовно, у них явно не было сил. Они были не только «на мели», но и сами не были «левиафанами». Отсюда грусть их имела причины быть удвоенной. Темного в истории русской есть таких грустных и изящных лиц. Над своим временем они поднимались высоко. Оба – мы это знаем – тянули к прошлому, к далекому прошлому, древнему, древнейшему. И хочется кончить сравнением их с теми встающими из могил мертвецами, которые высоко-высоко из них поднявшись, вопили что-то и со стоном падали назад, – когда в утлом челне, с казаками и женой, проезжал по Днепру Бурульбаш («Страшная месть Гоголя»). В словах этих да не будет прочитан жестокий упрек: во всяком случае очевидно, что и Леонтьев, и Соловьев центральным идеальным содержанием относились к давно прошедшему, один – усматривая его в средневековой теократии, другой – в чем-то среднем между романтической Европою и византийской недвижностью. Только Соловьев древний идеализм свой смешивал с, новыми либеральными идеями», распространяя умственные приобретения «адвокатов и журналистов» на суждения о церкви и христианстве; Леонтьев же идеализм свой ни с чем не смешивал. Таким образом разница между ними уже не была так огромна. Вл. Соловьева прямо тошнило от «теократии» pur sang, без либерального «подкрашивания». Он требовал духов на гроб, около которого плакал. Леонтьев считал духи «современной нечистью»: добрейший и благороднейший человек, он указывал, «всем жертвуя», на игуменью Митрофанию, не предвидя, не рассчитывая, что она отобрала бы от него все те весьма и весьма «либеральные книжки», какие он любил потихоньку почитывать, и свела бы его быт к такому рассудочному и утилитарному счету поклонов, вставанию по утру во столько-то часов и немедленному засыпанию на ночь, «без грез и вдохновения», – от которого он, изобразитель красивого мусульманства, пожалуй, перешел бы сам в мусульманство. «Все-таки там гурии», – заметил бы великий скептик. Они ужасно многого оба не разобрали в прошлом: не разобрали, между прочим, и того, что томившая их современность, включительно с рационализмом и бездушным материализмом, есть только телесные останки, однако вытканные тем самым духом, отлет которого из тела они оба оплакивали; что между тем, что оба они так любили и что ненавидели, есть связь не хронологическая только: 9-й век—19-й век, но органическая: 19-й век весь вытек, до мелочей, до подробностей, из 9-го в. Детское нарядное платьице, розовое, с лентами, – и старушечий чепец надеты на одно и то-же существо, и даже оба они надеты, повинуясь одному вкусу, моде и стилю. Возьмем старость мусульманства, еврейства, Китая, как ее можно представить или как она есть (что я отрицаю): совсем другие пороки, иные слабости, иные излишества. Совсем иной будет стиль старости. Возьмем Грецию и ее падение, возьмем Рим в падении, Персию: совсем иная картина, чем засыхающая (положим) Европа в 19-м веке. Европа 19-го века трудолюбива, деятельна, скромна. Она нимало не, порочна», не сластолюбива, не роскошна, не изнежена. Рабочий, приказчик, учитель, перебивающийся на крошечном жалованье офицер – вот ее типы. По отсутствию пороков – им бы тысячу лет жить. Но они до того прозаичны, так пронизаны «светским» (laid), в такой степени «инструментальны» (=машинны), что им самим кажется невозможным жить; и остаток души в них, память о душе своей бессмертной, разбивает иногда эту куклу, оставшуюся от человека (самоубийства, в 70-х годах 19-го века чуть не эпидемические). Во всяком случае тут смерть не от пресыщения и излишества, а от бедности, нищенства. «Блаженни нищие духом» – слов этих не в силах повторить с верою (пафосом) те, кто до такой глубины переживает это нищенство. И Соловьев, и Леонтьев – оба поражены были страшным нищенством своей эпохи; «мертвыми душами», которые от времен Гоголя к их времени еще более умерли, еще страшнее стали походить на мертвецов. «Скопческое сжимание планеты», – так выражу я астрально это субъективное чувство.
Сейчас нет самоубийств. Да и вообще нет той страшной и особенной, непереносимой печали, какая у названных писателей совмещалась с центром их идеализма. Все они, включая сюда и Гоголя, шли по стезе тезиса: «не любите мира, ни того, что в мире: похоть плоти, похоть очей, гордость житейскую». Они были не только историческими жертвами, но частью и провиденциальными орудиями того, что я назвал «планетным ссыханием», которое могущественно и всеобъемлюще, как некогда был ледниковый период на земле. Но не окончательно и не абсолютно, как этот же период. В одном месте писем Леонтьева читатель заметил выражение, что «лучше десять мистических сект вроде скопчества, нежели одна гениальная философская система» (для России). В 1894 году, только что познакомившийся с Соловьевым и со мною, покойный Ф. Э. Шперк передал мне, не без удивления, весьма сочувственные слова Соловьева о принципе оскопления, как радикального средства отвязаться от угнетающей нас «плоти». Да и в самом деле, к чему это вечное бегство от непобедимого врага, которого можно умертвить минутою боли? Какой выигрыш, какая свобода для духа!! «Бороться» с врагом?.. Но есть ли смысл в борьбе, когда в ней вечно бываешь побежден? Лежать под сидящим на тебе «бесом» (=плоть) – какая красота для праведника?! Одно движение ножа над тем, что должно умереть и к умерщвлению чего направлены все прижизненные усилия, что, наконец, все равно не живет, а составляет вредный придаток вроде червеобразного отростка слепой кишки, – это в самом деле мудрость! Соловьев, также как и Леонтьев, как и заморивший себя постом Гоголь, не усматривали положительного, светлого и праведного содержимого в том, на что посягновение совершил уже Ориген. Между тем «мистицизм», коего жаждал Леонтьев, да и все они три, мог двинуться и не по пути скопчества, но по противоположному пути, – к окончанию того «ледникового периода», с которым мы сравнили весь круг скопческих идей. Тогда все пойдет не к ссыханию, не к отчаянию (психология их трех), а к расцвету, к дождю, к радуге, увиденной Ноем, и словам Божьим о ней: «вот тебе знаменье, что это не повторится еще». В двойственной натуре Леонтьева, в его признаниях, что, «лично я весел и даже бываю легкомыслен», в поразительной его личной доброте, – во всем этом видно, что ядро его натуры нимало не подчинилось страшно иссушающим, сжимающим его идеям, что под сумраком их благоухал именно живой цветок, прелестнейшее конкретное выражение «мистицизма в сторону расцвета». Да ведь и Соловьев, всю жизнь провозившийся с теократиею и союзом с папством, не успел при жизни[96] напечатать, но оставил в портфеле «Вестника Европы». предсмертное, последнее стихотворение: «Белые колокольчики», которое я переименовал бы в «Душистые колокольчики». Какое заглавие, какой символ, какое предчувствие!
Сбились мы! Что делать нам?
В поле бес нас водит, видно,
Да кружит по сторонам… —
могли бы сказать они о сознательных, преднамеренных шагах в своей литературной деятельности. А бессознательная, она повиновалась другим тяготениям и, только «схваченная снами», не умела выразиться, или выражалась очень редко.
В тумане утреннем неверными шагами
Я шел к таинственным и чудным берегам.
Боролася заря с последними звездами,
Еще летали сны, и схваченная снами
Душа молилася неведомым богам.
В холодный белый день дорогой одинокой,
Как прежде, я иду в неведомой стране.
Рассеялся туман, и ясно видит око,
Как труден горный путь, и как еще далеко,
Далеко все, что грезилося мне.
И до полуночи неробкими шагами
Все буду я идти к желанным берегам,
Туда, где на горе, под новыми звездами,
Весь пламенеющий победными огнями,
Меня дождется мой заветный храм.
Удивительное стихотворение. Как оно искренно! Как целообъемлюще, т. е. говорит о чем-то цельном, достроенном, отнюдь не зачаточном; говорит о готовом, сущем. Между тем какая связь этого стихотворения со всеми сознательными частями работы Соловьева, – с папством, «примирениями», ветхозаветною «теократией», «чтениями о богочеловечестве» и всеми вообще его сочинениями, как бы вышедшими из-под фронтона которой-нибудь из наших духовных академий и только более талантливыми. Стихотворение это глубоко-ново, а мысль его, и содержание, и надежда – сотворены. Это что-то сотворенное душою Соловьева; мы говорим не о стихотворении, а о сюжете его. Последние подчеркнутые строки, этот «храм, пламенеющий победными огнями», под «новыми звездами», – вовсе не средневековый католический храм, и не Янус двуликого христианства, католическо-православного, о котором, казалось, он хлопотал всю жизнь. Мы сказали, что есть свой непременный стиль у старости и смерти; но есть свой стиль и у рождения, у рождающегося, по которому мы можем отгадать будущее строение родившегося. В стихотворении этом до того отсутствует тон бедноты, минорности, – выражаются слезы восторга к чему-то напряженному, как бы к предвечному ветру, надувающему паруса человечества, – что мы можем считать его прелестным весенним лучом, растаивающим тот «ледниковый период», которому он служил прозаическими и сознательными своими трудами.
В. Розанов
notes
Примечания
1
В первых главах напечатанной в тот же год «Легенды о Великом Инквизиторе» Ф. М. Достоевского. «Укоры» эти действительно у меня были; были прямы и резки и подняли в критике тех дней бурю против меня. Гоголь был священен и, как всегда для толпы, «безукорен».
2
«Гармонии» – всеобщий мир и примиренность на земле; идея «пальмовых листьев и белых одежд» Апокалипсиса («и отрет Бог всяческую слезу на земле» – обещание Апокалипсиса, перед «пальмами» и новыми одеждами); вместе – это песнь вифлеемских пастырей, встретивших Рождество Христово: «Слава в вышних Богу и на земле мир» и пр. В упор против этой вифлеемской песни Леонтьев, уже монах, отвечает:,не надо мира». Это – «ницшеанство». Я впрочем употребляю термин «ницшеанство» лишь для литературной аналогии, считая – ошибочно или нет – Леонтьева и сильнее, и оригинальнее Ницше. Он был «настоящий Ницше», а тот, у немцев, – не настоящий, «с слабостями сердечными».
3
Пантеистическое, благое, доброе. Впрочем, тоже злой человек и уже отделясь теперь вовсе от Леонтьева, я скажу покойнику: «ну, конечно, от птичек лесных, от полевых травок Зосима взял свою доброту, благость, пантеизм: на афонских задворках он выучился бы только жесткости, сребролюбию и таким порокам, о коих вне обители и не слыхивано».
4
Ну, какой же стиль, если не благостный? Вся Россия удивилась и умилилась величию благости Зосимы. «Не наш, не наш он!» – восклицает Леонтьев от имени православного монастыря. «И правда – не ваш,» – отвечаю я и беру Зосиму в охапку и выношу его, а с ним и все его богатство душевное – за стены тихих обителей.
5
Это все очень глубоко. Трепет, испуг за себя – да, вот начало «страха Божия» и «премудрости религиозной». Недаром иезуиты (я видел в Imago primi saeculi Societatis Jem, Antwerpen, 1640 r.) в первую фанатичную пору существования своего изображали «общество Иисусово», как корабль среди бушующих волн. «Только мы спасаемся, – грядите к нам! Вне – гибель!!» До инквизиции отсюда уже вершок расстояния. Ведь и она родилась вся из испуга за спасение; ее гнездо – религиозное отчаяние (францисканцев).
6
В личной биографии Леонтьев был поразительный альтруист; и это все поправляет в нем, преображает сумрачные идеи его в fata-morgan’y. «Авель, для чего ты надеваешь на себя шкуру Каина? – хочется спросить. – И жмешь руку брата, выкидываешь за борт его «каинство» (=ницшеанство); и, если богат, заготовляешь жирного барана в снедь и усаживаешь за стол его: «Авель милый, ты отощал от каинского мышления: стложи клобук в сторону, вооружись ножом и вилкой и кушай сытно, как Петр Петрович Петух. От хорошей пищи проходят худые мысли».
7
Фудель – очень умный, сурово-умный человек, но без блеска, без аромата, без гениальности. Он воспроизвел Леонтьева в себе, как деревянная доска – гравюру с живого дерева (=Леонтьева). Именно на Фуделе, может быть, лучше всего можно проследить: «ну, что же вышло бы с идеями Леонтьева вне Леонтьева? Вне его личной доброты и таинственно с монашеством сопряженного эллинского эстетизма?» Фудель в самом христианстве понимает только суровость, черствость, дисциплину. Он, приехав в Петербург, читал здесь публичную лекцию о необходимости поднять, так сказать, «духовные возжи»; а в одном споре со мной – по какому-то теоретическому поводу – открыл какой-то одобренный училищным советом при синоде учебник и сказал: «Вот тут написано, чего же вы спорите». Я мог бы только ему улыбнуться. Если бы он потребовал объяснения улыбки, я бы ему ответил далее, что слово Божье есть все основание моей и его, да и вообще европейской веры, и что была какая-то темная история с знаменитым протоиереем Павским: его хотели лишить сана за опыт точного перевода с еврейского языка книг Библии.
О. Фудель, по-видимому, мало знаком почтенному автору, которому, в противном случае в силу своей правдивости вынес бы убеждение, что названный священник умом, сердцем и жизнью проявил христианнейшие черты. Прим. Ред. «Русского Вестника».
8
Ужасная путаница: два тома «Востока, России и славянства» едва были для меня разысканы в московских книжных лавках; это было за полгода или за год до этого письма. А «приятели» Леонтьева, которым он поручил «даром раздавать и пропагандировать его два тома», преспокойно бросили их на чердак, сказав: «а, ну их! конечно, отличные, но не на базар же их вывозить. Там – торг, все съедобное, и мы сами там полакомимся, но возиться с этою фараоновой коровой, с Леонтьевым, – Бог с ним. Старик наивен и поверит, что мы покою ими не даем знакомым и незнакомым».
9
Нет, тут еще причина, фатальнее и глубже. После смерти Л – ва сейчас же появились обширные журнальные статьи о нем: моя – в четырех книжках «Русск. Вестн.», январь-апрель 1892 г., и, года два спустя, в Вестнике Европы, в Русской Мысли, в Русском Обозрении и Вопросах философии и психологии целый ряд статей, то полемических, то анализирующих, А. Александрова, кн. С. Трубецкого, П. Милюкова, Л. Тихомирова, Фуделя. И все-же в результате – ничего, никакого общественного внимания. Кроме своей библиотеки, я никогда и ни у кого нс встречал в библиотеке сочинений Леонтьева. Его имя в обществе если и известно, то по наслышке, а не по чтению. Я не могу этого объяснить иначе, как следующим, несколько колдовским способом. Известно, что в жизни (и в истории) большую роль играют так называемые нечаянности. Природа (творческие ее силы) любит как бы удивлять человека, видеть его удивленное лицо. Поэтому чего мы особенно сильно ожидаем, или желаем, очень часто, до странности часто, не исполняется. Л-в, во-первых, имел право на огромное влияние, и, вероятно, первые годы, не сомневаясь, ждал его, а потом с каждым годом все мучительнее желал – и тоже ждал. Может быть, в истории литературы это было единственное по напряженности ожидание успеха; и природа, так сказать, скучая произвести до утомительности подготовленный факт, просто ленилась подойти к этому колодезю ожидания и положить цветок в давно протянутую руку. – «А, ты все ждешь?! Бедный! Вот, сейчас; только я сперва подбегу к этому сонному человеку, которому и не брезжется, что он когда-нибудь будет известен, и раззвоню его имя по всем уголкам вашей России». Годы проходили; Лейкин славился, Гайдебуров гремел, Стасюлевич и Пыпин выросли в отечественные величины. «Ну, что же мне?» – измученно пищал из Оптиной Леонтьев. «Ах, это – ты! ах, это – все он, – говорила Natura-Genitrix. – Правда, надо бы ему помочь, но такая невыразимая скука подойти к этому натруженному месту, натруженной думе, которая по пальцам сочла и перечла все свои шансы и вероятности на успех. Ну, и помогу ему, но завтра; а сегодня свернусь в клубочек и отдохну, ибо и без того уже помогла десятерым». И не наступало этого, «завтра», не наступило вовсе.
10
Ну, уж «упоминать»… Так и до сих пор, до 1903 г., кроме любителей», имя Леонтьева, К. Н., куда менее известно, нежели однофамильца его, Леонтьева – друга Каткова, составителя Латинского словаря.
11
Удивительно! удивительная степень ожидания!! Если бы Л-в вдруг забыл возможность славы (исчезло душевное в эту сторону напряжение), как бы заспал ее, – то она сейчас, мне кажется, и вошла бы к нему. Она все время стояла у дверей его, но ожидала, пока он перестанет смотреть на нее. Но он не переставал сюда смотреть, и так утомил «гостью», что, отойдя, она даже не вспомнила о нем и тогда, когда он умер, и что теперь можно бы его прославить. «А, тот несчастный все скребется в дверь: не отопру». Но это уже не он скребется, а мыши в его могиле.
12
Много лет не читав беллетристики и как-то, за исключением великих мастеров, не уважая ее, я так и не попросил у Леонтьева его повестей, думая, что это нечто «средненькое». И никогда не искал с ними знакомства, пока случайно, года два назад, нс наткнулся на них, в старинном издании, чуть ли не шестидесятых годов. Но едва я начал их читать, как поразился красотою и художественной верностью живописи. Молодые греки, мечтающие о парламенте, молодые боярыни греческие, вспоминающие об Аспазии, грубые, суровые, старые турки-паши, большой родовой быт славян, и торговля, везде торговля, и деньги, в перемешивании с разбойничеством (в горах), – все даст великолепную панораму Балканского полуострова перед самым освобождением. Удивительно, что они не переведны на греческий и южнославянские языки. Но когда-нибудь они там станут родною книгой, своей отечественной, ибо схватили портрет национальностей в минуту, когда национальной литературы не существовало иначе, как в форме народного песнотворчества. С тем вместе политические идеи Л – ва сквозят везде и здесь; но, одетые в плоть и кровь, они нигде не жестки. Напр., «либералов» греков, молодых университантов, он рисует чуть-чуть разве смешными, но вместе такими грациозными и миловидными, что нельзя оторваться от зрелища. И всю картину любишь и уважаешь.
13
Как все замечено! Какая наблюдательность! Страхову или Рачинскому просто не пришло бы на ум посмотреть на это. Иное дело эстету Л-ву: ему дай лицо и затем уже начинай «о душе». Я говорю, Алкивиад в нем не умирал, – с длинными волосами, вечно нравившийся женщинам.







