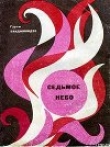Текст книги "Американский опыт"
Автор книги: Василий Яновский
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 15 страниц)
25. Магда
Вечером, возвращаясь домой после особенно бесплодных и сомнительных усилий, Боб почти обрадовался встрече с Магдой: загородила ему путь у самого крылечка.
– Можно зайти к вам, – попросила. Маленькая, сухая, тоскливо постукивающая зубами.
– Ладно, – согласился. И подумал: вместо отдыха и помощи ему подсовывают, навязывают, существо предельно обойденное, достойное утешения. Новую тяжесть на шею!
У Ники шумели. На всякий случай, сделав знак: потише… Боб на цыпочках провел ее в комнату. Со времени той памятной ночи он не бывал у соседа. По странному совпадению, тот больше не приглашал Боба, – едва здоровался, – будто считая свое задание выполненным. Усевшись на диване, Магда сразу, торопясь, заплакала, издавая горлом смешные, птичьи звуки.
«В общем ее поразило такое же, если не похуже, горе. А ведь она слабее меня», – зашевелилось привычное и Боб усмехнулся. Ибо еще с детства усвоил: эти анемичные и хилые, которых ему приходилось всегда подбадривать (на экзаменах, в творчестве, в походе), гораздо лучше устраивались чем он сам, мужественный, готовый любого пожалеть. «Я спал с этой женщиной, – вспомнил он и злобно осклабился. – Как в этой страшной жизни все ловко переплетено, осмысленна каждая бессмыслица».
Он уложил Магду поудобнее, укутал, дал отхлебнуть вина и тогда лишь разглядел, до чего она истрепалась. Тощая, пепельно-землистая, сморщенная, без возраста.
– Я не знаю, как мне жить. Я не могу больше жить. Я не хочу больше жить. Мне нельзя больше жить, – шептала она быстро, упрямо, одержимая: казалось, витальные силы иссякли, остались только деструктивные, ведущие к разрушению, самоуничтожению. А в то же время, глаза ее, усталые (доброй, чахлой лошади), теплились доверчивым ожиданием, надеждой, мольбой: вот согрей меня, скажи, открой, объясни, влей соки, смысл и я снова зашагаю.
И Боб, который сам, последние недели, с трудом сводил концы с концами, наклонив голову, стиснув зубы, слушал ее, испытывая предрвотную муть и томление.
Муж ее бросил, тогда, при катастрофе. Осталась с двухлетним парнишкой: кормит, поит… Но с ужасом замечает: растет. Она не в состоянии воспитывать ребенка одна. Давно надумала: бритвой перерезать себе горло. («Каждый имеет свой образ самоубийства, характерный для него, подобно походке или почерку», – отметил Боб). Вчера чуть было не решилась, да вспомнила: ведь не случайно они с Бобом набезобразничали. Не случайно же такие вещи происходят.
– Да, да, – поспешно согласился Боб, морщась.
Он знал по опыту: жалость, полумеры, посильная помощь, не могут спасти человека. Надо отдаться ему целиком, полюбить. Тогда легко заставить его снова дышать, быть, приносить плоды. Урывками же, пятаками, только обманешь, отсрочишь. И все же он ринулся, согнув тяжелую голову на низкой шее: перед ним стена, еще одна (все та же), он ее прошибет, о, проклятие.
– Ты понимаешь, – убеждал Боб злобно и настойчиво. – Если бы я полюбил тебя, всю, ты бы воскресла, что ли. Но это значит, частично хотя бы, жить за чужой счет, паразитом, в тягость. Быть дефицитным продуктом в хозяйстве. Пойми, – гневно повторял он. – Жизнь такая сложная и опасная задача, а ты даже не пробуешь разрешить ее. Ты знаешь, что такое минер? Он идет впереди своих частей, находит мины и разряжает их. Минер дважды никогда не ошибается. Лучшие бьются, ищут прохода, а ты еще отягощаешь, мешаешь, мертвым грузом ложишься. Я плыву в бурю через Гудзон с твоим же ребенком на спине, а Магда прыгает и цепляется за мой ворот, требует внимания. Слушай, я тебе поведаю тайну мироздания, – согласился он, неохотно, подарить ей самое ценное из мыслей, опыта, откровений, то, что годами вынашивал и боялся открыть, выдать даже Сабине (ибо тогда оно могло вдруг потерять неоспоримость новизны). – Тайна мироздания, – повторил он торжественно, стремясь поразить Магду, вызвать душевный перелом.
26. Тайна
– В начале был только Он, – заговорчески сообщил Боб Кастэр. – Все что было, было Богом, и Бог был всем, что было. Вселенная Бог и кругом ничего: небытие. Чего нет, то небытие. И Бог, по неизреченной доброте и любви своей, пожалел эту черную, холодную, страшнее смерти «пустоту» небытия. Сказал: «Досадно, что есть небытие, ужас небытия»… И еще: «Сделаю так, чтобы небытие могло приложиться к жизни, и тогда не будет больше небытия». Будучи всесильным, Он мог единоличным актом занять небытие, распространиться туда. Но тогда, опять-таки: все что есть – Он, а кругом небытие. Механическим путем задача не разрешалась: небытие отступает, но не уничтожается. Надо, чтобы само сердце небытия ответило Богу: да… и тем самым подсекло собственные корни.
– Значит есть два начала жизни? – спросила вдруг Магда.
– Нет, – отмахнулся Боб. – В том-то и дело, что нет: ибо небытия нет! Здесь тайна, трудно осознаваемая. Существует только божественное. Чего нет, того нет. И подлость, страх, злоба, их нет: это смерть души, корни возвращения, якори небытия. Понимаешь?.. Тогда Бог дунул, бросил искру, дрожжи, толкнул небытие, родил, привел к сознанию и выбору. Весь процесс истории, загадка нашей земли, в этой борьбе: принять ли нам, высеченным из небытия, Бога, заразиться Его светом, оценить Его правду, утвердиться в Его любви или, наоборот, вернуться вспять в состояние сна без сновидений, смерти, небытия, воистину уму непостижимого, черного, холодного вакуума. В душе каждого тягаются эти две возможности. Человек решает лично, но не только для себя: чаша весов всего мироздания колеблется. Усилие Микель Анджело или Франциска Ассизского влияет на целое: это мерило живого существа, вырванного из небытия. А гадина, тупица и насильник падает ношей на других, отягощает. Любой грех имеет космическое значение, потому что доказывает присутствие тех же элементов и у остальных: ведь речь идет о самоупразднении резервуара небытийности, – «Господи», – взмолился Боб: несмотря на веру свою слова-то выбирает какие-то лживые. Но продолжал, скрепя сердце: – Понимаешь, Магда, в тебе, как в препарированном кролике, видны струны, тянущие душу назад в древнее состояние покоя и смерти. С титаническими ухватками маниака ты работаешь на самоуничтожение и на разрушение мира. И не ешь, не пьешь, не спишь, отклоняешь всякую радость, смак ее и всякое созидательное движение.
– Я хочу, я хочу, – прервала его Магда и в ее голосе зазвучали творческие нотки. – Я желала бы принести себя в жертву. За великое дело. Десятки лет об этом молю Бога. И Бог не дает мне ответа.
– Это тайна Каина, – сказал Боб, усмехаясь: опять напыщенное слово. – Каин и Авель собрались принести жертву. Дар Авеля детский, от излишка, без надрыва. А труд Каина подобен каторжному. Бог сразу принял жертву Авеля. А Каина нет. Вот тайна: именно потому, что заслуга его велика. Если бы у Каина хватило силы, благородства, любви, продержаться, потерпеть, ждать, не отчаиваясь и не сдаваясь, от его жертвы остался бы огромный, спасительный след в жизни. Но у него короткое дыхание: как у всех Каинов. Пожелал немедленного результата, позавидовал младенцам Авелям. Медведь в пустыне не сразу лижет руку аскета. Мрамор сопротивляется резцу гениального скульптора упорнее, чем дилетанту или придворному шаркуну. Каин взбунтовался, отчаялся, подобно ученому, разбивающему в гневе свою реторту. И вся его миссия сорвана. А ты идешь по пути Каина.
Магда не была убеждена, но что-то затеплилось в ее душе и жаждало продолжения, развития.
Тогда Боб заявил:
– Я создаю новое общество: последний интернационал: «Враги небытия, соединяйтесь». Если ты обуздаешь в себе темные инстинкты, приходи к нам. Мы пловцы с длинным дыханием. Неся собственных и чужих Каинов, переплываем ртутные воды к утверждению живого. Помни, это не шутка: царство Божие берется силою.
Так говорил Боб Кастэр. От усталости, печали, не осталось и следа. Испытывал только досаду, – в сущности разменивает себя по мелочам: – черношкурый, просвещает истерическую бабенку. А он мог бы командовать армией, обращаться к миллионам, поучать народы. («Каин, Каин»).
Из коридора доносилась развратная музыка саксофона: не обрывается, все резче, выше, без радости, подобная бреду сексуального маньяка. В одностворчатую дверь к Бобу, с воплями и улюлюканием, рвались пьяные: Ники убедил их, что там женщина. Они лежали в темноте; Боб гладил ее сухие волосы и сморщенное личико.
– Понимаешь, – шептал он. – Тебе не повезло. Но надо держаться, до поры до времени. И все-таки жить за собственный счет. Я тоже потерял многое и, видишь, не сдаюсь. Сабина беременна и собирается выскрести моего ребенка.
– Я ненавижу Сабину, – отозвалась Магда, словно о давней своей знакомой. – Дурак, ты не понимаешь: она сперва тебя разлюбила, а потом ты изменился.
Боб вздрогнул точно от удара хлыста: вот слабая, добрая, а эту страшную истину легко преподносит ему.
– Ты ошибаешься. Правда по середине, – кротко сказал он, настроенный великодушно собственными вдохновенными образами.
– А я бы твоего ребенка донесла, – заявила вдруг Магда.
Незаметно уснула, то и дело всхлипывая, бормоча, спохватываясь, как голодная, побитая, бездомная собака, нашедшая себе случайный приют. Боб думал: «блудный сын, истосковавшийся по доброму слову и горячей пище… вот неожиданно его умыли, согрели, уложили на чистые простыни. Никто не прогонит, хотя бы до утра: и пришел он в себя»…
Она так храпела, что мешала ему не то что спать, но даже лежать тихо, курить. «Как мало я сделал. И больше получил, чем дал. Тайна. Застрять с нею навсегда: посвятить жизнь. Хоть одного человека спасти. Может в этом разрешение вопроса: цель и суть. Приму ее ребенка: обеспечу им тыл. Без крупных подвигов. Не быть Каином самому… Но с какой стати? Отказаться от самого себя? Я не Каин, не отчаялся, не убивал. Я только не уступаю: не отдаю лица своего за мармелад. Я тоже хочу: прийти в себя. Быть самим собою, на соответствующем месте».
– Но где твое место? – пронеслось.
«Прежде всего, я не черный, – упрямо ответил голос в Бобе. – Главное преступление, подлость и слабость людей: ползут и застывают там, куда их ставят обстоятельства удачи или неудачи. Не признаю. Факт, что все меня соблазняют, толкают на путь сладкого компромисса, только доказывает насколько я прав, сопротивляясь: силен дьявол, трудно сохранить свою душу. Пока жив, не откажусь. О, меня мармеладом не купишь»…
Неожиданно, из храпа, донесся голос Магды:
– Почему это так устроено в жизни, что легко, почти произвольно, выходит дрянь, ложь, предательства… а как-только пробуешь другое, высокое, светлое, сразу натыкаешься на трудности.
– Это потому, – объяснил Боб, – что птицы небесные имеют гнезда, зверь лесной нору и даже комфортабельную, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову. И всё, что от Него или с Ним, не имеет приюта на этой земле, с трудом укладывается. Чему тут удивляться?
«Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову, – повторил он про себя, потрясенный. – О чем ты думаешь? На что жалуешься? Борись, побеждай и будь счастлив».
– Спи, спи, – сказал он строго Магде, которая зашевелилась было, желая продолжать беседу. – Поздно уже.
27. Операция
Оперировать решено было 3-го марта: на квартире врача, под местным наркозом… Сабина тотчас же уедет к себе отлеживаться; если дома начнется кровотечение или поднимется температура, – надлежит звать уже другого доктора, по возможности хорошего, или прямо ехать в госпиталь, ни в чем однако не признаваясь.
– Понимаешь, – объясняла Сабина накануне вечером: – Я так же ответственна перед законом, как и он. Поэтому надо молчать при любых осложнениях.
Боб подумал: достаточно возложить ответственность только на хирургов и заставить их к тому же возвращать назад гонорар, – чтобы доконать весь этот промысел.
И день настал… В третьем часу пополудни Боб нетерпеливо прогуливался по одной из боковых улиц у 2-го Авеню. Стужа, ветер. Солнце светило ленивее чем в феврале, скупо озаряя фантастический пейзаж: обожженный морозом город, тупоголовые дома, плоские крыши, фабричные трубы и человека, ждущего свою возлюбленную у подъезда сомнительного специалиста.
От холода и тоски Боб взмолился: «Поскорее уже. Если есть Бог, она сейчас явится и все будет кончено».
Вот она, Сабина. В шубке, в меховой шапке, похожая на ребенка, на подростка: дома ее ждут родители, какао, Давид Копперфильд.
Боб спрятался в подъезд, пропустил ее, затем догнал и крепко взял за руку: не останавливаясь она продолжала шагать, размашисто и безвольно.
Поднялись по темной, безличной, неопрятной лестнице на самый верх пустынного, запущенного дома. Такие дома попадаются часто в Нью-Йорке: без прошлого, без будущего, не рождающие чувства интереса к своим жильцам.
Дверь отпер сам доктор Спарт, враждебно взглянул на Боба, что-то пробормотал в ответ на приветствие и повел их: длинный коридор, несколько пустых, необставленных комнат, затем комнаты с мебелью, но явно необитаемые. Очутились в свежевыбеленной зале с гинекологическим креслом в центре и стеклянными шкафами по бокам.
– Вы приняли ванну? – спросил Спарт.
И Боб ответил, вытягиваясь, как перед командиром:
– Так точно, приняла.
– Раздевайтесь! – и добавил: – Решено, в случае осложнения вы не ищете меня, все равно не найдете… Не теряя попусту времени, везете ее в госпиталь, так?
– Да, – согласился Боб, – только я хотел спросить: нельзя ли ей отдохнуть здесь часа два-три, а не сразу…
– Нет, – отмахнулся Спарт. – Ехать надо пока наркоз еще действует. Раздевайтесь.
Был он тучный, лохматый, седой, с небритым, словно опухшим от сна лицом. Начал распределять инструменты, вату, шприцы, руководствуясь очевидно известными ему соображениями: одно клал налево, другое направо.
– Стерилизовано в госпитале, – объяснил он. – Будет хорошо. Впрочем, я не понимаю, почему люди отказываются рожать.
За дверью послышался странный шум: похоже, будто взрослый человек прыгает на одной босой ноге. Доктор поспешно выбежал, бросив:
– Укладывайтесь сюда, я сейчас.
Сабина послушно улеглась: в светере, полуголая. И тут она взглянула на Боба: впервые за весь день, быть может, за много недель, – словно пелена спала! Он стоял у ее изголовья и сосредоточенно улыбался, словно прислушиваясь к нарастающей, глухой, привычной боли. И Сабина увидела: низко над нею его глаза, – такие они бывали в минуты напряженного счастья. У Кастэра серо-голубые глаза, но под влиянием внутреннего потрясения они становятся синими, меняясь резкими скачками в своих оттенках. Она узнала их и то чувство, которое они вызывали: вот перед нею самое нужное в жизни, – щедро собрано и дано! «Боб». Он заметил перемену в ее лице, склонился еще ближе и быстро, быстро, настойчиво зашептал:
– Знай, нет инерции, фатума, рока. В христианстве с любой минуты можно начать сызнова, вернуться, исправить, спасти. Ты еще можешь спрыгнуть с этого подлого кресла: мосты не взорваны, свободный акт твоей великой души.
Она не слушала, досадливо морщась: зачем он говорит. Его глаза убедительнее, разумнее, понятнее. Какой он еще неловкий и глупый. И главное – ее, свой, ненаглядный.
– Уйдем отсюда, – вскричала Сабина, вдруг, опомнившись.
Сдерживая дыхание, с перекошенным лицом, он ее поднял со стола и, путая разные тряпки, помог одеться.
– Мы уходим, – грубо сказал Кастэр вернувшемуся доктору. – Могу покрыть расходы. Вы понимаете, мы уходим, операции не будет! – рассвирепел он, так как Спарт молчал.
– Понимаю, – согласился тот и неожиданно улыбнулся. Но некому было оценить это чудо: на ходу застегивая пальто, Боб и Сабина спешили прочь, тычась не в те двери.
– Сюда, сюда, – вопил доктор, охраняя жилую часть своей квартиры от их вторжения: – Направо…
28. Недоразумение
По звуку захлопнутой двери Спарт догадался, какое облегчение они испытали, вырвавшись из его дома.
Насвистывая что-то знакомое и старинное, он тщательно прибирал операционную, расставлял вещи по местам, часть инструментов спрятал в потайной шкаф. Для своего странного, вздутого тела, передвигался он легко и быстро. Долго мыл руки под краном, но вытер их об рваное, замасленное полотенце. Вышел, заперев дверь на ключ. Проходя мимо одной из жилых комнат, он остановился и осторожно заглянул туда. Там на постели, съежившись, лежала его жена и, по обыкновению, прижимая к груди свернутый угол простыни, нежным шопотом убаюкивала некое воображаемое существо. По сути ее помешательства этот край простыни изображал ее мужа, хотя в то же время муж ее находился и в углу, под самым потолком: она и с тем перемигивалась, пересмеивалась, – седая, расстрепанная, грязная, морщинистая, со счастливыми глазами невесты. Причмокивая, жеманно кокетничая, стыдливо хихикая, виляя сухеньким тельцем, она заигрывала со своим идеальным нареченным.
Доктор Спарт молча постоял у порога. Впервые, за эти многие годы ее помешательства, он вдруг понял: в основе болезни жены – верное чувство! Он, ее муж, не оправдал любви, надежд, представлений… Она ушла в другой мир, унося на руках желанного супруга. Улыбнулся: подобного рода догадки успокаивали его, независимо от их содержания.
Вспомнил про тот аборт: ее, в Европе. Они тогда были совсем молодыми: студенты. Он желал ребенка, хотя учитывал все трудности, но она решила: слишком рано. Как далеко это и как близко: живо, больно. Это было в Вене: начало века. Но могло случиться и вчера или в Шанхае. Ах, если бы у них хватило мудрости и веры убежать, проделать то же, что выдумала эта смешная пара… Так дилетант, шахматист, проиграв, ссылается на один, неудачный ход (дайте ему назад и он снова немедленно попадется). «Да, но события развивались бы иначе, – сам себе возразил Спарт: – Тоже неудачно, но по-другому. А хуже моей жизни нельзя вообразить. Потому что просто не было жизни».
Доктор прошел в свой большой, заваленный многими, казалось ненужными, предметами, темный и затхлый кабинет. Почувствовал знакомую боль в груди. Сел на диван, придерживая рукой сердце. «Вот так я когда-нибудь умру, – промелькнуло: – Здесь. Один. Буду лежать на этом диване или сползу на ковер. Пройдет день, два или больше, прежде чем спохватятся, постучат, взломают дверь. Полиция, понятые… Такие снимки печатают в газетах: угорел, самоубийство, разрыв сердца. Так и будет. Не сегодня, конечно, – по старой привычке решил он: – Но скоро, очень скоро». Мысль о смерти его не пугала больше и не возмущала. Липкой, запухшей рукой массировал себе грудь. Но он ценит покой, удобство, тишину. Его комната, – постель без простынь, пыль, запахи, – только казалась в беспорядке: он мог найти любую вещь или запись, почти мгновенно! И вдруг, ему предстоит сняться, ночью сесть в поезд, трястись куда-то со многими пересадками, – холод, вокзальный неуют, мутное кофе, сосиски, грубый кондуктор, опросы таможенных чиновников… Вот какой чудилась ему теперь смерть: сомнительное, трудное путешествие, в 3-м классе, с просроченной визой.
«Они дураки, ли дети, вспомнил он снова своих сбежавших пациентов. – Наверное пожалеют. Но все-таки побольше бы им подобных чудаков».
Доктор Спарт учился в Вене. Думал посвятить себя хирургии, а незаметно соскользнул на аборты. Почему? Любая «честная» практика не давала бы ему меньше дохода! На суде его стыдили: уважаемые коллеги ошельмовали Спарта. Уважаемые… Они делают то же самое, только соблюдают приличия. Светлые личности. Он, доктор Спарт, по крайней мере иногда пользует больных бесплатно: на свой страх и риск. А они повесятся за 5 долларов. Впрыскивают витамины и гормоны, вырезывают аппендиксы и амигдалы. «Рэкетиры». Один вид «ракета» узаконен, а другой – нет! Вот и всё. «But Brutus was an honorable man».
Спарта формально оправдали тогда, – на суде. Законы. Подлецы. Жить нет больших оснований. И даже умирать не стоит. «Но эта женщина. Такую можно полюбить. И этот черномазый. В нем что-то есть. Как будто ему перерезали артерию, он пальцем ее заткнул и продолжает жестокий бой.
Глупо, но что-то есть привлекательное в глупости. Вообще, мой недостаток в отсутствии глупости. Это, кажется, в первый раз в моей практике такое случается, – подумал Спарт, опять улыбаясь. – Только бы они завтра не пожалели и не пришли снова».
Ночь – мучительная пора для Спарта. Укладывался он рано: часу в 7-м. Просыпался около 11-ти, лежал в темноте, прислушиваясь к стуку сердца, к своим нерадостным думам; зажигал свет, перелистывал книгу, играл в шахматы с воображаемым другом, прогуливался по квартире, подавал жене воду или яблоко, снова растягивался на диване, вспоминал, ругал невидимых врагов, обидчиков. Под утро забывался беспокойным, смертоносным сном.
Его желтое, вздутое лицо покоилось высоко на подушке. Он потянулся уже за вторым фенобарбюталом, когда в коридоре неожиданно и резко затрещал звонок и вслед за ним раздались глухие удары в дверь. Спарт трясущейся рукою запахнул полы халата и побежал отворять, по дороге включая свет повсюду. Неумеренный в своем голосе, он молча распахнул дверь и увидел на пороге – Боба Кастэра.
– Доктор, – запыхаясь произнес тот: – Пожалуйста, доктор, кровотечение.
Усадив ночного гостя, Спарт попросил его толком объяснить, чего ему надобно… Сабина без всякой видимой причины почувствовала себя худо. Боб пробовал домашние средства, но обнаружилось: она вся в крови.
– Спасите ее, – сказал Кастэр, умоляюще. – Сделайте все, чему вас учила жизнь и школа. Не случайно мы с вами встретились.
– Вы хотите, чтобы я лечил вашу жену?
– Она еще не моя жена.
– Это все равно. Правильно ли я вас понял: вы не для аборта ко мне явились?
– Какие глупости! Мы должны их спасти.
– Подождите меня, – тихо сказал доктор: – Пять минут, – и, сбросив халат, начал облачаться. Седой, крупный, широкогрудый, он был внушителен и даже борода его, – лохматые, неряшливые космы, – не отталкивала теперь, не пугала; весь вид его суровый, пророческий, внушал доверие. – Я сейчас, – продолжал он скороговоркой. – Что такое пять минут. Я вас ждал всю жизнь, а вы пяти минут не можете потерпеть. Я буду принимать этого ребенка. Клещами вырву его. Я буду крестным отцом ему, понимаете? И вы не имеете права. Молодой человек, – угрожающе шагнул он к Бобу. – Если бы вы только знали, что иногда происходит в жизни… – и вдруг заплакал: неумело, беспомощно морщась.