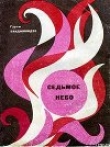Текст книги "Американский опыт"
Автор книги: Василий Яновский
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 15 страниц)
41. Чайки
Все увеличивая радиус своих прогулок, Боб Кастэр незаметно изучил остров во всех направлениях: профиль берегов, топографию, особенности реки и течения. С юга видна кромка почти открытого моря. Чайки, чайки кружили над камнями. Кто первый изобразил чаек белыми, поэтическими птицами? Вообще, сколько лжи и условных штампов в нашей культуре. Курицы будто бы не решаются перешагнуть через нарисованный круг, страусы зарывают голову в песок или прячут ее под крыло, голуби нежно воркуют… Чайки, жадные, хищные, трусливые птицы, серо-грязного цвета, издающие отвратительный, горловой звук.
Остров тянется к северу, расширяясь к центру и сужаясь на полюсах; мост, соединяющий оба берега канала, упирался в остров несколькими каменными башнями. Взобраться по такому столбу на уровень десятиэтажного здания, по меньшей мере, рискованно.
Спасаться вплавь… Но в какую сторону? Хотелось бы на запад, поближе к дому; а там берег крутой, высокий, забран цементом и железом, – течение бурное, – не всюду вылезешь! Восточный берег отлогий; у самой воды расположены площадки заводов: склады, бараки, уголь, бочки. В темноте полыхало пламя печи, грохотали краны… Ночью проскользнуть не трудно. Но затем надо, как-то, пробираться через сеть недружелюбных кварталов: в мокром больничном халате, без единого цента. А на той стороне он бы сразу вынырнул у знакомых ему мест…
Итак, путь – на запад. В полночь выскользнуть из палаты, пробежать к воде… прыгнуть. Это выполнимо (не наткнуться бы на баржу, на буксир). Если кто-нибудь его задержит в последнюю минуту: вот камень, камнем по голове и конец. Жаль: нельзя ударить по китам, затеявшим эту травлю. Поневоле воюешь с воробьями и плотвою, а экземпляры покрупнее при всех обстоятельствах уцелеют. Впрочем, Боб Кастэр надеется когда-нибудь побеседовать и с ними. Видит Господь: в Кремле, Ватикане или Белом Доме, – все равно! «Но что, если они и тут и там и во мне и в других местах? Что, если вся утвердившаяся жизнь против живого человека? – с ужасом спрашивал себя Боб: – Без замысла и рассчета, а спонтанейная, мировая, враждебная небрежность… Но чем больше трудностей, тем больше нужды их преодолевать. В этом диалектика творчества и преображения жизни, – озорно решал Кастэр: – «Нет, мы еще повоюем».
Вообще, с той поры, как борьба перешла в материальный план, – явные враги, стены, стража, – злое, торжествующее веселие воцарилось в его душе. Чувствовал прилив новых сил и дьявольскую решимость.
В этом настроении Боб однажды наградил увесистой оплеухой некстати подвернувшегося Джэка.
– Что вы делаете, вы играете им на руку, – укорял его потом очкастый доктор. – Назначена психиатрическая консультация. Придет лысый рамолик, ученик Шарко и будет вам задавать идиотские вопросы: число, день, год, имя, фамилия, возраст… Уколет булавкою и осведомится: острый конец или тупой?.. Затем пробирки с водой: холодно, горячо? Вы ответите: тепло! Вы наверное попадетесь, смолкнете, удивляясь его глупости. Этого они добиваются: вас отправят на испытание в сумасшедший дом.
Они гуляли по набережной. Очкастый с отвращением ткнул рукою в сторону маленького парома, криво пересекающего канал:
– Посмотрите на этот паром и вы многое поймете. В зимние туманы он не может найти берега, машина слаба, не выгребает; его уносит к чорту на рога. А вот напротив модные здания, с джентльменами на хорошем жаловании. Но и там рутина, рутина, рутина. Ломать, так все ломать. Строить, так все строить. Нет места для частного случая. Сидите и не двигайтесь, ждите приказа. Пенициллин? Всем давать пенициллин! Витамины, – всем витамины! Рентген, психоанализ, Эйнштейн, Тосканини, ура! И писать, писать: отчетность. Если больной умрет, a chart его, – огромная, увесистая тетрадь, – в порядке: вы covered. Но если пациент выздоровеет, a chart не полная, это катастрофа, с точки зрения суда и страховых обществ. Милостивые государи, – воодушевился очкастый. – Известно ли вам, когда вы будете covered на все 100 % и притом землею?
– Да. И по моим наблюдениям: медлительность, рутина и боязнь личной ответственности, – задумчиво согласился Боб.
– Но чем вы однако объясните нашу успешность в войне: мы снабжаем пол-мира и спускаем чуть ли не ежедневно по большому кораблю?
– Это я называю чудом. Злое, соблазнительное и страшное чудо безличного производства, – охотно отозвался очкастый: – Чудесно, как процветает материальная цивилизация, если исключить элемент личности. Египетские пирамиды, римские акведуки. Понятие бессмертной, неповторимой, незаменимой каждой человеческой личности – необходимое условие, климат, великой культуры; но оно мешает строительству дамб и конвейеров. Личность умирает и вместе с нею культура: мы входим в цивилизацию Великого Муравейника. Советский коллектив, американский team work и бюрократия. Говорят, что после этой войны уцелеют только две великие державы и конфликт между ними неизбежен. Я не вижу почему: они очень схожи и одинаково тяготеют к муравейнику. В Нью-Йорке никто не знает разницы между понятием личности и индивидуальности.
– Понятие личности и христианства связаны, – отзывался Боб Кастэр. Я бы сказал так: в каждой великой культуре, даже древнейшей, есть элементы живого Христа, тогда как цивилизация неумолимо языческого происхождения. Цивилизация это внешний процесс усложнения во имя комфорта. Представьте себе двух человек, тянущих за разные концы канат: есть такая детская игра. Потом их четыре, восемь, двадцать, миллион, с каждой стороны. Скоро уже нет места для желающих вцепиться в канат, а приложиться необходимо, иначе не проживешь. Изнемогая, тащат, толкаются, извиваясь: где тут думать о личности! Положение становится все более и более неустойчивым, как в металле со сложной атомной конструкцией… Наконец все летит к черту, распадается: катастрофа. Только тогда освобожденная личность оживает и вместе с нею возможность великой культуры. Вот наше позорное прошлое. А задача в том, чтобы сочетать существование личности со сложной цивилизацией. Личность готова к этому, она изнутри возвращается к обществу: только с целым живет. Индивидуум отрезывает себя от мира, исключает себя, и потому он мал, ограничен, как бы ни была велика данная индивидуальность. Индивидуальность центростремительна, а личность центробежна. Парадокс личности в том, что она сливается с миром. Можно сказать, что в основе цивилизации лежит индивидуум, а в основе культуры личность. Я думаю, что уровень и ценность данной культуры измеряется правом и возможностью личности жить и служить, не искажая своего образа: свобода от внешних указок, в том числе и биологических.
Если негр утверждает, по совести, что он белый, старуха, что она молода, а юноша, что он поэт, им должны верить.
Так они беседовали, как два беглеца с окраин империи в римских катакомбах. А в среду пришел лысый ученик Шарко. На его вопросы нельзя было отвечать без улыбки, а он вопил и требовал кратких, точных определений. Вода в пробирках, пока за них принялись, была одинаковой температуры. Булавку тот совал не равномерно: иногда тупой конец колол, а острый не задевал. И опять Шарко обиженно кричал.
– Вас назначили к переводу в психиатрическое отделение, – сообщил Бобу Кастэру очкастый: – Для систематического наблюдения. Я могу оттянуть денька на два, а там «викэнд» скажем до будущего понедельника, это все, что я могу сделать.
– Спасибо, – равнодушно поблагодарил Кастэр: «сегодня ночью бегу», – прозвучало.
А во время дневной прогулки, молодая сестра, красавица мулатка с Ямайки, сверкнув очами, сунула ему промасленную записку. Первое впечатление: влюбилась, назначает ему свидание. Всего две строки: Сегодня в «Аляске», займите стул в 3-м ряду, крайний слева.
Сердце благодарно сжалось. Кто-то близкий, родной, Сабина… А почерк незнакомый, мужской.
42. Аляска
Ангар, где по вторникам и пятницам развлекали больных, почему-то назывался Аляской. Представление обычно начиналось в 6 часов вечера. Но уже с пяти часов к длинному, куполообразному, крытому стеклом, зданию, тянулись, со всех концов, хромые, горбатые, слепые, изуродованные, так в канун престольного праздника бредут, издалека, униженные и страждущие, – в Лавру, приложиться к мощам, испить святой водицы.
Ехали на креслах-самокатках, на велосипедиках, приводимых в движение ручной педалью, собирались стайками, по принципу взаимной пользы, обмена услугами. Выбирали место поудобнее, устраивали свои возки, окликали друг друга, лениво шумели; угомонившись, поздоровавшись со случайными или желанными соседями, стихали, курили, сплевывали, кашляли. Старушки сплетничали, грызли орехи, леденцы… Вообще вели себя как зрители в любом театре на Бродвее. Смеялись шуткам любимых комиков, сочувствовали влюбленному герою; а когда на экране дива надевала чулки или халатик, – вынырнув из пенистой ванны, – вскрикивали, улюлюкали, свистали. (Ночью в палатах темно. Подрублены корни. Куда убежать, где спасение)…
Боб Кастэр один из первых занял место: третий ряд, слева, – как надлежало по записке. Присматривался к тускло-живописной толпе: жалкие, бьются, верещат, словно мухи попавшие на клейкую бумагу. «Люди читают в газетах о зверствах и казнях, ужасаются. Но ведь мы все тоже обреченные заложники, дожидаемся очереди у крематория. И чем ближе конец, тем слабее человек и ему труднее пролезть в дверцы».
Бобу недавно вырывали зуб: было похоже на казнь. А первый зуб ему удалили в Париже, без укола… и молодой, веселый, он тотчас же поехал в Сорбонну, на практические занятия. «Юноша может легко и без страха умереть. Но какая несуразица: итти на эту мучительную операцию, дряхлым, слабым. Отправиться в опаснейшее путешествие на полюс в самое неподходящее время года».
Напрасно Кастэр озирается, ищет, ждет сигнала, знакомого лица. Кругом шепчутся, беснуются уроды. Все тягостнее, все мучительнее неизвестность: с ним сыграли злую шутку, высмеяли, где Джэк…
В шесть часов грянула музыка: классическая. Накормив публику отрывком из Бетховена, заведующий зрелищами энергично промчался несколько раз взад и вперед по залу, выключая свет. Лицо у него было зверское: гангстер раннего периода Холливуда. («It's a good racket», – одобрительно прошептали сзади Боба).
Фильм оказался из жизни ирландской семьи в Америке. В госпитале большинство сестер ирландки, католические священники ирландцы, шоферы автобусов, пожарная команда… (В Нью-Йорке нет осознанных классов; имеются касты, цехи, по расовому признаку, с жесткой иерархией: от париев-негров медленно поднимаясь до хозяев англо-саксов). Все они порядком надоели Бобу и он без особой симпатии следил за перипетиями любовной драмы. Сзади, опять кто-то шопотом заявил, что на постановку этого фильма истратили два миллиона. Цифра утешила Кастэра: только, чтобы спасти дрянь, нужно вложить такой капитал; хорошие вещи: воздух, виноград… даются дешевле. Не сразу почувствовал, как его осторожно дергают за локоть: в кресле-самокатке, укутанный шалью старик. Нежно и благодарно рванулось сердце Боба.
– Смотрите вперед, на экран, – приказал доктор Спарт. – В субботу или воскресенье, зависит от погоды, ровно в полночь ждите сигнала с лодки: электрический фонарик. Два длинных, затем три коротких: 23. Я причалю у католической церкви: ясно?
Боб кивнул головою.
– Вот сверток: макинтош, туфли и деньги. Под стелькой найдете пилочку, на всякий случай. Мы им наставим длинный нос.
Ему хотелось еще поговорить с близким человеком, узнать новости. Сабина… Но Спарт боялся:
– В порядке, в порядке. Сабина нас будет ждать в баре на 2-м Авеню, – и откатил кресло.
Немного погодя, пробираясь к выходу, Боб заметил Джэка: откинув рукою грыжу с лица, он пристально глядел на экран своим удивленным, лошадиным оком.
– Погодите, будет еще Walt Disney, – любезно осклабился Джэк.
– Н-нет.
– У вас не будет папироски? – спросил он, догоняя Боба.
– Нет. Или, вернее, есть, но не дам. Скажи, ты очень сильный? – Боб внимательно ощупал его коренастые, чудовищные плечи.
– А что? – ухмыльнулся Джэк. – Это ваш пакет?
– Я очень сильный, когда обозлюсь, такое совпадение, – и зашагал прочь, весело насвистывая.
43. Бегство
Последующие дни протекали без осложнений. Внешне Боб, казалось, примирился со своей судьбою: всем было известно, – назначен к переводу в госпиталь Bellevue. Исподтишка за ним посматривали: со страхом и жалостью, а кое-кто из умирающих и завистливо.
Много спал, расскладывал пасьянсы, иногда помогал сестрам разносить завтрак, обед. Место, где, предполагалось, пристанет лодка, Боб Кастэр изучил досконально: почти руками обмерил, общупал подступы. Церковь можно обогнуть справа и слева; перепиливать стены или решетки нет надобности. Одна забота: Джэк. О нем Боб решил временно забыть. Эта дикая скотина все равно не поддается учету.
В субботу, под вечер, чтобы отвлечь подозрение, Боб сразу завалился спать. И, действительно, Джэк, посидев рядом, принюхиваясь и почесываясь, успокоенный отлучился: он изредка ходил к соседям играть в грошевый покер. (Смесь Тулуз-Лотрека и Гойя: карлики, злокачественные опухоли, язвы, – возбужденные, за картами).
Душно, белье липнет к телу, кружится голова. После одиннадцати Боб прокрался в коридор на второй этаж, жадно прилип к грязному окну: казалось стекло нарочно и старательно замарали, такой толстый и густой слой липкой пыли был на нем.
Видимость плохая, туман, возможен дождь. Сзади страшный, нелепый и чем-то заслуженный ад, а впереди столб пламени, накал ламп, – неопределенное зарево города. Вот он, Кастэр, на подобие графа Монте-Кристо, узник несправедливо осужденный и мечтающий о свободе, мести.
Полночь. И еще четверть часа; 12 с половиною, а сигнала нет. Боб утешает себя: ничего, вот если завтра фонарика не будет, это беда. Впрочем, тогда он попытает счастье на собственный страх и риск: благо деньги есть.
Тихохонько проскользнул к своей койке, – на ощупь. Джэка рядом еще не было.
Воскресенье выдалось жаркое, но с ветерком, ясное. Дух в госпитале царил праздничный, весенний. Сестры сходили к ранней обедне, помыли больных. Люди стали чище и мягче (кроме тех, на очереди, – одурманенных болью и морфием). Боб понял вдруг, что у каждого у них за плечами длинная жизнь с удачами и потерями: жена, дети, ремесло, болезни, выкидыши, внуки… Как у Рокфеллера, у микадо, у малайского рикши.
Джэк пытался даже острить, забавляя молодых сестер: смех его, густой, звучал прямо из кишек. Завтрак был получше: даже полумертвые пихали себе в рот или трубки сладкое желэ. И все-таки, томительно медленно тянулся этот день.
К вечеру погода опять переменилась и ночью заморосил редкий, парной дождик. Боб избрал новую тактику… Долго путал по коридорам и лестницам, изводя Джэка: тот мечтал о покое и сне, после предыдущей гулянки. В десять они улеглись и сразу стихли: любопытно, Джэк никогда не храпел. И опять Боб всматривался в ночь над рекою; он стоит со свертком подмышкою, на открытой террасе, у самой лестницы, готовый по первому знаку ринуться вниз. Но, когда запульсировал огонек: два тире, затем три точки… Кастэр замер от неожиданности, застигнутый врасплох. Через минуту уже мчался огромными скачками к условленной площадке. У самой воды, над обрывом, застыл, вперив лицо в даль: туман, завеса, где-то идет буксир и его грубое дыхание колотится о берег.
Вот, показалось, слабый огонек, шагах в пятидесяти от земли и скрип, словно, уключин. Боб достал спички и под халатом, изловчившись, хотел было зажечь одну. В это время на него что-то сзади навалилось, теплое, обхватило тисками и начало давить. Боб метнулся в сторону и, оступившись, шлепнулся в реку. Ледяная вода полоснула, – ножем, – захлебываясь, всплыл… Попытался нащупать, разобрать: зверь ли, человек насел… и где верх его, где низ? Но ничего этого в мягком, мохнатом и могучем теле врага не удавалось отличить. «Иисусе, Иисусе», – взмолился Боб и последним усилием, отчаянным, судорожным броском, подмял его под себя, зажимая и все-таки брезгливо отстраняясь. Страх, злость, покорность и безвозвратная решимость… Это ли испытывал Яков, когда боролся с таинственным Ангелом, на пол-пути!
Очнулся Кастэр на спине: его несло, болтало стремительным потоком.
«Чей это неприятный хрип?» – подумал и догадался: его собственный, испуганный и яростный. Кромешная тьма: один на вселенную. Где друг, где отец? Лодки не видно. Только очертания влажных бесформенных масс повисли над самой головой. Опять буксир: тяжело и добросовестно вздыхает.
Разбитый, замерзший, наглотавшись воды, Боб Кастэр, не размышляя, поплыл в сторону, подальше от машины и вскоре очутился под выступом берега: чуточку повыше места, откуда упал.
Обдирая руки, вскарабкался и быстро зашагал прочь, хромая, не замечая, что повредил себе ногу. Холодно: всего трясет. И все-таки: странное удовлетворение, полная ясность, душевный покой. Тишина. И что-то понятно.
«Надо передохнуть», – шепчет неповоротливыми губами Боб, устало озирается: где Джэк, его не видно.
Ночь, ночь. Кругом ни огня. Ковыляет человек, а за ним, слегка отстав, вечность.
Боб знает: в палату он не вернется. С этим покончено. Надо отдышаться. Придерживая ногу, бредет к скамейке.
Задремал или впал в забытье: минута, час… Когда опомнился, небо уже прояснилось, очистилось, светлело. Редкий, весенний ветер разгонял туман.
– Вы простудитесь, безумец, – говорил знакомый голос: очкастый доктор склонился над ним.
– Ах, это вы, – искренне обрадовался Боб. – Вы видите, я покидаю остров. Я уже прыгал в воду и сейчас опять попробую.
– Да? – серьезно и задумчиво осведомился тот и неожиданно добавил: – Идемте, идемте со мною.
Боб беспрекословно повиновался. Они пересекли остров с запада на восток, подошли к старенькому, каменному павильону, обросшему не то мхом, не то плющем; по витой лестнице поднялись на второй этаж и на ципочках прокрались в комнату к очкастому, похожую на монастырскую келью или тюремную камеру.
– Быстро, меняйте платье, – сказал доктор, явно волнуясь.
– У меня был сверток, – попробовал объяснить Боб, но не докончил и начал облачаться. Надел белье, потрепанные брюки, светер и куцый плащ.
Не мешкая пустились вниз… Пустырь, лужи, затем, по виду, модный отель, снова пустырь и вот, – мост. Небрежно прошли мимо привратников: те глянули профессионально-зорко на доктора и его спутника. А дальше лифт, тяжелый, медлительный и огромный: подкинул их на уровень моста. Опять рогатка.
– Hallo Smithy, – кивнул очкастый.
– Hi doc, – с достоинством отозвался ирландец Смит.
Железные прутья последней преграды: щелк, щелк, – пропускает только по одному человеку зараз. Крытый коридорчик. Свобода: мост, шоссе, рельсы, надписи, – запрещено, штраф. Дребезжа подкатил старенький трамвайчик; Боб шагнул, дал никель, звякнул счетчик. «До свидания, amigo». И трамвай затрясся, мигая лампами, унося запах морга и крыс.
Ровно через час, Боб, счастливый, разморенный, уже сидел в баре на 2-м Авеню, – рядом Сабина, вымокший Спарт и Прайт, – глотал scotch рюмку за рюмкою и с любовью прислушивался к взволнованным голосам, – не понимая их рассказа.
– Ну что ты, ну что ты, говори, – бессвязно повторяла Сабина и заливалась смехом…
А утром его и Сабину разбудил тревожный звонок:
– Special Deliveryl – Сабина приняла пакет, не успев вручить мальчишке четвертака (по отцу англичанка, она, однако, не была скупа).
«То whom it may concern»… – значилось на официальном бланке… Принимая во внимание обстоятельства, изложенные в прошении от 1.3.1943, настоящим удостоверяем, что Роберта Кастэра, – 36 лет, местожительство г. Нью-Йорк, – несмотря на темную окраску кожи, надлежит считать расы неопределенной (indefinite)…
– Ох-хо-хо-хо, – утробный, безудержный, отвратительный хохот потряс Боба до основания. – Милая, милая, – силился он произнести: – Ты замечаешь, как это просто.
– Для начала это не плохо, – рассудительно подтвердила Сабина. – Знаешь, давай обвенчаемся.
44. Праздник
Солнечное, летнее утро, раннее, ясное. Возбуждение предыдущего дня, наконец эта чудесная бумажка, – «расы не определенной», – слишком много впечатлений. Человек, вообще, больше приспособлен к неудачам. Не сиделось на одном месте. И Боб, несмотря на больную ногу, предложил Сабине отпраздновать этот день. Выбор был небольшой. Слонялись по городу. Посмотрели витрины на Пятом Авеню. Съездили открытым автобусом – в обе стороны. Сходили в синема на Бродвее. Устали.
Всей компанией обедали в Sea food: огромные омары и белое вино. Потом вернулись домой, т. е. к Сабине.
Настроение у всех друзей было приподнятое. По-новому, с уважением глядели на Боба, прислушивались к его словам: победитель.
Особенно неистовствовал Прайт, пожалуй слегка возбужденный вином.
– Да понимаете ли вы что случилось? – вопил он, нервно расхаживая по комнате. – В состоянии ли вы сообразить? Нет, нет, это чудо. И зачем я, дурак, отказался. Всю жизнь я мечтал о нечто подобном, и вот когда оно давалось мне в руки: испугался, предал и потерял. Я совсем не глуп и не плох и не труслив. А поступаю именно так: глупо, подло и трусливо. В чем тут секрет?
Сабина радостно и горделиво слушала его покаянную речь. Ведь она всегда утверждала, что Прайт не безнадежен.
А Боб Кастэр, счастливый, одурманенный, разливал вино по стаканам, чокался, кланялся, готовый всем протянуть руку, забыть старые обиды, если надо, помочь.
Вечером неожиданно заявился и Патрик, бывший муж Сабины. Он привез все нужные бумаги: развод утвердили. Патрика перевели уже в лагерь вблизи Нью-Йорка, откуда солдат отправляют непосредственно в Англию.
– Впрочем, – объяснил он тихим, вежливым голосом, – некоторые части дожидаются своей очереди неделями, а то и месяцами.
Он оказался и лучше и хуже чем его себе представлял Боб по рассказам Сабины. Через какую узкую щелочку люди видят друг друга! В сущности они замечают только лично им приятное или неприятное в человеке, а на остальное не обращают внимания. (Сабина несколько раз повторила, что Патрик сильно изменился и что военная форма ему очень к лицу).
Патрик производил впечатление делового, трезвого гражданина, любящего точность, определенность; все непонятное ему он презрительно называл «мглой», для слабых и глупых людей, и отстранял от себя как ненужное и даже враждебное. Интересовался он политическими и социальными новостями: помнил имена известных газетных корреспондентов и что они писали о Гитлере, Сталине и Черчиле.
Присутствие солдата, который, быть может, в ближайшие недели будет штурмовать берега Европы, придавало беседе особую остроту и целесообразность.
Заговорили о степени ответственности немецкого народа. Доктор Спарт доказывал, что виноваты, главным образом, не палачи, грубо казнившие невинных, а немецкая культура в целом.
– Расизм порождение немецкой национальной души, точно так же, как идея социального рая характерна для русского национального гения. Немецкая философия, наука, музыка, подготовляли и родили эту доктрину. В той или иной степени и Гёте, и Лейбниц, и Вагнер, и Гегель, и все другие немецкие герои объединены одним духом, страдают тем же недугом.
Не ограничиваясь голословными утверждениями, Спарт начинал по пунктам разбирать монады Лейбница, бога истории Гегеля, «чистый» разум Канта и всех, что строили с упоением систему вселенной на манер тюрьмы, в которую заключали человека уже связанного по рукам и ногам.
– Борьба должна вестись против немецкой культуры и в первую очередь против немецкого языка, а не против расы или отдельных палачей! – утверждал Спарт.
А когда Патрик, чуждый крайностям и преувеличиваниям, называл имя немца, пожалуй, бесспорно заслуживающего уважение, доктор Спарт возражал:
– Он не характерен для их основной линии… он австрийской культуры… он наполовину славянин…
– Пока в мире будет хоть одно голодное или униженное существо, войны и революции неотвратимы, – говорил в свою очередь Боб Кастэр.
От Патрика ускользала связь между всеми этими отдельными утверждениями. Он ненавидел сумбур. А сумбуром он считал все, чего не понимал. Патрик любил видеть точно: очертания предметов и суть вещей. Он так и говорил: «Я этого не вижу… или: мы видим, что…»
Доктор Спарт наконец возмутился:
– Послушайте, ведь зрение не есть главный критерий действительно существующего. Зрение часто мешает даже, рассеивая, отвлекая внимание. Зрение совсем не основная функция нашей души, почему предоставлять ему господствующее положение? Гегемония зрения в нашей культуре, в науке, в философии, в искусстве привела к катастрофе. Иногда человек слепнет и лишь тогда для него открывается целый мир. Возьмите для примера: глухо-немого от рождения и слепого. Чья душа более беспомощна, уязвлена, ближе к скотскому состоянию подчас? Именно душа глухо-немого. Мир звуков, и главное Слова, важнее. А вы все: «увидим, я не вижу, мы видим».
– Вы все какие-то артисты, философы, творческие люди, – усмехаясь, тихо заметил Патрик. – Чтобы построить дом, нужен один архитектор и много кирпичей. И кирпич должен лежать там, куда его положили, иначе ничего не получится. У нас в конторе какие-то люди бегали, суетились, руководили, составляли планы; а старик, работавший в лифте, проторчал на этом месте сорок лет. И ему в голову не приходило шевелиться, двигаться; то же самое телефонистки, упаковщики. И это самые полезные люди для предприятия. Благодаря им в шахтах добывается уголь, заводы производят полезные вещи, корабли выходят в море и солдаты выигрывают войну. Вот я такой кирпич и только.
– Наш долг быть одновременно и кирпичем и архитектором, соединить в себе их черты, – сказал Боб.
Патрик уклончиво пожал плечами и откланялся. Ему хотелось еще погулять на Таймс Сквере.
А через две недели Кастэр и Сабина обвенчались. Присутствовали все друзья; ждали Патрика: он обещал приехать, если получит отпуск и если еще будет на этом берегу. Но он не явился. После церемонии гуляли за полночь на новой квартире законной четы (Вест 12 улица); Прайт мучительно опьянел и расшиб себе лоб об умывальник; Магда нежно за ним ухаживала.