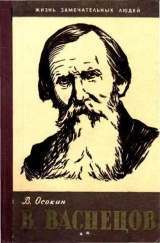
Текст книги "В. Васнецов"
Автор книги: Василий Осокин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 14 страниц)
Врубель, действительно, написал новую богоматерь, которую назвал «Орантой». Как вспоминает Н. А. Прахов, у нее были ощеренные зубы и когти на пальцах.
Подобные случаи повторялись не раз, вызывая у Васнецова досаду за погибшие творения, тревогу за судьбу художника, так легкомысленно уничтожавшего свои вещи.
Врубель в этот период подвергался влиянию новых течений в живописи – модернизму, тогда как Васнецов всегда был последовательным сторонником реализма. И вечера у Прахова иногда проходили в спорах…
Но в личных отношениях с Врубелем Васнецов всегда был в высшей мере деликатен. Его редкостную терпимость ко взглядам и вкусам подлинно талантливых людей подчеркивают все современники.
Васнецов совершил гигантский труд, расписывая Владимирский собор. За десять лет (из которых художник шесть лет прожил почти безвыездно в Киеве) он вместе с несколькими помощниками расписал четыре тысячи квадратных аршин, выполнил пятнадцать огромных композиций и тридцать отдельных фигур, не считая мелких изображений.
Труд этот мог оказаться по плечу только человеку, обладавшему, кроме дарования, еще и колоссальной физической силой. Мужественно преодолевая безмерную усталость и изнурение от головокружительной высоты и стояния на лесах, Васнецов справился со всеми условиями заказа.
Стасов не раз подчеркивал, что ни один художник не овладел в такой степени, как Васнецов, всеми деталями русского костюма, убранства, украшения и вооружения, начиная с древнейшего времени; ни один из них не изучил так тщательно исконный русский быт, все формы древнерусского художественного творчества. В результате этой колоссальной работы в его настенных изображениях Владимирского собора почти вовсе нет погрешностей и ошибок.
Так говорил не только выдающийся критик, но большой знаток предметов русского быта: недаром Репин пользовался его советами, когда создавал «Царевну Софью».
«Можно указать разве только, – замечал Стасов, – на неверности, впрочем, редкие, в изображении глав и куполов древних русских церквей: так, например, модель Вышгородской церкви, в руках у св. Ольги, имеет купол такой формы, которая известна разве только с XIII века; точно так же вершины церкви над образом св. князя Михаила Тверского принадлежат московскому стилю гораздо более позднего периода; наконец, под многими иконами помещен ряд орнаментов из усеченных конусов, кончающихся вверху лилией, который сам по себе высоко изящен, но принадлежит не чисто византийскому, а византийско-сарацинскому стилю.
Вот и все неточности на 4 тысячи квадратных аршин росписи!..»
Васнецовские орнаменты, которые вскоре в большом количестве приобретает Третьяков (он сделает из них целую вертящуюся витрину), отмечены глубоким художественным вкусом. Основной мотив их – рисунок листьев или цветов, иногда чисто декоративное сочетание узоров или то и другое.
Работу эту Васнецов изредка выполнял совместно с Врубелем; Врубелю же принадлежит большое число оригинальных орнаментов. Здесь уже не было тех «неувязок», которые приводили к спорам между художниками. Наоборот, один мастер, редкостный знаток народной резьбы и украшений домовой архитектуры, дополнял удивительную, причудливую фантазию другого: Врубель все выдумывал из головы.
Непосредственными помощниками Виктора Михайловича Васнецова являлись рано умерший высокоталантливый живописец С. П. Костенко и горячий последователь Врубеля – В. Д. Замирайло. Много помогал Васнецову, конечно, и М. В. Нестеров, после которого никогда не приходилось ничего исправлять.
Во всем блеске могущество васнецовской кисти выступает в изображениях Андрея Боголюбского, Довмонта Псковского, Александра Невского. Здесь художник шел от приемов византийского иконописного мастерства, которому свойственна нарочитая плоскостность и декоративизм. Однако изображения эти, или, как их принято называть, «лики» святых, исторически правдоподобны, реалистичны.
Работу над ними можно до известной степени сравнить с созданием Васнецовым «Каменного века».
Н. А. Прахов свидетельствует, что историческим материалом здесь послужили летописи и «Словарь о святых православной церкви», где много говорится о их подвигах благочестия, но наружность описывается крайне схематично: «лицом красен», «волосом рус», «телом дороден» или «в бедрах тонок».
Всем этим героям древней Руси свойственна одна черта – суровая воинская мужественность, готовность победить или «лечь костьми».
Закован в латы суровый, мужественный Андрей Боголюбский. Правая его рука опустилась на меч, князь полон решимости защищать свой город. Внизу изображения – небольшая, но поэтическая картина старинной крепости Владимира, которую не отдаст врагу доблестный князь. Стоит вглядеться в черты его лица и сразу увидишь, что это лицо простого русского крестьянина, – по типу оно несколько напоминает облик васнецовского Ильи Муромца.
В изображении Александра Невского наиболее проявилось портретное мастерство художника. Это другой тип воина. Левой рукой князь опирается на стяг, что означает символ единства Руси. Правая его рука прижата к груди, голова опущена на грудь. На лице глубокая и горестная дума о разоренных русских селениях, о крови невинно убиенных врагом. Это одухотворенный образ древнерусского витязя, в котором воедино сочетаются герой и патриот. Поэзией веет от этого образа.
Княгиня Ольга, известная по летописи как храбрая женщина-воин, жестоко отомстившая древлянам за убийство мужа, изображена с крепко зажатым в кулаке крестом. Ее пылающий ненавистью взгляд, в котором художник сосредоточивает весь психологический эффект произведения, не имеет ничего общего с традиционным каноническим изображением благочестивой святой.
Особняком стоит изображение Михаила Тверского. Оно преисполнено лиризма и по построению чем-то напоминает «Аленушку». Михаил Тверской охвачен печалью, как бы предчувствием скорой неизбежной гибели. Его юношеское лицо скорбно, но это не отчаяние, а лишь покорность року: Михаил Тверской был замучен татарами.
Близок к нему облик «великомученика» князя Бориса. Поэтическая картинка цветущей русской степи, являясь фоном, усиливает лирическое настроение, печаль зрителя.
С этим фоном внутренне сочетается декоративное обрамление сидящего в келье «Нестора-летописца»: светлый Днепр, холмы златоглавого Киева. Сам Нестор-летописец, мудрый, погруженный в созерцание старец, напоминает пушкинского Пимена.
Изображения канонизированных [13]13
Канонизированный,то есть причисленный церковью к «лику святых».
[Закрыть]исторических лиц наиболее удались художнику. Менее удались ему композиции из так называемой священной истории. Он мог заимствовать их только у других художников, а здесь уже терялась самобытность.
И это понятно. При всей связи творчества Васнецова с фольклором художник всегда по манере исполнения оставался реалистом и писал только то, что мог конкретно себе представить.
Поэтому привлекают только те изображения, которые являются как бы портретами знакомых художнику лиц. Любопытные сведения по этому поводу оставил Н. А. Прахов. Оказывается, в чертах пророка Моисея угадывается лицо живописца С. И. Светославского, в Иоанне Златоусте – профессора-психиатра И. А. Сикорского, в Ефросинье Полоцкой – М. А. Гудим-Левкович.
Из евангелических сюжетов только одно изображение богоматери достигло подлинно васнецовской силы. Много написано об этом произведении, но никто так просто и задушевно не сказал о нем, как известный в свое время очеркист В. Л. Дедлов:
«На изображении васнецовской богоматери в Киевском соборе я увидел… зеленоватое холодное зимнее небо… задымленный пурпур зари… звезды, словно искрящиеся льдинки. Нет сомнения, это русский вечер. На облаке стоит женщина в платке, плотно закрывающем волосы и часть лба, и в темной развевающейся одежде. Лицо женщины мне знакомо, – правильное русское лицо с большими темными глазами… Да, это русский женский образ в русском небе».
Несмотря на то, что в октябре 1885 года Васнецов строго писал Третьякову, что всякое помышление о своих картинах придется оставить на три года, еще до окончания этого срока он вновь пишет ему:
«Нынешней осенью я почувствовал такую усталость и духа и тела, что принужден был перед праздником прекратить работу. Признаться – меня очень потянуло к старой работе…»
Упомянутая в письме к Третьякову старая работа – это, конечно, картины, рисунки, но прежде всего «богатыри». И он принялся за них, за это любимое детище, специально выписанное из Москвы. В Киеве в 1889 году он, кроме того, начал и закончил, работая урывками, полотно «Иван-царевич на сером волке». Мечтал он выставить на очередную передвижную выставку что-либо еще из новых работ, да ничего не успел закончить.
«Иван-царевич на сером волке», по мнению Стасова, вещь малоудачная. Критик находил, что серый волк похож на набитую шкуру в магазине меховщика, на чучело.
В данном случае со Стасовым хочется поспорить. На чучело волк вовсе не походит. Следует заметить, что к Васнецову в мастерскую водили натурального волка, с которого он делал зарисовки. Но ему хотелось показать сказочного волка-великана.
Прекрасно передал Васнецов могучий и дикий, зачарованный северный лес, воспоминания о котором бережно хранил со времен детства.
Художник И. С. Остроухое заметил, как выиграло, ожило все полотно после того, как Васнецов в правую его часть, в зловещий сумрак леса, вписал изображение дикой яблоньки с ее бледно-розовыми цветами [14]14
Это письмо Остроухова к Третьякову хранится в архиве Третьяковской галереи.
[Закрыть]. Сделал он это уже после того, как Остроухов видел его картину в мастерской, в Киеве, куда, как и многие, приезжал посмотреть на роспись.
Вместе с Остроуховым долго любовались картиной К. А. Савицкий, Н. Д. Кузнецов, В. Д. Поленов. Полотно понравилось даже Н. А. Ярошенко, подчеркивает Остроухов, намекая, видимо, на особую требовательность этого художника.
В период росписей Васнецов начал и рисунки к «Песне о купце Калашникове» М. Ю. Лермонтова, которую он считал самым высоким произведением русской литературы на историческую тему. Работал он над ними, так же как и над «Иваном-царевичем на сером волке», чтобы хоть на время отвлечься от утомительной росписи собора. Но в этих произведениях сказался крайний перерасход сил, утомление художника. И рисунки получились слабые. Все же они интересны как подход к изображению Ивана Грозного, личность которого очень привлекала художника.
Лев Николаевич Толстой, узнав, что Третьяков приобрел образцы васнецовских киевских орнаментов, написал ему возмущенное письмо. Ни в грош не ставя васнецовскую роспись, считая ее аляповатой, безвкусной, Толстой заявлял, что вместо этих работ Третьяков должен приобрести картину художника H. Н. Ге «Что есть истина?» на евангельский сюжет. Третьяков ответил ему, что произведения Васнецова он любит, что картина Ге ему не нравится, и этим дал понять, что мнения своего не переменит.
Подавляющее большинство художников и критиков того времени считали роспись Васнецова во Владимирском соборе величайшим творением [15]15
Например, помимо Стасова, Третьякова, Репина, очень высокую оценку росписи дал писатель Д. Н. Мамнн-Сибиряк, видевший неразрывную связь ее с будущими работами Васнецова, и писатель А. И. Куприн (рассказ «Погибшая сила»), который в образе художника Савинова изобразил Васнецова.
[Закрыть]. Гораздо меньшее число людей, подобно Толстому, отрицали художественную ценность этого произведения.
История показала, что и те и другие оказались не правы в категоричности своих суждений.
Только время – этот лучший критерий искусства – справедливо оценивает произведения. И оно по достоинству оценило роспись Владимирского собора.
До сих пор киевские фрески Васнецова – особенно изображения исторических деятелей – поражают монументальным мастерством художника. Он прекрасно использовал все громадное пространство, которое следовало расписать, несмотря на чрезвычайные технические сложности (всевозможные проемы, простенки, ниши и т. п.). В этом отношении его опыт может служить образцом для последующих поколений монументалистов.
Высоко оценивается и декоративная сторона росписей, в частности орнамент.
Однако Васнецов ошибся в том, что настоящее призвание русского художника – труд для церкви, как он писал об этом не раз Поленову и другим. Художник в тот момент не чувствовал поступи времени. Искусство церковной росписи не нашло массового зрителя, о котором мечтал художник, оно не могло стать в силу исторической закономерности и не стало народным.
Реакционным, консервативным по сути было само устремление Васнецова «воскресить» и «оживить» средневековую религиозную живопись, давно уже обветшавшую и окончательно изжившую себя.
«Государь всея Руси»
Большое облегчение испытывал Виктор Михайлович, когда вернулся домой после изнурительного труда в Киеве.
с
Он решил построить дом-мастерскую – уж очень надоело скитаться по чужим углам.
Выбрал один из тихих, недавно возникших переулков в Мещанской части. Переулок так и назывался Новопроектированным. Уединенная гористая местность, обилие садов, старинная церквушка неподалеку – ему нравился этот уголок Москвы вблизи древней дороги к Троице-Сергиевской лавре, к Хотькову и Абрамцеву.
Дом он построил по своему вкусу – в виде терема.
Вновь принялся за «Богатырей». Все казалось, что нужно сделать еще что-то, положить еще несколько мазков, которые сильнее оживят это гигантское полотно; отдавать его на выставку не спешил.
По старой привычке поехал в близкий его сердцу уголок Подмосковья – Абрамцево. Но испытал горькое разочарование.
Уже не царила здесь та дружная художественная атмосфера, которая так вдохновляла его там лет пятнадцать тому назад. Уже не слышались споры об искусстве – да и кто бы стал спорить: художники наезжали сюда все больше поодиночке. И главное, что с грустью отметил про себя Виктор Михайлович, притихший, словно по-осеннему поредевший абрамцевский парк уже не оживлялся человеческим смехом.
Изменился и сам Мамонтов. Васнецов заметил в нем какое-то беспокойство, суетливость. Его все более тесным кольцом окружали какие-то непричастные к искусству, незнакомые художнику люди. Вокруг ползли неясные слухи о крупных спекуляциях Мамонтова.
И хотя Виктор Михайлович не раз после окончательного возвращения из Киева заезжал в Абрамцево и даже одно время по настоятельной просьбе хозяев пытался там пожить, творческой радости оно ему уже почти не доставляло. Видимо, то же самое, впрочем, может быть, не так остро испытывали и другие художники – члены мамонтовского кружка.
В Абрамцеве Васнецов сблизился с Федором Ивановичем Шаляпиным, имя которого тогда уже гремело по России. Как верно заметил Горький, С. И. Мамонтов очень многое сделал для Шаляпина. В свое время, почувствовав выдающееся дарование певца, когда тот еще был артистом провинциальной сцены, Мамонтов пригласил его в свою «Частную оперу», создал ему условия для творческого роста.
Васнецова влекла мощная артистическая натура Шаляпина, его броская талантливость, которая проявлялась не только во внешности – высокий рост, прекрасное сложение, лицо с крупными и простыми красивыми чертами, – но и редкостный дар перевоплощения. Врожденной интуицией Шаляпин чувствовал любой музыкальный и оперный образ, и в его исполнении он приобретал глубочайшую, неслыханную до того выразительность.
Но Васнецова Шаляпин привлекал не только как великий артист, не только как интересный, обаятельный человек. Как один художник инстинктивно тянется к другому в силу какого-то, в большинстве случаев неосознанного, духовного, творческого родства, так и Васнецов тянулся к Шаляпину, потому что видел в нем исконно русскую, могучую, по-волжски раздольную натуру.
Сблизила их вдохновенная работа над одним и тем же художественным образом – образом Ивана Грозного.
Еще в Киеве Васнецов задумал картину-портрет этого прославленного «Государя всея Руси» – колоритной исторической фигуры. Рисунки к «Песне о купце Калашникове» были лишь подступами к теме, пробой сил. Когда же в сознании художника образ Грозного принял осязаемые черты, он приступил к его воплощению.
Эта работа над созданием образа, который как бы продолжал галерею исторических деятелей, данную художником в Киевском соборе, была начата в Киеве и завершалась уже в Москве и Абрамцеве.
Об истории создания художником «Ивана Грозного» рассказывает его сын Михаил Викторович в небольшой книжке об отце, изданной в 1948 году в Праге.
«Васнецовым были сделаны 2 эскиза, – пишет он, – «Иван Грозный беседует с колдунами» и «Грозный смотрит на комету, предвещающую его смерть». Картины эти не осуществлены, Васнецов написал только голову Грозного, которая отчасти послужила для грима нашему великому певцу Федору Ивановичу Шаляпину, когда он в начале своей карьеры выступал в роли Грозного в опере «Псковитянка». Но Шаляпин изобразил царя несколько согбенным, как бы болезненным. Васнецов же хотел показать, что это был сильный и мощный властелин. И вот появилась картина «Царь Иван Васильевич Грозный». Лицо его полно глубокого содержания. Вспоминаются слова Пимена из «Бориса Годунова» Пушкина:
«А мы в слезах молились, да ниспошлет господь любовь и мир его душе страдающей и бурной».
Когда картина была еще только в угле, художник, показывая на холст одному из посетителей мастерской, произнес слова Грозного перед домом киевского воеводы: «Войти иль нет?» Художник от лица Грозного как бы спрашивал: «Явиться ли ему на холсте картины, изобразит ли она истинный лик царя Ивана?»
Шаляпин, создавая образ Грозного, действительно, как об этом вспоминает сын Васнецова, вначале представил царя «несколько согбенным, как бы болезненным». Потом он усилил в нем черты мужественности, властности, деспотизма и приблизился к наиболее правдивому толкованию образа.
Оказывается, Васнецов, побывав на «Псковитянке» (она шла в Москве, на сцене «Частной оперы» Мамонтова) и еще не зная, что Шаляпин вначале воплощал его же эскизный набросок, а потом развил его, бесконечно восторгался Шаляпиным-Грозным. Когда он завершил свою картину, то пригласил артиста к себе в мастерскую, чтобы показать произведение и выразить восхищение образом, созданным Шаляпиным.
«Я ему ответил, – вспоминает Шаляпин, – что не могу принять хвалу целиком, так как в некоторой степени образ этот заимствован мною от него самого. Действительно, в доме одного знакомого я видел сильно меня взволновавший портрет-эскиз царя Ивана с черными глазами, строго глядящими на сторону, работы Васнецова. И несказанно я был польщен тем, что мой театральный Грозный вдохновил Васнецова на нового Грозного, которого он написал сходящим с лестницы в рукавичках и с посохом. Комплимент такого авторитетного ценителя, как Васнецов, был мне очень дорог».
Вот он, «Великий Государь всея Руси». Насколько величествен он, настолько же и мрачен. Не спеша, осторожно спускается он по высоким, узким ступенькам каменной лестницы. Крепко сжимает инкрустированную драгоценностями рукоять посоха, и острие его слегка вонзается в ковровую дорожку.
Грозный чем-то раздражен. Искривлены его тонкие губы. В темных глазах уже поблескивают огоньки гнева. Горе тому, кто встретится с ним в этот неурочный час, когда он пожелал быть наедине с самим собой. И вместе с тем этот гневный, грозный человек – какого он большого ума, какой он «книжной мудрости ритор»! Глаза его – как они проницательны, как много говорят о напряженности, горячности мысли и об остроте и глубине ума!..
Вся его фигура почти неподвижна; ее вертикальные удлиненные линии резко контрастируют с низко нависающими сводами и еще более усиливают впечатление грузной монументальности. Одежда тщательно выписана. Ферязь сшита из парчи травяного узора. Она наглухо застегнута длинными петлицами да серебряными пуговками, блистающими самоцветами. Ноги обуты в чоботы; в точнейшем соответствии с описаниями знаменитого историка Ивана Ивановича Забелина, эти чоботы «низаны жемчугом, травы по бархату по червчатому». Руки же в узорчатых расшитых рукавицах; в правой руке четки, на отделанной бархатом шапке образки, – значит, был в церкви.
Это властный государь, который, пристукнув посохом, твердо сказал: «Повыведу измену с каменной Москвы!» Это государь всея Руси, о котором дьяк Иван Тимофеев писал:
«Муж чудного рассуждения, в науке книжного поучения доволен и многоречив, зело к ополчению дерзостен и за свое отечество стоятелен… На пролитие крови неутолим, множество народа, от мала и до велика, при царстве своем погубил, многие города свои попленил и много иного содеял над рабами своими; но тот же царь много доброго совершил».
Васнецов и изобразил его таким, каким он запечатлелся в памяти народной. Могучий и суровый, как гроза, он страшен внешнему и внутреннему врагу.
Как тесно связан, как неразрывно сросся в представлении народа великий строитель государства Иван Грозный с Москвой и как оригинально-тонко дана эта связь!.. Только кусочек Москвы XVI века виднеется в узкое стрельчатое окошко храма. Засыпанный снегом город с его двухскатными крышами тихо дремлет у ног Грозного.
– Я частенько ходил по темным извилистым переходам храма Василия Блаженного, когда писал Грозного, – рассказывал Васнецов. – Настроение, создаваемое этими сохранившими старину переходами, помогало мне ощутительнее представлять себе фигуру Ивана, чувствовать его поступь, видеть его «орлиный», зоркий взгляд, предвидящий славу и величие родной земли.








