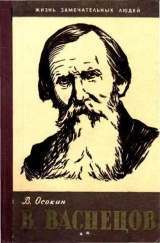
Текст книги "В. Васнецов"
Автор книги: Василий Осокин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 14 страниц)
В. Осокин
В. ВАСНЕЦОВ
ПРЕДИСЛОВИЕ
Историю отечественной живописи невозможно представить себе без героически монументального полотна В. Васнецова «Богатыри» и его лирически трогательной «Аленушки». С детства любим мы и чудесные, полные таинственного очарования, бесконечно глубокой поэзии русских лесов сказочные полотна Васнецова.
Но только какое-нибудь особое обстоятельство в жизни заставляет нас почувствовать всю удивительную силу обаяния того или иного художника, писателя, композитора.
Так случилось со мной, когда мне привелось иллюстрировать русские народные сказки и былины. Внимательно изучая их, постигая строка за строкой прелесть их звучания, я вместе с тем поражался мудрому гению Васнецова, который только теперь, при размышлении о тайнах красоты нашего эпоса, открылся передо мной во всем блеске.
Героику былины Васнецов непревзойденно воплотил в своих «Богатырях», в «Битве славян с кочевниками», ее задушевность – в картинах «После побоища», «Витязь на распутье», поэзию сказки – в «Аленушке» и «Ковре-самолете». Однако резкое расчленение это было бы схематично: во всех картинах налицо удивительный синтез самых разнообразных чувств и свойств характера русских людей.
Диву даешься: как все это удалось Виктору Васнецову? Задав себе этот вопрос, я обратился к литературе, посвященной художнику, и убедился, что она, к сожалению, весьма малочисленна, в основном имеет искусствоведческий характер и почти не касается биографии художника.
А между тем хотелось, чтобы книги о художниках были не трактатами для немногих, а очерками и повестями, доступными неискушенным читателям (что, конечно, не исключает яркой искусствоведческой книги). Трудно переоценить значение хорошей книги подобного рода, особенно для молодежи. Если, например, эта книга – о художнике, то после ее прочтения картины его становятся гораздо доходчивей и ближе, потому что сам образ мастера, как человека и творца, раскрыт и показан наглядно и убедительно. Впрочем, об этом в скупых и сильных словах сказал A. М. Горький, основоположник серии «Жизнь замечательных людей», писатель, так любивший и ценивший Васнецова:
«Я сильнее любил бы наше небо, если бы звезды были ярче, крупнее и ближе к нам. И они стали прекраснее с тех пор, как астрономы рассказали нам о них».
Мне отчасти понятна причина отсутствия интересной книги о В. Васнецове. Художник прожил долго, но был человеком замкнутым, скромным, не любил говорить о себе, не жаловал тех искусствоведов, которые пытались выпытать у него сокровенные слова о своих переживаниях. Он не оставил никаких литературных высказываний, подчеркивая, что он живописец, а не литератор, и что вся его жизнь – в его картинах. Поэтому перед его биографом стояла довольно трудная задача: воссоздать облик художника по отрывочным документам, по беседам с людьми, знавшими его, по знакомству с местами, связанными с его жизнью, а главное – путем художественного домысла, основанного на тщательном изучении творчества Таким путем и пошел автор этой книги – B. Н. Осокин, написавший художественную биографию Васнецова.
П. СОКОЛОВ-СКАЛЯ, действительный член Академии художеств СССР народный художник РСФСР.
Вятские края
Вспоминая свое раннее детство, человек видит его обычно как ряд сменяющихся картин. Запоминаются только поразившие нас чем-то события, предметы, краски. Остальное расплывается, оно неуловимо.
Первое, что художник Виктор Михайлович Васнецов запомнил на всю жизнь, был таинственный, трепетно разлитый по комнате синеватый полумрак зимних сумерек.
…Витя особенно любил зиму. Когда завоют холодные ветры, поле покроется махровой снежной пеленой, хорошо у теплой печки смотреть сквозь растопленный дыханием кружок оконного стекла на зачарованный в сказке сна лес-богатырь… Или, найдя старый журнал отца, разглядывать на картинке Деда Мороза, огромного, в красных варежках старика с белой бородой, как у сидящего сейчас под образами прохожего. Отец не спрашивал, был ли путник раскольником или беглым каторжником, и давал приют всем уставшим, продрогшим и голодным.
К вечеру, несмотря на непогодь, обогревшийся странник ушел. Из своего глазка в окошке Витя видел, как постепенно скрывалась в снежной замяти большая, нескладная, с остроконечным башлыком фигура – и вот она исчезла, совсем растаяла в темноте.
На мгновенье мальчик взгрустнул: ведь неведомый странник навсегда унес с собой нерассказанные сказки.
Но непродолжительна детская грусть. И скоро Витя уже в «работной» избе сидит на коленях старухи стряпухи. Потрескивает лучина, горьковатый дымок тянется по каморке; течет и течет мерный, окающий речитатив:
Из того ли-то из города из Мурома,
Из того села да с Карачарова
Выезжал удаленький дородный добрый молодец…
Долог зимний вечер, и долга старинушка-былинушка. Слушает мальчик – и хоть не в первый раз, а рад слушать без конца. Иной, неведомый, ни на что не похожий мир медленно развертывается перед ним. Видит он богатырского коня Ильи Муромца: конь перемахивает с холма на холм, через леса, реки и озера. Видит, как летит каленая стрела Ильи в страшного Соловья-разбойника и как, пристегнув ослепленного, окровавленного врага ко стремени, не спеша выезжает Илья в чисто поле.
Витя знает это чисто поле. Ведь оно совсем рядом. Если сейчас встать, подойти к окошку, подышать на заветный глазок, то под серебристым сиянием месяца увидишь те далекие холмы – полузасыпанные снегом елки нестройными рядами, то выше, то ниже, словно бегут к темному, таинственному еловому лесу.
Бесхитростные пропевы простой вятской женщины… Они заронили в душу Васнецова первые образы, пока еще смутные и полные волшебного очарования. Через много лет эти образы вырастут в великие создания его кисти.
Другие впечатления, не менее сильные, получил будущий живописец от своей бабушки (матери отца) Ольги Александровны.
В молодости она увлекалась живописью. Еще и теперь у нее хранился сундучок с красками – старый, потемневший от времени, в трещинах и царапинах. У Вити дух захватывало от счастья, когда бабушка открывала крышку и доставала краски.
Под тонкой кистью из прихотливых красочных пятен и линий получались изображения цветов.
– Василек! – вскрикивал мальчик взволнованно, когда лазурной, как чистое майское небо, краской кисть выводила очертания знакомого полевого цветка на длинной тонкой зеленой и, чувствовалось, жесткой ножке.
– А это роза! – И он впивался глазами в листок бумаги, где алые брызги обводились изумрудом и превращались в нераскрытые еще бутоны.
– А теперь нарисуй золотой шар!
И бабушка покорно выдавливала из тюбика сморщенными, но крепкими пальцами светлую струйку, похожую на частичку солнца.
Он так жадно всматривался в каждую новую картинку, что скоро утомлялся. Чуть кружилась голова. Краски, сливаясь в пестрый хоровод, словно пели – каждая своим голосом.
Сильнее всех пела алая краска. Она казалась девицей в маковом платке, песнь ее звучно и широко лилась по полю.
Голубая краска – это, наверное, пел ручеек – звучала нежно, как самый маленький колокольчик. Желтая пела глухо, как бубенчик на тройке. И все голоса сливались в одну убаюкивающую песню.
…Месяц обливает серебром заснувшее Рябово и на конце села белую большую церковь да стоящий рядом деревянный дом Васнецовых с мезонином. Дом тускло глядит на улицу своими пятью окошками. Все спят. Лишь редко-редко пролает собака да где-то в отдаленье прозвенит дорожный колокольчик. Это несется почтовая тройка. За дремучими вятскими лесами лежит Сибирь. Туда, как и в дальние углы Вятской губернии, царское правительство ссылает «неблагонадежных» – и кто знает, что везет вот эта промелькнувшая в ночи тройка: почту ли в далекую Сибирь, или закованного «политического» с жандармами по сторонам.
Во всей деревне слабо освещено только одно боковое окно васнецовского дома. В узенькой комнате у свечи сидит высокий худощавый человек с русой бородой и читает газету. Сидит он, как всегда, прямо, не сгорбившись.
– Ты бы лег, отец, – раздается шепот из темного угла.
– А ты, мать, чего не спишь, – так же тихо слышится в ответ.
И снова тишина.
Михаил Васильевич знает и так, отчего не спит жена. И потому в его тоне нет вопроса. Между ними давно полное понимание. Еще утром приходили нищие из скудной хлебом Ярковской волости: старик и молодая женщина с двумя детьми. Михаил Васильевич видел, как жена достала с полки два больших каравая, а из стола – заранее приготовленную мелочь… Видно, и сейчас чужие и свои заботы не дают ей заснуть.
…Священник Михаил Васильевич Васнецов переселился в Рябово из села Лапьял, той же Вятской губернии, вскоре после того, как 15 мая 1848 года у него родился второй сын, Виктор. Васнецов выхлопотал перевод, чтобы жить поближе к Вятке, большому губернскому городу, и к отцу, служившему тоже священником в селе Березники, в шестнадцати верстах от Рябова. Была и еще основательная причина переезда. Лапьял – сельцо бедное, приход нищенский, и земельный надел совсем ничтожный; растущую семью отец Михаил там вряд ли прокормил бы.
Все Рябово уважало и любило Васнецовых, потому что отец Михаил, не в пример другим священникам, несмотря на свою ученость, держался с крестьянами просто, на равной ноге, в рот не брал хмельного и в свободное время охотно учил деревенских ребятишек грамоте.
Его жена, Аполлинария Ивановна (в девичестве Кибардина), происходила, так же как и муж, из старинного, коренного рода вятичей – Васнецовых и Кибардиных до сих пор много в Кировской области. Тихая, немногословная женщина, она, при полном согласии мужа, всегда старалась чем-нибудь помочь беднякам, и, может быть, от постоянно виденного ею людского горя в глазах ее навсегда застыла грусть.
…Михаил Васильевич перевернул последний лист газеты. Стараясь не шуметь, аккуратно сложил ее в ящичек собственной работы. Поглядел на спящих рядом детей, поправил сползшее одеяло и задул свечу.
В окнах уже чуть брезжил мутный серый рассвет.
…Весной в доме выставлялись рамы, со стуком распахивались деревянные ставни, наглухо, натемно закрывавшие некоторые окна на зиму. В комнаты врывался шум ручьев и особый, ни с чем не сравнимый аромат наступающей весны. Витя хватал шапку и бежал на улицу. Деревенские ребятишки в лаптях, мамкиных платках и больших тятькиных картузах, иные с краюхой в руке, уже пускали щепки-кораблики по стремительно несущимся водам речек Кирдяги и Рябовки. Из леса, перекрывая шум ручьев, явственно доносился стук дятла, будто юркая красноперая птичка сидела на суку ближнего дерева.
Витя убегал с ребятами за деревенскую околицу. Там темнели овраги, утопавшие в ельниках, пестрели пашни, кое-где белели колокольни, сверкали на солнце кресты, дали терялись в голубоватой дымке.
Все сильней припекало солнце. Раскидистое дерево у васнецовского дома покрывалось светло-зеленым пухом, и Витя часами любовался на веселую возню птиц в его ветвях.
А как хорошо в Рябове летом! Убежишь на целый день в дремучий лес, где растут ели и пихты обхвата в два. В зной лес стоит, не шелохнется, а войдешь в него, и тотчас обдаст прохладой. Мягкие, огромные V подушки мха, высоченный папоротник с затейливорезными листьями, замшелые ели, давно поваленные буреломом… Здесь кишмя кишели гигантские муравьи, никем никогда не тревожимые, звонко зудели комары, привольно спали мухоморы в красных бородавчатых колпаках, таких же, как у красноносых петрушек на рябовских ярмарках.
Отец изредка гулял с детьми по этому заповедному лесу. Куропатки выпархивали прямо из-под ног. Порой на тропинку выбегал заяц; он изумленно глядел на людей круглыми красными глазками и скачками бросался в чащу. Зеленое царство нетронутого леса весело и непрерывно оглашалось множеством звуков: пересвистом, цоканьем, уханьем.
Михаил Васильевич рассказывал чудесные истории про животных, птиц, насекомых, про каждую, как думалось детям, травинку.
Теплыми летними ночами, когда все небо густо усыпано звездами, отец говорил о диковинных созвездиях, о Млечном Пути, и детям казалось – нет ничего, что бы не знал или не мог объяснить отец.
Вместе с деревенскими мальчиками Витя дотемна играл, бывало, в бабки и городки. Когда же подрос, пас с ними коней, выезжал в ночное и затаив дыхание слушал в темноте «страшные» россказни о нечистой силе, а его богатое воображение рисовало между тем причудливые образы.
…Осень. В прозрачном воздухе отчетливо видны избы ближних сел, даже обрывки людского говора долетают оттуда. Убран урожай. Земля украсилась золотистой и малиново-красной листвой, и какое удовольствие ходить по этим мягко шуршащим коврам!
В престольный праздник наезжали в Рябово торговцы. Возле церкви наскоро разбивали палатки. Братьев Васнецовых с трудом уводили домой; целые дни глазели они на раскрашенные пряники в виде петушков и рыб, свернувшихся в колечко, комичных генералов в неправдоподобно больших треуголках и на конях с выгнутыми по-лебединому шеями.
Вятская земля – прославленный край талантливых русских кустарей, народных умельцев, и особенно по деревянному делу.
К зиме в избитых лаптях да с топором за поясом возвращались в семьи корабельные мастера. Нет на свете корабельного плотника лучше вятского! Где только не побывает он и чего только не порасскажет: и про огромный царственный батюшку Питер с дворцами и мостами, которому Вятка и в подметки не годится, и про портовый город Одессу, откуда открыты водные пути во все страны света, и про дальние заморские страны, где побывал, не робея, и он, простой русский мужик.
Родня и соседи, что пришли послушать односельчанина, только охают и ахают.
– Много, наверно, денег принес, – не то с завистью, не то с ехидцей промолвит сосед.
Почешет мужик затылок, что-то проворчит про дальнюю дорогу да про безбожных сидельцев и, порывшись в посконных штанах, высыплет на щербатый стол небольшую пригоршню монет. Но семья и этим довольна, а главное тем, что родной кормилец и поилец вернулся невредимым.
Наслушавшись вдоволь, Витя прибегал домой. И опять, как в те вечера, когда старушка стряпуха пела свои старины про Илью Муромца, перед ним смутно проносились образы далеких, неведомых стран. Они сливались с виденными в отцовских книжках и журналах картинками. По пескам шли усталые караваны, мерно покачивались горбы верблюдов. Вдали, раскинув причудливые листья, стояли пальмы, странными, невидящими глазами глядел сфинкс.
Или смутно рисовался ему помянутый сегодня плотником голландский город Роттердам – островерхие крыши и лес мачт стоящих на рейде судов всех стран.
Он брал карандаш и пытался нарисовать корабли, построенные его земляками. Легко нарисовать море: взял синий карандаш и закрашивай сплошь нижнюю часть бумаги. А вот корабль никак не получался. Выходило что-то похожее на неуклюжую лодку, какую пускали по Кирдяге в весеннее половодье.
На помощь являлся отец, сам довольно способный художник. Он пририсовывал надутые ветром паруса, а на палубе – капитана и матросов, и корабль оживал.
Отец рассказывал старые предания про то, как в дальние времена свободолюбивые новгородцы на легких, быстролетных стругах-ушкуях проникали через Волгу на реки Каму и Вятку и селились навеки в привольных вятских лесах. Приходилось часто отбиваться от врагов. Это закалило жителей, сделало их бесстрашными людьми. А древние, обросшие мхом и травой рвы и курганы-насыпи, находки старого заржавевшего оружия и городищ породили легенды и предания: о богатых кладах, о заговоренных камнях.
– Этого ты уж в книгах не вычитаешь, об этом могут рассказать только старики, – замечал отец.
Да, Витя знал и про огромный камень Чимбулат, что угрюмо стоит над рекой Немдой. Говорят, ему поклонялись жившие здесь черемисы. Если в солнечный день подняться по уступам на этот камень и глянуть вниз, – засверкают изумруды дрожащих от ветерка листьев на деревьях исполинских лесов; но к ним, к этим лесам, никогда не перебраться через пропасть. Навсегда останутся они только дивной сказкой-картиной.
А еще есть курган Чертово городище. На нем лежат засыпанные землей железные двери, запертые огромным замком. Ключи от него закинуты на дно озера. Вот бы достать их и открыть двери! Тогда увидишь несметные сокровища, клад богатыря Онохи и его двенадцати братьев, насыпавших Чертово городище. Да и озеро образовалось на том самом месте, где рыли они землю для городища. А вон на том кургане «Коврига» раскидывал свою палатку и давал знатный пир Грозный-царь, когда шел на Казань.
Витя мечтал побывать и в недалеких, беспросветно-дремучих кайских лесах, про которые говорили: «Кай – всему свету край». Через эти леса можно пробраться только на волокуше – телеге без колес – или лодке на санях, которую тащила лошадь; а на колесах нельзя – провалишься в трясину. Зато как хорошо было бы добраться до Кая – ведь в этот город приходил со своей дружиной сам Ермак Тимофеевич и отсюда начал поход в Сибирь.
Витя думал о рассказах отца, о вятской старине, о Ермаке, но, когда пытался нарисовать все это, – опять ничего не получалось. Слишком неясны, расплывчаты были его представления.
Зато он рисовал теперь не только простые кораблики и лодки, но, сначала с помощью отца, и затейливые струги новгородцев – с головой морского чудища на корме для устрашения врагов. Пожалуй, раскрашивать он любил не меньше, чем рисовать. Он так преуспел в этом деле, что даже неплохой рисовальщик отец не мог вскоре угнаться за его фантазией.
Но вот прошла еще одна студеная зима, вновь повеяло весной, зажурчали по пригоркам ручьи, лес стряхнул снежную шубу, и десятилетнего мальчика повезли в телеге по влажной еще земле в Вятку. Отец уже давно решил готовить из него священника – кого же другого? Ведь в роду Васнецовых эта профессия была наследственной.
В Вятке находилось духовное училище и семинария, и там уже учился старший сын Николай.
В семинарии
Духовное училище и семинария размещались в трехэтажном каменном здании, окрашенном некогда в желтый цвет, но теперь облупившемся, обшарпанном. Сразу было видно, что это не частный, не жилой, а казенный дом.
Николай жил на так называемой вольной квартире, и брат поселился у него. И хотя это была плохонькая комнатка, но житье в ней (как в этом скоро убедился Виктор) оказалось несравнимо удобней, чем в бесплатных, казенных «квартирах» – затхлых, сырых каморах.
Начались занятия.
Из окна класса Васнецову видна была средняя часть собора. Под самой крышей золотом сверкала надпись: «Блюдите да не презрите единого от малых сих». Впоследствии, чтобы как-нибудь отвлечься от надоедавшего до одури гнусавого бормотанья батюшки, Виктор часто читал эту надпись и думал, что слова евангельского изречения ни к чему, как видно, не обязывали тех, которые блюли «малых сих».
Однообразно, в долбежке священных текстов, прошли два года пребывания в училище. После окончания его он поступил в семинарию, и скука здесь превзошла училищную муштру.
Учитель русского языка, он же регент архиерейских певчих, был горький пьяница. Говорили, что вятский архиерей Елпидифор назначил его учителем только потому, что не имел другого регента и учительством хотел отвлечь его от усиленного поклонения Бахусу.
Из благих намерений пастыря ничего не вышло: вечно пьяный учитель нес околесицу, а по временам, отрезвев на минуту, сам с удивлением прислушивался к тому, что говорил. Впрочем, он скоро начинал клевать над кафедрой сизым носом и засыпал. Ни топот, ни свист, ни выкрики, ни бумажные стрелы, пущенные в него, не могли вырвать старого пьяницу из объятий сна.
Не трезвее его, пожалуй, был и Мышкин, преподававший математику. Воспитанники выходили из семинарии с весьма смутным понятием об этом предмете.
Медицину преподавал, за отсутствием другого «специалиста», городской акушер. Говоря о каком бы то ни было заболевании, даже о незначительном, вроде нарыва, он подробно его описывал и… вдруг всё сводил к неизбежности смерти.
Новички приходили в ужас от этих слов – почти все они от худосочия, грязи и сырости страдали нарывами. Потом они просто смеялись над акушером, поняв, что это всего-навсего излюбленный и, по его мнению, необычайно остроумный прием поразить воображение.
Смеху все-таки больше всего бывало на уроках ботаники и физики. Эти предметы, как ни странно, вел священник. Иногда он заставлял приносить на урок разные травы и цветы.
С гиканьем и свистом семинаристы кучами рассыпались по роще. Через полчаса на кафедре вырастали груды выдранных прямо с корнями и землей сорняков – крапивы, репейника, лебеды и куриной слепоты.
Каждое растение учитель почему-то пробовал на вкус и, скривив гримасу, плевал и ругался.
– Крапива, лопух… Зачем вы понанесли эту гадость?
Кто-нибудь из семинаристов вставал и говорил:
– А мы думали, что вы и о лопухе и о крапиве нам расскажете.
– Ан нет, дурни. Вот, выкусите-ка, – заключал батюшка, показывал здоровенный шиш и, все более и более раздражаясь, бухал под конец кулаком по столу.
То, что он называл семинаристов дураками, было для них привычным; сам соборный протоиерей, посещавший иногда уроки, иначе как «ослами» и «болванами» их не называл.
Изредка Васнецову приходилось бывать в номерах или, как говорили, в каморах, своих одноклассников. В каждой каморе стояли ржавые железные кровати с грязными подушками и мочальными матрацами, небрежно накрытыми грубыми байковыми одеялами.
В глазах рябило от пятен на когда-то выбеленных, теперь сильно закоптелых и сырых стенах, по которым нет-нет да и проползет мокрица. Пятна были обведены чем-то желтым.
– Это от клопов, – охотно поясняли обитатели камор.
В восемь утра, по звонку, семинаристы шли в столовую и получали ломоть черного хлеба. Через шесть часов обедали. Еще через шесть – ужинали.
К обеду и к ужину все приходили со своими ложками, после еды обтирали их о скатерть или о подкладку сюртука и снова совали в карман.
В столовой, на аналое, всегда лежала замусоленная книга «Четьи-Минеи». Перед едой один из учеников богословского класса обязан был читать житие какого-либо святого.
Всегда выбирали Исаакия, затворника печерского. Житие изобиловало смехотворными приключениями, чтение его всегда вызывало звонкое «ржанье» семинаристов и бесплодные призывы «старших» к тишине. Одно уже предвкушение этого помогало забывать даже голод.
В год поступления Виктора Васнецова в семинарию чтение жития Исаакия было самым излюбленным развлечением семинаристов в Вятке. Другим было пьянство – дикое, бессмысленное и губительное.
Саженях в ста от семинарии находилась ветхая деревянная сторожка. В день Иоанна Богослова семинаристам дозволялось варить пиво. Вместе с пивом пили водку и, желая хоть на краткий миг забыть свою голодную собачью жизнь, а может, в подражание учителям, напивались до бесчувствия – «до положения риз».
Многие пьянствовали и в обычные дни.
При Васнецове умер с перепоя воспитанник Попов, родной брат профессора семинарии. Этот семнадцатилетний юноша выпил вечером целую бутыль рома, а к утру скончался.
С отвращением наблюдая подобные сцены, Васнецов все больше и больше отдалялся от своих товарищей. Однако вскоре произошел эпизод, который заставил его переменить мнение о семинарии и однокурсниках.
Васнецов поступал в училище, уже немного зная грамоту. В Вятке он жадно набросился на чтение. У товарищей имелись кое-какие затасканные книжонки: «Дрожащая скала», «Подвенечное платье», «Битва русских с кабардинцами», «Гуак, или рыцарская любовь». В книжках не всегда указывались авторы, зато были аляповатые картинки. Рассказывалось в них о всяческих ужасах, об убийствах, мертвецах, привидениях, безумной любви.
Вскоре все они были Виктором прочитаны. Тогда он спросил одного из товарищей, нет ли у него еще чего-нибудь. У того оказались «Севастопольские рассказы» Льва Толстого. Васнецов пробежал первые страницы. И они поразили его откровением простоты.
О доблести русских солдат и офицеров рассказывалось просто, задушевно, без той слащавости и неправдоподобной героики, которыми в избытке были сдобрены прежде читанные им книжки о войне.
– Эти рассказы дал мне Александр Александрович Красовский, преподаватель старших курсов семинарии, – сказал товарищ. – Ты его не знаешь? К нему многие ходят книги брать. Что это за человек! Знаком с петербургскими литераторами Чернышевским и Добролюбовым… Да ты сам пойди к нему за книгой.
– Как-то неловко…
– А ты не бойся. Он хотя и строгий на вид, но добрый.
Разговор этот удивил Виктора: ведь он считал своих одноклассников людьми ограниченными, неинтересными, а оказывается, некоторые из них читали серьезные книги, встречались с таким человеком, как Красовский, а он, видно, совсем не походил на других семинарских учителей.
Однажды, преодолевая робость, Виктор все-таки отправился к Красовскому. Тот жил в подворье Трифоновского монастыря. Васнецов, робея, поднялся по парадной деревянной лестнице. Вслед за послушником прошел через полутемную залу. На стенах смутно поблескивали золочеными рамами портреты архиереев в клобуках и митрах.
Навстречу вышел высокий худой человек, на вид лет тридцати. Несмотря на свою молодость, он немного сутулился. Взгляд его темных глаз был приветлив и ясен.
– Вы, наверно, хотите взять у меня книги для чтения? – спросил он как-то необыкновенно мягко. И, не дожидаясь ответа, предложил присесть.
Впервые обращались к Васнецову на «вы».
– Чаю разрешите?
– Нет, спасибо.
– Hé за что. А чашечку все-таки выпейте.
Красовский приказал послушнику принести чай.
– Сливок, сахару больше, сухарей, сухарей берите, – угощал Красовский, когда мальчик, не сумев отказаться, сделал глоток и поставил чашку на поднос.
И пока Васнецов обжигаясь пил чай и боялся, что Красовский заметит его неловкость, тот расспрашивал о прочитанных книгах.
– Ну и много же одолели вы всякой ерунды. Это действительно, как вы говорите, романы. Кстати, говорить надо «романы». Ну, да это дело поправимое. Что же вы хотите почитать?
Васнецов не раз слышал от товарищей о писателе Салтыкове-Щедрине, который был выслан в Вятку и служил здесь чиновником в 1848–1855 годах. Все в один голос говорили, что в своей книге «Губернские очерки» он сатирически изобразил местные власти с их глупостью, хитростью и казнокрадством. Прочитать такую книгу было любопытно, и потому он спросил ее.
– Эту хорошую книгу я вам пока читать не рекомендую, – ответил Красовский, – еще рано, не почувствуете всей соли.
– Может быть, Гоголя «Мертвые души»?
– Тоже рановато. Позже книгу эту прочтете с немалой для себя пользой, теперь же поймете только смешные места. Возьмите эту.
Васнецов поблагодарил и, даже не посмотрев, что это за книга, направился к дверям.
Книжка в зеленой обложке оказалась «Семейной хроникой» Аксакова.
В книге был портрет автора – Сергея Тимофеевича Аксакова. Его лицо очень напоминало Васнецову виденные где-то изображения бывалых шкиперов, старых морских волков. Такая же массивная голова, крупные нос, глаза и губы, подбритая, круглая поседевшая борода. Не хватало только трубки во рту.
В окрестностях Рябова не было помещиков, и Васнецов не знал еще об ужасах крепостничества. Но перед ним лежала книга, и он почувствовал в ней глубокую правду жизни. Он невольно сопоставлял жизнь оренбургских крестьян с бытом вятских семинаристов и находил много общего: ведь участь этих юношей целиком зависела от духовных наставников, таких же самодуров, одетых, правда, не в мирское платье, а в длиннополые рясы.
Чтение захватило Виктора, и он стал частым гостем Красовского. Александр Александрович охотно давал ему небольшие томики «Для легкого чтения», в которых помещались повести и рассказы лучших тогдашних писателей. Виктор прочел «Детские годы Багрова-внука» Аксакова, «Записки охотника» Тургенева, «Антона Горемыку» Григоровича и, наконец, «Губернские очерки» Салтыкова-Щедрина. Каждая прочитанная книга будоражила воображение. Впечатления искали выхода. И постепенно молодого семинариста захватило новое увлечение – рисование.
Церковную живопись и архитектуру преподавал художник Николай Александрович Чернышев, державший в Вятке иконописную мастерскую. Учителем он считался посредственным, и только одному Васнецову, рисовавшему быстро, легко и красиво, было интересно на его уроках.
Рисовали с натуры геометрические фигуры, делали перерисовки с учебных атласов, содержавших репродукции с картин на религиозные сюжеты и изображения архитектурных памятников. Один из учеников Чернышева, Спицын, вспоминал:
«Ученики учились у Чернышева сами собой. Учитель невозмутимо сидел на кафедре, время от времени призывая к ней то одного, то другого ученика, или потихоньку бродил по классу, позвякивая монетами в кармане или играя цепочкой часов, ничего не слушая и не видя; ученики в это время могли говорить и делать, что им было угодно.
Вообще Чернышев относился к классу совершенно безразлично, как мельник к равномерному шуму мельницы».
Ярко одаренный Васнецов привлек внимание Чернышева. И тот пригласил его заходить в иконописную мастерскую.
Чернышева, видимо, тяготило преподавание в семинарии: у себя в мастерской он выглядел совсем иным – внимательно рассматривал васнецовские рисунки, давал нужные советы.
С этих пор, слушал ли Виктор монотонный голос священника, шел ли по улице к отрадным его сердцу речным берегам, он, сам того не замечая, внимательно присматривался к людям: как они стоят, сидят, жестикулируют, вглядывался в выражение их лиц.
Вятка славилась своим праздником – игрищем «Свистуньей». Васнецов любил в эти дни бродить по городу с маленьким альбомом и делать наброски.
Существовала легенда, что в глубокой древности, когда город осаждали враги, хлыновцы [1]1
Вятку до 1781 года называли городом Хлыновом.
[Закрыть]попросили своих соседей, устюжан, помочь им. Темной ночью, приняв друг друга за врагов, они сильно побились.
В память об этом вятичи стали выделывать разноцветные глиняные шарики, и в один из дней на пасху перебрасывались ими на краю оврага, как снежками. Они комически инсценировали этой веселой игрой давнее сражение.
Со временем вместо шариков вятичи стали выделывать глиняные свистульки в виде фантастических, ярко разукрашенных животных и птиц, и в достопамятный день пронзительно свистали на все лады. Изготовлением таких свистулек для продажи стали заниматься кустари Дымковской слободы, и Васнецов с удовольствием наблюдал бойкую торговлю дымковскими игрушками.
Невольно приходили на ум строки из «Губернских очерков» Салтыкова-Щедрина: «Да, я люблю тебя, далекий, никем не тронутый край! Мне мил твой простор и простодушие твоих обитателей!», «Мне отрадно и весело шататься по городским улицам, особенно в базарный день, когда все площади завалены разным хламом: сундуками, бураками, ведерками и прочим. Мне мил этот общий говор толпы, он ласкает мой слух…»








