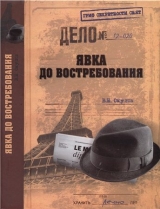
Текст книги "Явка до востребования"
Автор книги: Василий Окулов
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 25 страниц)
Глава четвертая
РУССКИЙ ПАРИЖ
1. КУШАЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ!
Первый контакт с соотечественником произошел в такси. Как только мы с женой и дочкой подошли к стоянке, расположенной напротив нашего дома, водитель первой машины открыл заднюю дверь и сказал по-русски: «Садитесь, пожалуйста. Куда прикажете?»
В пути разговорились. Бывший офицер. В России осталась семья, о которой многие годы ничего не знает. Живет небогато, но не жалуется: Париж кормит. В других городах русским живется хуже. Рассчитался строго по счётчику. От «чаевых» отказался: «Офицерская честь не позволяет брать с соотечественников».
Он помнил о своей принадлежности к армии великой страны, и при случае демонстрировал свое офицерское достоинство. Но жизнь давала все меньше и меньше шансов для этого, и невольно, под влиянием среды и обстоятельств, менялся характер человека и язык его становился «извозчичьим»: «Куда прикажете?»
Князь П.А. Вяземский в тридцатых годах XIX века писал А.С. Пушкину из Парижа: «Худая тут жизнь, браток, черного хлеба не допросишься».
Мы приехали в Париж на 120 лет позже князя, а черного – ржаного – хлеба там, как и прежде, не было. Да и в 1997 году, когда мы с женой приехали туда с частной поездкой, его тоже не нашли: упорно не хотят французы потворствовать вкусам русских, а может, не знают, что только в ржаной муке содержится уникальный комплекс витаминов и микроэлементов.
Пишу о французах, а сам думаю: теперь и в Москве ржаного хлеба не найдешь. То, что мы принимаем за черный, то есть ржаной, – подделка. Его выпекают не из ржаной муки, а из смеси пшеничной и обдирной. Для придания характерных для «черняшки» темного цвета и кисловатого вкуса в тесто добавляют солод.
Тогда, в 1954 году, когда невтерпеж захотелось черного хлеба, отправились мы к бывшему второй гильдии российскому купцу Суханову (Суханычу). У него и черный хлеб, и селедка, засоленная по-русски, и гречневая крупа, и прочие яства были в изобилии и отличного качества. Во французских магазинах селедка есть, да не соленая, а скорее квашеная. Гречневую крупу они знают, называют ее «каша» (с ударением на последнем слоге), но употребляют крайне редко. Вот и везли в Париж советские дипломаты и прочие граждане себе и друзьям в подарок черный хлеб, селедку, гречневую крупу, да еще икру, которая во Франции продавалась, по была нашему брату не по карману.
А какие вкусные были у Суханыча пирожки с капустой, рыбой, грибами! Грибов, к слову сказать, в лесах Франции много. Есть и наши любимые – белые, подберезовики и подосиновики, рыжики и сыроежки. Но французы их не едят: боятся отравиться и отдают предпочтение шампиньонам, выращенным в теплицах.
В изобилии были у него и кондитерские изделия, и колбасы, и малосольная семга, и осетрина холодного и горячего копчения. На высшем уровне было и обслуживание. Приказчики работали быстро и аккуратно. Приятно было посмотреть, с каким благоговением, другого слова не подберешь, они относились к деликатесам. Берет молодец пласт малосольной семги, торжественно кладет его на разделочную доску, подточит длинный, и без того острый, нож и начинает нарезать её топкими, почти прозрачными ломтиками, перекладывая их тончайшей бумажкой, чтобы не «склеилась» рыбка, пока домой довезешь. Видно, что сам процесс резки доставляет ему удовольствие. Потом завернет покупку, похвалит товар и подаст со словами: «Кушайте на здоровье». Своим усердием он показывает и любовь к делу, и уважение к покупателю.
Хозяин, седовласый, упитанный и краснощекий, в костюме-тройке и при галстуке, сидит за кассой. При входе покупателя встает, здоровается. Уходит покупатель – благодарит за покупку и желает здоровья. Во всем предупредительность и достоинство.
Известный в 1920—1930-х годах во Франции журналист-эмигрант Андрей Седых писал, что лавка Суханова пользовалась большой популярностью. Она была, по его словам, «парижским вариантом Елисеева для обедневших русских эмигрантов». В паше время только в канун больших праздников в ней бывало, как когда-то, тесно и шумно. Мало уж оставалось настоящих ценителей русской гастрономии. Коща в лавку заходили французы, хозяин был особенно любезен и по-французски с великолепным нижегородским акцентом расхваливал свой товар.
Как-то, когда я уже был хорошо знаком с Сухановым, заехал к нему по пути. Сделал заказ и, отметив в разговоре, что голоден, взял с подноса пирожок с капустой. И сразу же на стойке появились две рюмки водки и пирожок для хозяина. С удовольствием выпили и закусили. И тут Суханов рассказал, что в былые времена частенько забегал к нему Александр Иванович Куприн выпить, «как мы сейчас с вами», рюмку-другую под слоеный пирожок, а то и под огурчик. Тепло говорил купец о классике, даже слезу смахнул.
«Другое было время, другие люди. Недолго прожил Александр Иванович на Родине. Да и здесь, на чужбине, не сладко ему было. Старик Ремизов, писатель и художник, жил по соседству, тоже не обходил меня стороной. Мало того, писал обо мне», – с гордостью рассказывал Суханов.
Расплачиваясь, напомнил хозяину о съеденном пирожке и выпитой рюмке. Покачав головой, купец сказал: «Все, что съедено и выпито в заведении, русские купцы ни в Москве, ни в Париже в счет не ставят». Маленький урок правил хорошего тона России дооктябрьского периода.
2. БРАТЬЯ ХУРИНЫ
Не менее известными, чем Суханыч, были среди советских граждан знаменитые портные – братья Хурины.
Родились и выросли они, кажется, в Нарве, потом в Ригу перебрались. Там же получили образование и профессию. С началом Второй мировой войны, боясь прихода немцев, братья, а их было трое, уехали в Лондон и там торговали тканями. После войны один из них остался там, двое перебрались в Париж, купили небольшое ателье по пошиву мужской и женской одежды.
Вначале они обшивали русских эмигрантов. Но постепенно добрая молва о портных дошла до посольства, и его сотрудники стали их основными клиентами. Благодаря этому с окраины они переехали в один из переулков Елисейских Полей, увеличили штат мастеров.
Хурины славились умением шить зимнюю одежду, поскольку знали, что такое русская зима и вкусы соотечественников. И шили её из лёгких английских тканей, которые закупали по оптовым ценам у своего лондонского родственника, и на легком и очень теплом шерстяном ватине, о существовании которого московские портные того времени, мне кажется, даже не подозревали.
Любое их изделие стоило ровно на 10 процентов дороже приобретенного в первоклассном магазине Парижа. По этому поводу мы шутили: «Хурины берут с нас дополнительно 10 процентов за знание русского языка».
Слава их была велика. Известные советские артисты шили у них фраки, а офицеры аппарата военного атташе – парадные мундиры.
Они всегда были приветливы, предупредительны, точны в исполнении заказов. Все было хорошо, но мы точно знали: братья – осведомители местной контрразведки. Да иначе и быть не могло: уж очень много ходило к ним советских граждан. Иногда Хурины сами проявляли повышенное внимание к некоторым членам нашей колонии и делали это, как мы понимали, не из любопытства, а по указанию своих полицейских кураторов.
В их защиту надо сказать, что они не скрывали факт сотрудничества с контрразведкой. Были случаи, когда при прощании, стоя на лестничной площадке, то один, то другой из братьев говорил кому-нибудь из наших: «А вами интересовалась полиция!» Они не могли ссориться с полицией, а еще больше боялись потерять многочисленную и постоянную клиентуру из посольства. Эмигранту постоянно приходится сидеть на двух стульях.
У руководства советской колонии появлялось иногда желание запретить советским гражданам пользоваться услугами Хуриных, но все понимали, что эта мера не гарантировала полного «послушания» и, главное, была оскорбительна. Поэтому ограничивались рекомендацией ходить к ним вдвоем-втроем, не вести в ателье разговоров об обстановке в посольстве, не обсуждать поведение отдельных его сотрудников.
3. НЕОБЫЧНЫЙ ЭКИПАЖ
«Василь, смотри, какой чудный экипаж!» – сказал друг мой Паша. По аллее Булонского леса медленно катил трехколесный велосипед. «Водитель», мужчина лет семидесяти, одетый в чесучовый костюм-тройку, в перчатках и панаме, неспешно крутил педалями и изредка нажимал на «грушу», предупреждая пешеходов об опасности. Позади него в плетеном кресле, укрепленном на багажнике, сидела нарядно одетая дама в соломенной шляпке с вуалью и в перчатках. На правой руке ее висел театральный бинокль на ручке (как лорнет), на коленях дремала болонка.
– Павел, бьюсь об заклад, эта пара – наши соотечественники.
– Не может быть!
– Сейчас проверим!
Экипаж поравнялся с нами, и я, обращаясь к водителю на русском языке, сказал: «Бог в помощь, отец!»
«Водитель», чуть вздрогнув от неожиданности, приподнял панаму и ответил: «Спасибо, сынки, да не оставит вас Господь своими милостями!»
Дама приставила к глазам лорнет-бинокль и, обращаясь к нам, певучим грудным голосом пропела: «Благодарю вас, господа! Мой муж с этой поклажей (она показала на себя и собачку), слава Богу, хорошо справляется».
И экипаж покатил дальше, вызывая улыбки прохожих. Паша проиграл пари, а я пожалел, что не поговорили с этой симпатичной парой.
4. ДОКТОР ЕЛИЗАВЕТА МОИСЕЕВНА
Об этой женщине можно было бы написать захватывающий роман о любви и верности, о вероломстве и предательстве близкого человека, о тоске по родине, об исстрадавшейся, но чуткой и отзывчивой к чужому горю душе.
Первая мировая война вырвала ее из родного гнезда, из мирной жизни, а революция вынудила покинуть Россию. Она прошла три войны, боролась за жизнь любимого, в чужой стране стала офицером, получила гражданство Франции и высшее образование, но в душе осталась русской. Судьба ее во многом схожа с судьбами тысяч русских эмигрантов, но, мне кажется, сложнее и трагичнее.
С Елизаветой Моисеевной меня познакомил известный советский физиолог, академик АМН и АН СССР Константан Михайлович Быков, принимавший участие в международной конференции физиологов в Париже. Елизавета Моисеевна, в ту пору практиковавший врач-терапевт, была его переводчицей и, по доброте душевной, гидом и помощницей в ознакомлении с Парижем, его памятниками, музеями и магазинами.
С первой же встречи стало ясно, что Елизавета Моисеевна прекрасно знает русскую эмиграцию во Франции, главным образом – интеллигенцию и французские медицинские круги. Это было интересно не только мне, но и моей жене, которая, несмотря на выезд за границу и рождение второго ребёнка, не потеряла интереса к своей профессии. Елизавета Моисеевна была общительным и разговорчивым человеком, и очень скоро я знал многое из ее жизни.
В первое время меня удивляла и даже озадачивала готовность русских эмигрантов изливать душу малознакомому русскому, да еще приехавшему из СССР. Потом я понял: это потребность высказать тоску и сохраненную, несмотря ни на что, любовь к потерянной Родине, услышать слова сострадания. Знакомого русского эмигранта такие разговоры не интересуют: он сам испытал что-то подобное. Француз просто не в состоянии понять исповедь постороннего, а соотечественник, пусть и из другого мира, обязательно выслушает и посочувствует.
Елизавета Моисеевна родилась и выросла в Гатчине в культурной и обеспеченной семье. Окончила гимназию и вскоре вышла замуж за пехотного офицера, служившего в Петербурге. В самом начале Первой мировой войны он уехал на фронт, а она, желая быть рядом с ним, не считаясь с уговорами и слезами матери, поступила на курсы медицинских сестер. Окончив их с отличием, Елизавета Моисеевна, отказавшись от работы в тыловом госпитале, добилась направления в часть, в которой воевал ее муж. Почти три года прослужила она на передовой: выносила с ноля боя раненых, выхаживала их в госпитале, была операционной сестрой. Было очень трудно, но где-то, совсем рядом, находился муж. Они часто виделись, она сама перевязывала его раны. «За это, – говорила она, – можно было вытерпеть все».
Их фронтовые дороги закончились в Крыму. Она служила в госпитале, в одной из палат которого лежал тяжелораненый муж. Думать, «что делать, оставаться в России или уходить в эмиграцию», долго не пришлось: надо было срочно грузить раненых на транспорт, уходивший в Константинополь. Большинство офицеров и многие нижние чины боялись сдаться на милость победителя и решили покинуть Россию, считая свой исход временным и надеясь вернуться после падения власти большевиков.
На транспорте, помимо раненых, оказалось около двух тысяч солдат и офицеров, многим из которых также требовалась медицинская помощь и даже операции. «А я была одна, – с горечью рассказывала Елизавета Моисеевна, – если не считать всегда пьяного судового врача. Врачи госпиталя, забыв про клятву Гиппократа, остались на берегу. Они ведь не стреляли в красных и в атаки не ходили и потому меньше боялись большевиков. У меня не было лекарств, перевязочных материалов. Плакала от бессилия, от сознания, что ничем, кроме доброго слова, не могу помочь больным. Люди умирали каждый день. Очень боялась и за здоровье мужа. Ранение было тяжелым».
На пятый день путешествия транспорт прибыл в Галлиполи. Лагерь развернули в открытом поле. Кое-как, не сразу, с помощью местных властей, представителей Франции и Международного Красного Креста, оборудовали госпиталь. Среди ранее прибывших туда русских нашлись врачи и медсестры. «Стало легче, не было той страшной ответственности, которая лежала на мне до этого, но, как и прежде, не хватало лекарств, бинтов и других материалов. Трудно было и с питанием», – вспоминала Елизавета Моисеевна.
После полуголодного существования и полуторалетних скитаний в Галлиполи и по Болгарии Елизавета Моисеевна с мужем приехали во Францию. И снова ни кола, ни двора. Зато много соотечественников, сослуживцев. Один помог найти работу ей, другой устроил ее мужа – подполковника – на курсы шоферов, а третий временно дал кров. Так началась жизнь в Париже.
«Я была рада любому труду. Бралась за вес: посуду мыла, убирала туалеты в госпиталях, няней была, и продукты по квартирам разносила. Французским языком я свободно владела с детства, и это очень помогло в жизни. Но чем бы я ни занималась, думала об одном: как стать врачом», – рассказывала Елизавета Моисеевна.
Для начала пошла на курсы медсестер, чтобы подтвердить сохранившееся у нес свидетельство об окончании сестринской школы в Петрограде и получить французский диплом, дающий право на работу но этой специальности. Окончив курсы, с помощью добрых людей, она поступила на медицинский факультет.
Ее муж работал шофером такси, денег на жизнь, хоть и не роскошную, хватало, и казалось, что все налаживается. Но в одночасье все рухнуло: в 1930 году муж оставил се. Банальная история. На вокзале в его машину села американка русского происхождения. Он отвез её в хороший отель, и она, рассчитываясь, попросила его заехать к ней вечером: ей не терпелось посмотреть вечерний Париж. С этого и начался его скоротечный роман с богатой вдовой. Недели через две-три она увезла его в США.
Елизавета Моисеевна осталась одна. Днем училась, а в вечернее и ночное время дежурствами в госпиталях зарабатывала на жизнь, учебу и выплату кредита, полученного на покупку квартиры.
«Так и жила, крутилась как белка в колесе. Но самым тяжелым была обида на мужа. Я любила его, пошла за ним на войну, спасла его от смерти, а он просто предал, и ладно бы из-за любви, а ведь из-за денег. Но от судьбы не уйдёшь. Он умер от какой-то неизлечимой болезни через три года после отъезда. Я простила его, но обида осталась, и ничего с этим не могу поделать», – рассказывала Елизавета Моисеевна.
Вскоре она стала врачом. Не сразу, но устроилась ординатором в госпиталь. Зарплата была маленькая. Эмигрантам французы платили намного меньше, чем своим. Со временем появилась частная практика, расплатилась за квартиру и уже стала подумывать о замужестве, женихи даже были, а тут снова война. И опять с немцами.
«Когда немцы летом 1940 года вошли в Париж, отданный французскими властями на милость победителя, я места себе не находила, – рассказывала Елизавета Моисеевна. – А потом твердо решила идти воевать. Войну я знала не понаслышке, до этого прошла две – Мировую и Гражданскую. Пройду третью. А погибну – плакать по мне некому, я ведь одинокая». И русская эмигрантка, лицо без гражданства, стала военным врачом французского Сопротивления. На этот раз ей пришлось пройти не только тяготы войны, но и подполья. За храбрость Елизавете Моисеевне было присвоено звание «лейтенант», и вслед за этим она получила французское гражданство.
После войны через советский Комитет Красного Креста и Красного Полумесяца она разыскала своего младшего брата, о котором ничего не знала с начала двадцатых годов. Завязалась переписка. Брат сообщил, что во время войны был на фронте, а их родители погибли в блокадном Ленинграде. Он писал также, что женат и у пего есть дочь – студентка медицинского института.
Брат приглашал её приехать в Ленинград. У нес было большое желание встретиться с родными и навестить места, где прошли ее детство и юность. Но вначале не было денег – с пустыми руками ведь не поедешь, – да и за билет на самолет много заплатить надо, а потом отношения между бывшими союзниками испортились, и не до путешествий стало. Более того, в период «холодной войны» резко сократилась переписка советских граждан с родственниками, проживавшими за границей. Она возобновилась только в хрущевскую «оттепель».
Елизавета Моисеевна познакомила меня со многими интересными людьми, как из числа русских, так и французов. Когда мне нужно было, работала переводчицей, наотрез отказываясь от оплаты, постоянно и безвозмездно снабжала меня и врача посольства дорогостоящими медицинскими препаратами, которые получала от многих фармацевтических фирм как практикующий врач для апробации.
В августе 1961 года я приехал в Париж в качестве сотрудника советской выставки и сразу же посетил Елизавету Моисеевну. В ее маленькой гостиной был создан «русский уголок»: портрет Ю.А. Гагарина, русские книги, куклы и другие сувениры, привезенные или присланные ей из Москвы и Ленинграда, и первый ее тост всегда был: «За Юрочку!» А в 1962 году она сама приехала в Москву как сотрудница французской выставки. Побывала она и в Ленинграде, и в Гатчине. Так сбылась ее мечта встретиться с родственниками, погулять по родным местам.
5. ПАТОРЖИНСКИЙ
В посольство позвонил француз и, представившись участником Сопротивления, попросил два билета на концерт советского хора под руководством Федора Паторжинского.
Мне, как и многим советским людям той поры, был хорошо известен народный артист СССР солист Киевского театра оперы и балета, часто выступавший в Москве, Иван Сергеевич Паторжинский. А Федора Паторжинского в посольстве никто не знал. Все это я и сказал звонившему. Мой ответ его не удовлетворил. Он даже обиделся и указал место, где читал афишу Федора Паторжинского. И я поехал туда.
Афиша была. Она извещала о концерте русского народного хора под управлением Федора Паторжинского, в программе которого русская духовная и светская музыка.
Заинтересовавшись хором, и особенно его руководителем с редкой и в то же время такой известной у нас фамилией, я позвонил доктору Елизавете Моисеевне.
Оказалось, что она хороню знакома с Федором Сергеевичем. Он регент хора храма Трех Святителей, и тут же рассказала его историю: в 1931 году митрополит Евлогий порвал с Московской патриархией, но часть прихожан осталась верной Москве, и тоща в подвале дома № 5 но улице Петель был устроен православный храм Московской патриархии. Федор Сергеевич стал регентом церковного хора. Он родной брат украинского артиста Ивана Сергеевича Паторжипского. И, не задумываясь, пригласила нас с женой на этот концерт, заверив, что Федор Сергеевич будет рад с нами познакомиться.
После концерта мы встретились с Федором Сергеевичем и первой солисткой хора – Лепой (Елена Тумаркина), дочерью русских эмигрантов, выехавших из Петрограда в 1918 году. Родители, люди культурные и обеспеченные, дали ей не только хорошее общее образование, но и отправили в Италию в школу бельканто. Она хотела стать оперной певицей. Мечта её сбылась: она стала первым сопрано Русской оперы, только не в Петербурге, а… в Париже.
Через несколько дней мы получили от Лены приглашение на обед. За столом, накрытым по-русски обильно и по-французски элегантно, собрались Паторжинский, мы с женой, Елизавета Моисеевна и хозяева – Лена и ее муж – маркиз Мишель де Сервиль, по образованию художник. Тогда он работал как график, разрабатывал эскизы открыток и иллюстрировал художественные произведения французских и русских авторов. Позже стал живописцем. Выставки его работ неоднократно проводились во Франции и в Советском Союзе.
Встретили нас тепло, и засиделись мы с разговорами до полуночи. На этой и последующих встречах Федор Сергеевич и Лена многое рассказали о себе.
Братья Паторжинские – Иван и Федор – родились и вырост в селе Петро-Свистуново Запорожской области в семье священника. Оба в разное время поступили в «бурсу», а потом – в Екатергаюславскую духовную семинарию. Обладая хорошими голосами, пели в церковном хоре в своём приходе, потом – в хоре семинарии. Пели и в светских концертах, но под псевдонимами – Макар и Макаренок, т. к. семинаристам участвовать в светских спектаклях не разрешалось.
Иван в начале двадцатых годов окончил Екатеринославскую консерваторию и стал солистом Харьковского оперного театра, а позже – Украинского театра оперы и балета в Киеве.
Федор в период Гражданской войны бежал из дома, поступил в казачий хор и вместе с Белой армией покинул Родину.
Любовь к пению, хорошие вокальные данные помогли ему найти место в жизни: он стал солистом казачьего хора. Хоровое казачье пение, как явление самобытное, истинно российское, пользовалось на Западе в двадцатые годы прошлого века большой популярностью. Хор, в котором пел Паторжинский, неоднократно гастролировал в Англии, Германии и других странах. В Берлине, когда он пел «Спаси, Боже» его слушал великий Сергей Рахманинов, восхищаясь редкой красоты басом.
Артисты хора, как рассказывал Федор Сергеевич, поражали иностранцев не только великолепным исполнением казачьих песен и танцев, костюмами, чубами и усами, но и своей непосредственностью в повседневной жизни. Однажды, вспоминал он, в фешенебельном лондонском отеле казак Грицько искал друга своего – казака Панаса. Он встал на лестничной площадке пятого этажа и на весь отель зычным своим голосом кричал: «Палас, и де ты, бисова душа?» Перепуганная прислуга бросилась на пятый этаж успокаивать Грицько, а в это время на первом объявился Палас, и друзья начали «деловой» разговор, отнюдь не стесняясь в выражениях. Артисты, слушая их цветастую речь, покатывались от хохота, а англичане никак не могли понять, что же тут происходит.
Запомнился еще один рассказ Паторжинского о казачьем хоре. Во время гастролей в Румынии казакам пришлось петь на приеме у румынской королевы. После выступления хористов пригласили к столу. Сервировка была роскошная, а вот угощение – более чем скудное. Озорники переглянулись и, мгновенно поняв друг друга, решили наказать королеву за скаредность. Они встали, подняли старинные бокалы, и один из них произнес пышный тост, который закончил таким возгласом: «А теперь, по старинному русскому обычаю, за здоровье матушки-королевы…», и хрустальные бокалы под крики «Виват!» были с силой брошены на дворцовый паркет.
К началу тридцатых годов интерес к казакам пошел на спад, многие хоры распались. К этому времени Федор Сергеевич обосновался в Париже. Там он создал хор православной музыки из церковных певчих, таких же эмигрантов, как и он сам. Не имея специального музыкального образования, Федор Паторжинский оказался талантливым хормейстером и хорошим организатором.
В программе его хора были духовная музыка, произведения русских классиков, русские и украинские народные песни, романсы. Вначале хор был известен только в эмигрантских кругах, потом полюбился французами и стал популярен в Европе. Об этом говорят «Золотая пластинка», присужденная хору в 1957 году Французской академией искусств, и «Гран-при» на конкурсе в Италии.
К Федору Сергеевичу с глубоким уважением относились титаны оперного искусства Федор Шаляпин и Борис Христов. Он был в дружеских отношениях с А.И. Куприным и И.Л. Буниным, Александром Вертинским. Надежда Плевицкая считала за честь петь с его хором.
Особенно дружеские отношения у Федора Сергеевича были с Матерью Марией. Под этим именем (после монашеского пострига в Париже) жила бывшая киевская гимназистка Лиза Пиленко, йотом – известная поэтесса серебряного века – Елизавета Кузьмина-Караваева.
Оказавшись в эмиграции, она занималась благотворительностью. В её доме на улице Лурмсль, 77 за символическую плату могли жить и питаться ее соотечественники – деятели науки и культуры, которые оказались за рубежом без средств к существованию. Когда Францию оккупировали немцы, ее дом стал центром патриотической консолидации земляков. В нем находили приют и бойцы Сопротивления. Обитатели дома и ее гости тайком слушали последние новости с Восточного фронта.
Бывал у Матери Марии и Федор Паторжинский. До её ареста фашистами (1943 год), он помогал ей материально, передавая деньги от благотворительных концертов. Мать Мария погибла незадолго до Победы в газовой камере фашистского концлагеря Равенсбрюк.
С первой же встречи Федор Сергеевич живо интересовался условиями жизни в СССР, особенно на Украине, и однажды спросил: «Как вы думаете, могу ли я обратиться к брату и попросить его помочь мне вернуться на Родину? Может ли он подыскать мне работу в хоре или оркестре, чтобы я мог зарабатывать на жизнь?» Вскоре, по моему совету, Федор Сергеевич посетил консульский отдел посольства, чтобы проконсультироваться о порядке восстановления в советском гражданстве. Сотрудники консульства тепло его встретили, помогли написать прошение в Верховный Совет СССР и заполнить необходимые анкеты. Тогда же он написал письмо брату.
Прошло месяца полтора, и на имя посла СССР во Франции С.А. Виноградова пришло письмо депутата Верховного Совета УССР И.С. Паторжинского. Иван Сергеевич просил посла помочь его брату и его жене оформить документы, необходимые для получения советского гражданства и выезда в СССР. Он брал на себя их материальное обеспечение и предоставлял им жилплощадь.
Просьба его была выполнена, и вскоре супруги Паторжинские получили советское гражданство и уехали в Киев.
Через полгода после отъезда Федор Сергеевич прислал мне восторженное письмо. Он – второй дирижер Государственной Академической капеллы «Думка». Все свободное время вместе с Иваном ходит но родным, которых оказалось великое множество, любуется Днепром, Крещатиком, Андреевской горкой, Золотыми воротами. Побывал в Киево-Печерской лавре и стал заядлым театралом.
Так, после тридцатилетней жизни на чужбине, устроилась на Родине судьба талантливого украинского певца и дирижера.








