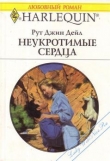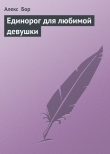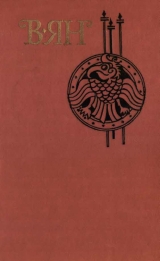
Текст книги "Том 1"
Автор книги: Василий Ян
сообщить о нарушении
Текущая страница: 44 (всего у книги 44 страниц)
Ставя своей целью изобразить Спартака истинным представителем своего класса, В. Ян делает его рядовым, ничем не отличая от других обитателей гладиаторской казармы. Более того, он не показывает интеллигентности Спартака, по свидетельству Плутарха более походившего на эллина, чем на варвара. Понятие «эллин», противопоставляемое понятию «варвар» в смысле «дикарь», во времена Плутарха было эквивалентом образованности и душевной тонкости. Биография Спартака до его пленения римлянами нам неизвестна, и В. Ян в отличие от современных авторов фантастических биографий Спартака не пытается домыслить его фракийскую юность и не делает его знатоком всей греко-латинской литературы.
Все это, однако, не помешало создать В. Яну сильное в художественном отношении произведение. Писателю удалось показать истинные причины восстания, о которых не сказали ни Саллюстий, ни Плутарх, ни Флор, ни Аппиан, ни какой-либо другой из древних авторов, писавших о восстании Спартака. Обращаясь к написанному современником Спартака Варроном агрономическому трактату, писатель извлекает из него мысль, что раб – это орудие, отличающееся от инструментов и животных лишь речью. Но как довести эту предельно четкую формулу рабовладельческого общества до современного читателя? Как образно внушить ему, что Спартак боролся не за власть, не за положение в обществе, а за возвращение людям, низведенным до положения скота, человеческого достоинства? Сделать Варрона участником развертывающихся событий? Ввести беседу двух рабовладельцев, в которой один назовет рабов «говорящими орудиями»? В. Ян находит иное, нестандартное решение. Надсмотрщики разбивают новую партию рабов на несколько отрядов и объявляют, кто будет Лопатами, кто Мотыгами, кто Сохой, кто Воротом у колодца, кто Бороной, а кто– Тачкой. Фракийцы, как самые сильные, объявляются Мельничными жерновами и Кирками, ломающими камни.
Человек, имевший родину и родителей, имя, внешность и характер, потерял все человеческое. Он стал орудием труда. Теперь ему могли крикнуть. «Эй, Лопата, почему остановилась?!» А когда состарится или ослабеет, «продать со всяким хламом» – именно такова рекомендация автора агрономического трактата М Порция Катона.
Восстание рабов в художественной трактовке В Яна вырастает как коллективный протест угнетенного класса и выражается в формуле-метафоре:
Ты не «Кирка», и я не «Лопата»,
Ты– человек, и я– человек.
Это песня людей, с помощью оружия вернувших себе человеческое достоинство. Во главе их встали те, кого римляне назвали Мечами (Гладиусами), определив им красиво убивать друг друга на аренах амфитеатров. Вот они: Спартак, Крикс, Эномай, Ганник – все подлинные имена восставших, донесенные исторической традицией. Им противостоят римские полководцы, которым поручено возвратить взбунтовавшихся Лопат, Мотыг, Тачек и Мечей на свои места.
Разумеется, даже в документальной повести, которую задумал В Ян, было трудно обойтись без вымышленных персонажей. Но их введение не только не нарушило жизненной правды, которой дышит «Спартак», но и дополнило ее немаловажными деталями.
Интерес В. Яна к истории классовой борьбы нашел отражение и в другом его произведении – «Трюм и палуба». Местом его действия является живописное озеро Неми со знаменитой в древности священной рощей Дианы. Об одном из событий, происшедших на фоне этого идиллического пейзажа, поведала «подводная археология». Еще в XV веке рыбаки вытащили сетями со дна обломок фигурного носа корабля. Попытки его поднять, имевшие место в XVI и XIX веках, оказались безуспешными. Лишь в конце 20-х годов XX века благодаря развернутой Муссолини кампании возрождения морского могущества древнего Рима на поднятие корабля не пожалели средств. Мощные помпы за четыре года наполовину осушили озеро Неми. с его дна подняли два древнеримских корабля и. подремонтировав их, установили в специально сооруженных ангарах.
О начавшихся работах В. Ян узнал из итальянского иллюстрированного журнала. В нем был воспроизведен снимок глиняной вентиляционной трубы с клеймом императора Гая Калигулы (37–41 гг.), точно датировавшим время катастрофы. Воображение писателя заработало, представив гибель судна как следствие бессмысленной жестокости императора-маньяка.
Само название рассказа «Трюм и палуба» показывает, что писателя заинтересовала возможность представить зрительно классовую структуру императорского Рима в виде палубы, предназначенной для роскоши и наслаждений эксплуататоров, и трюма, преисподней, для страданий и тяжелого труда рабов.
В. Ян прекрасно знал стихи Горация, в которых государство эпохи гражданских войн изображалось в образе корабля в бушующем море:
О корабль мой! Вновь вынесет в море тебя
Буря! Что ж ты стоишь? Выбрось быстрей
Якорь. Разве не видишь, что
Гол уже борт твой. Весла снесло
Африком злым, мачта надломлена,
Сорван канат. И едва уже киль
Справиться может с мощным
Течением…
В сознании поэта буря и злой африканский ветер (Африк) предстают как явления внешние по отношению к кораблю. В. Ян хотел показать в образе того же корабля, что государству грозит нечто пострашнее бури. Один из героев рассказа – Тетриний, разбив оковы, вместе с другими гребцами спасается с пылающего судна и бежит в Альбанские горы, чтобы начать с угнетателями вооруженную борьбу.
У Яна описание объятого пожаром корабля, с которого чудом спасся Тетриний, не соответствует типу судна, извлеченного со дна озера Неми. Каждый из двух поднятых кораблей имел один ряд весел, а не несколько, как описывает Ян. Всего на нем было 28 весел. В. Ян опирался на свидетельство биографа Калигулы Светония: «Калигула построил либурнские корабли в десять рядов весел с жемчужной кормой и разноцветными парусами, с огромными купальнями, портиками, пиршественными залами, даже с виноградниками и плодовыми деревьями всякого рода». Видимо, исходя из этого описания, В. Ян снизил палубность озерных кораблей, но даже такие суда не могли бы развернуться на небольшом, хотя и глубоководном озере.
В незаконченном рассказе «Овидий в изгнании», который, судя по зачину, должен был вылиться в повесть, В. Ян успел лишь поведать об обстановке, в которой жил опальный поэт Каждые пятнадцать дней он обязан посетить господствующую над полуварварским городком Томы римскую крепость, чтобы отчитаться, что он на месте. Кто стражи, под недремлющим оком которых вынужден находиться поэт? Начальник крепости, ненавидящий поэта военный трибун, его помощник центурион, сам от безделья кропающий стишки и поэтому завидующий славе Овидия.
Единственным источником, позволяющим судить о жизни Овидия в изгнании, являются его «Скорбные элегии» и «Послания с Понта». Там мы не найдем ничего из той обстановки, которую воссоздал Ян. Но это не означает, что писатель ошибся. Само умолчание поэта о дружбе с местными римлянами – косвенное свидетельство враждебных отношений с ними То же, что поэт даже писал стихи на языке местного населения, подтверждает версию о дружбе Овидия с коренными жителями, на которую В. Ян намекает.
Произведения античного цикла в отличие от трилогии о завоеваниях Чингисхана и его преемников не были еще предметом серьезного изучения. О них говорили лишь в самой общей форме, как о произведениях, сыгравших определенную роль в формировании творческих принципов писателя. Между тем принадлежность «Финикийского корабля» «Огней на курганах». «Спартака», а также рассказов к раннему периоду художественно-исторического творчества В Яна не означает, что эти произведения были лишь трамплином к более высокому периоду творчества. Создавая произведения на темы античной истории. В. Ян не был новичком ни в истории, ни в литературе.
Доктор исторических наукА. Немировский.
ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
Настоящий четырехтомник – первое Собрание сочинений В. Яна. Подобное издание намечалось в Гослитиздате свыше тридцати лет назад еще при жизни писателя. Публикация об этом появилась в год его кончины [336]336
Газ. «Советская культура» от 26 октября 1954 года– «Художественная литература в 1955–1959 годах»
[Закрыть]. Но издание так и не было осуществлено.
В литературном архиве В. Яна не обнаружен план Собрания сочинений, поэтому при подготовке данного издания было решено включить в его состав наиболее известные сочинения автора.
В Собрание вошла преимущественно историческая проза, в основном публиковавшаяся при жизни писателя. Почти все эти произведения созданы в «советский период» сложного творческого пути В. Яна; исключение составляют несколько написанных ранее рассказов и очерков. За пределами этого издания еще осталось обширное, разноплановое литературное наследие писателя – некоторые его повести и рассказы, пьесы и стихи, очерки и статьи, рецензии и фельетоны, корреспонденции, письма, конспекты выступлений, рабочие тетради, дневники и прочие материалы.
Произведения в томах данного Собрания расположены по жанрово-тематическому принципу, по времени действия, или по изображенным в них историческим эпохам.
В первый томвошли повести, рисующие картины древнего мира: «Финикийский корабль», первое крупное художественное произведение В. Яна, созданное в конце 20-х годов, и напечатанные вскоре за ним – «Огни на курганах» и «Спартак»; сюда тематически примыкает группа рассказов («Голубая сойка Заратустры» и др.).
Второй и третий томазанимает цикл произведений, начатый автором в канун второй мировой войны, – трилогия об ордынском (монголо-татарском) нашествии XIII века на Среднюю Азию, Русь, Европу, показывающая борьбу предков советского и других народов с захватчиками за свою свободу и национальную независимость, – это романы «Чингиз-хан», «Батый», «К «Последнему морю»». К ним примыкают рассказы («Возвращение мечты» и др.), которые по первоначальному замыслу автора должны были входить в заключительную книгу трилогии.
Четвертый томсоставляют повести «Юность полководца» (юность Александра Невского. XIII век); «Молотобойцы» (Петровская Русь. XVII век); рассказы, изображающие картины разных времен («Скоморошья потеха» и др.); «Записки пешехода» и «Голубые дали Азии»– очерки и заметки писателя о его скитаниях по Центральной России и Средней Азии на рубеже XIX–XX веков.
В основу текстов четырехтомника положены последние прижизненные или первые посмертные издания книг писателя; при этом учтены позднейшие исправления автора.
Книги В. Яна содержат авторские примечания, написанные им много лет назад, поэтому в отдельных случаях в них внесены коррективы в соответствии с современными научными сведениями.
О «Творческой лаборатории» В. Яна по конспектам бесед автора с читателями и другим его записям рассказано в 1-м, 3-м и 4-м томах.
В издании использованы рисунки В. Яна 20—30-х годов на темы публикуемых произведений, фотографии из архива писателя, географические карты эпох нашествий Александра Македонского и Чингисхана, составленные под руководством автора.
В конце 20-х – начале 30-х годов В. Ян жил в центре старой Москвы, в доме № 8 (ныне снесенном) по Газетному переулку (улица Огарева) и ежедневно к 9 часам утра ходил работать на Моховую улицу (проспект Калинина) в бывшую Румянцевскую (Ленинскую) библиотеку. Там в Научном читальном зале № 1, размещавшемся на хорах ее старого здания – «Дома Пашкова», он тогда написал повести и некоторые рассказы, вошедшие в настоящий том Собрания его сочинений.
«В Москве начался новый период моей жизни, – говорил В. Ян. – Скитания по «подносу Вселенной» закончились, сменившись путешествиями по бесчисленным страницам книг. Родилось творчество – период упорной работы в Ленинской библиотеке над материалами для давно задуманных исторических повестей и рассказов. Эти скитания по свету, особенно по Азии, дали мне массу впечатлений, которые послужили основой, фоном моих произведений» [337]337
Здесь и далее цитируются: В. Ян «Скитания и творчество», «Как я работал над своими книгами», конспекты выступлений перед читателями (1940-е гг.). – Архив В. Яна; В. Ян «Путешествия в прошлое». – «Вопросы литературы», 1965, № 9
[Закрыть].
«Финикийский корабль»– первое произведение в ряду исторических повестей В. Яна. Автор нежно любил своего «первенца», вероятно потому, что мысль о его создании зародилась в молодые, счастливые годы, когда он, тогда редактор и журналист петербургской газеты «Россия», проводил служебный отпуск с женой и дочерью в плавании по Черному и Средиземному морям.
«В 1907 году, во время поездки на русском пароходе вдоль берегов Малой Азии, в Историческом музее Бейрута я увидал найденные при раскопках… глиняные, обожженные дощечки с выцарапанными на них непонятными надписями. Это были разрозненные записи древних финикийцев, смелых скитальцев по морям, омывающим Европу и Северо-Западную Африку.
…Желание написать об этих мореплавателях увлекательную повесть для юношества охватило меня тогда, но осуществить свой замысел я смог лишь спустя много лет… Над этой маленькой повестью пришлось много поработать, прочесть сочинения по истории народов Востока, Иудеи, Карфагена, изучить прошлое Азорских островов, «Историю мировой торговли» Бэра и другие материалы. Всюду я нашел интересные данные о путешествиях и плаваниях древних финикийцев».
По воскресеньям В. Ян читал нашей семье и моим школьным друзьям свеженаписанные главы повести. Он не только ценил мнение слушателей, но стремился привлечь их к творческому труду. Двоим моим «одноклассникам», А. Петрову и А. Шапиро, юным, «подававшим надежды» поэтам, он дал темы (подстрочники) песен к повести, с тем, чтобы они их «поэтически обработали». Так родились некоторые их стихи, вошедшие в «Финикийский корабль» и «Огни на курганах».
Когда книга вышла в свет (изд. «Молодая гвардия», 1931), автор послал ее старшему брату, выразив на титульном листе свои сокровенные думы:
«Дорогому брату Мите, восточному страннику [338]338
Дмитрий Григорьевич Янчевецкий (1872–1942), востоковед, историк, журналист, путешественник, автор нескольких книг.
[Закрыть].Во все века пламенные искатели высшей правды бродили по Свету – одни в полосатом абае Софэра-рафа, другие в плаще Бэниана, или сюртуке кембриджского профессора. Посылая этот исторический фрагмент, надеюсь, что ты найдешь в наивных записках финикийского мальчика общечеловеческие мысли и стремления, которые также живут в настоящее время, как волновали они 3000 лет тому назад. С сердечным чувством– В. Ян. Москва. 2/IV—1931 г.».
Повесть издана у нас 12 раз, в том числе на эстонском, литовском, латышском, грузинском языках; неоднократно выходила за рубежом.
Повесть «Огни на курганах» впервые опубликована в 1932 году (изд. «Молодая гвардия»). Автор рассказывал, что «пребывание в Азии, изучение прошлого среднеазиатских народов вызвало… желание описать борьбу за свою независимость древних скифов, саков и согдов, других далеких предков народов Советских среднеазиатских республик, живших в IV веке до н. э. во время завоевания и разгрома Персии Александром Македонским…» [339]339
Здесь и далее цитируются: В. Ян «Александр и Спитамен», «Как я работал над своими книгами», «Историческая достоверность и творческая интуиция». «Завоевание Средней Азии Александром Македонским» и др. – Архив В. Яна.
[Закрыть].
«В ряде книг буржуазных западных историков воскрешен и широко разрекламирован образ легендарного создателя первой Европейской колониальной державы, причем ему приписывается роль родоначальника европейского «культуртрегерства» в Азии. В этих книгах завоеватель и насильник Александр Македонский выведен «просветителем азиатских варваров», а его грабительская армия «носителем светоча европейской культуры», принижается борьба завоевываемых народов с захватчиками…»
«Между тем точные исторические данные свидетельствуют о том, что Александр был таким же беспощадным завоевателем и истребителем народов, какими были позднее Чингиз-хан и Тамерлан… Он оставлял за собой разрушенные города, дымящиеся развалины, опустошенные провинции, целые народы обращал в рабство, продавал как рабочую скотину на рынках…»
«На обязанности советского писателя-историка – дать реальный, настоящий образ Александра-разрушителя, интервента, беспощадно и безжалостно истреблявшего своих противников».
Отвечая на вопрос, какими историческими материалами он пользовался, В. Ян говорил: «Всякими, какие смог найти, работая в сокровищнице Ленинской библиотеки, у старых русских и зарубежных, также советских среднеазиатских и русских ученых».
Автор также говорил: «Эту повесть уже можно назвать «историческим романом». Работая над нею, я многому научился и в отношении общей композиции построения фабулы, разрешая вопросы об исторической точности, о пределах вымысла, обрисовки характеров того или иного героя».
О своих героях В. Ян писал: «Александр впервыеизображен в художественной литературе реалистически, таким, каким его изображают первоисточники, каким он был на самом деле, без идеализации, мистики и прикрас, чем грешат многочисленные романы и его биографии»; «интереснейшим вождем восставших являлся Спитамен, талантливый смелый вождь, удачно умевший бороться с войсками Александра, наносящий непрерывные поражения, оставаясь неуловимым, пока его не предали князья, перешедшие из личных выгод на сторону македонского завоевателя».
Писатель убежденно сделал своего главного героя – Спитамена – выходцем из простого народа, сыном согда и скифской женщины, чем символизировал желаемый союз соседних народов в борьбе за свою свободу, хотя, конечно, знал, что «исторический» Спитамен был выходец из персидской знати. «Спитамен остался жить – отрезанная голова была другого», и он «продолжит борьбу с врагами, терзающими его Родину», записал автор в дневник. В этом В. Ян твердо следовал своему творческому принципу создания героических образов: «Герои должны быть не такими, какими они бывают в действительности, а какими они должны быть, чтобы стать идеалом!»
«Так возникла, – завершает В. Ян, – историческая повесть об этом талантливом, но жестоком завоевателе. Книга вышла в свет крайне урезанной, без ее начала и конца, многих глав, вследствие недостатка тогда бумаги у Издательства».
Не удовлетворенный сокращенным изданием, писатель впоследствии часто возвращался к этой книге, дорабатывал ее; он набросал план трилогии, где «Огни на курганах» должны были занять промежуточное место между «началом» и «концом» завоевательных походов Александра Македонского. В октябре 1941 года, направляясь в эвакуацию в поезде, составленном из подмосковных «электричек», отнюдь не в «творческой обстановке», писатель ежедневно продолжал работать и написал «Смерть Каллисфена», ставшую эпилогом полного (посмертного) издания повести.
Публикуемый в настоящем Собрании текст, дополненный и переработанный с учетом позднейших пометок автора, содержит ранее отсутствовавшие: первую часть, песни Саксафара во второй части, три главы в третьей части, две главы в четвертой части, одну в пятой и эпилог. В этом виде повесть вышла в свет в 1969 году, через 15 лет после кончины автора. Она переиздана у нас 12 раз и 5 раз за рубежом.
Повесть «Спартак» вышла в свет в 1933 году (изд. «Молодая гвардия»). «В 1927—29 годах исполнилась двухтысячелетняя годовщина изумительной трехлетней борьбы, которую вели бесстрашные гладиаторы и рабы под предводительством Спартака – против могущественного тиранического Рима, – писал В. Ян. – Многочисленные общества, кружки и заводы у нас в стране, носящие имя гениального фракийца, упустили это и ничем не отметили годовщину великого восстания рабов». [340]340
Здесь и далее цитируется: В. Ян. «Оклеветанный Спартак», «Где же настоящий Спартак?», черновики статей и писем в редакции; записи в дневниках 30-х годов. – Архив В. Яна. В. Ян. «Как издан «Спартак». – «Книга– молодежи», 1932, № 5.
[Закрыть]
«В своей повести «Спартак» я попытался показать сурового фракийца, смелого вождя восставших рабов, талантливого организатора, сумевшего объединить людей различных национальностей. Книгу я написал отчасти в противовес роману Р. Джованьоли, где автор заставляет Спартака вести себя недостойно вождя восстания».
Когда Д. Гарибальди прочел роман Р. Джованьоли (в 1870 г.), он прислал автору письмо, где, между прочим, писал: «Вы, римлянин…образ Спартака– этого Христа-искупителя рабов– изваяли резцом Микеланджело» [341]341
Письмо Д. Гарибальди– Р. Джованьоли. – Р Джованьоли. «Спартак». «Молодая гвардия», Д., 1947.
[Закрыть]. В. Ян отмечал, что «историческая ценность романа Джованьоли относительная, так как Спартак выведен не тем суровым, могучим фракийцем… каким он был по описаниям Аппиана, Плутарха, Флора и других римских историков, а именно «Христом рабов»,который, как романтический рыцарь, то и дело краснеет, и бледнеет, и плачет, и одновременно с великим делом освобождения рабов занят любовными чувствами к Валерии– «божественной красавице», аристократке, богатой и знатной патрицианке, жене диктатора Суллы (!). ради которой он бросает свой лагерь (!!) и спешит на трогательное свидание с ней (!!!).
Весь этот роман Спартака с Валерией выдуман. Джованьоли должен был знать, но умолчал об этом. что. по сообщению Аппиана, у Спартака была жена-фракиянка,которая участвовала вместе со Спартаком не только во всех трудностях походной жизни, но и в сражениях Роман полон и других исторических неточностей, выдумок и натяжек».
«Мы знаем личности в истории, полные исключительной силы, которые своими подвигами привлекают внимание человечества, погибая за великую идею, которой они всецело посвятили свою жизнь. Таким исключительным человеком был Спартак. воодушевленный страстью к освобождению рабов и ненавистью к тиранам. Пытаться выводить такие необычайные, героические фигуры в виде счастливых или страдающих любовников – это значит снижать и опошлять их образы».
Указывая на «клеветническое изображение» Спартака, «якобы тайно встречавшегося с Крассом и предлагавшего сдаться тому на милость (!). чтобы сохранить себе жизнь». В Ян писал. «Можно ли даже на мгновение допустить, чтобы кто-нибудь из любимейших наших героев гражданской войны, например, Чапаев, отправился на свидание с генералом Деникиным, предлагал от имени товарищей сдаться в плен и затем. мирая под обстрелом белогвардейских пулеметов, направлял свою «последнюю мысль, последнее биение сердца», скажем, к какой-нибудь герцогине или графине? Одна такая мысль покажется всем чудовищной и невероятной!»
В Ян обращался и к своим коллегам, писателям-историкам. призывая их «создан» новую оригинальную повесть, дающую яркую и правдивую картину борьбы Спартака, как вождя и олицетворение рвущих цепи народностей, угнетенных хищным Римом…»
Величественная тема восстания рабов Рима настолько увлекла писателя, что он написал либретто балета «Спартак», и оно было одобрено Художественным советом московского Большого театра, а музыку предложили написать «Мясковскому, Шостаковичу, Кабалевскому…»; тогда же В. Ян стал соавтором балета «Спартак», готовившегося к постановке по его либретто Тбилисским театром оперы и балета, и пантомимы на ту же тему в театре К. А. Марджанишвили. Эти замыслы не были осуществлены по причинам, от В. Яна не зависящим (были репрессированы некоторые руководящие музыкальные деятели обоих театров, от кого зависела постановка балета), а вскоре А. Хачатурян написал музыку триумфально прославившего его балета «Спартак».
Повесть издана у нас 15 раз, в том числе на адыгейском, туркменском, латышском, киргизском, узбекском языках, и 8 раз за рубежом.
В основу рассказа «Голубая сойка Заратустры» лег эпизод из повести «Огни на курганах» (Часть шестая. Глава «Базилевс в Бактре»). Автор предполагал включить рассказ в третью часть задуманной трилогии о нашествии Александра Македонского на Азию.
Летом 1945 года, будучи в подмосковном Доме творчества писателей «Передел-кино», В. Ян. размышляя о новых главах повести, записал в дневник: «…гуляя по окрестностям, пришли к Мичуринскому саду, нашли какую-то добрую женщину. У нее голубая сойка-зимородок,совсем ручная. Взлетит на ветку дерева, потом возвращается в комнату. Садится на плечи, просит еды, разевая клюв, как галчонок.»
Сойка взлетела на плечо писателя, вспорхнула на его голову и стала перебирать клювом седые пряди волос; слетев на дверь, замяукала по-кошачьи, заскрипела, повторяя имя «Ми-тя… Ми-тя», а когда В. Ян просвистел музыкальную фразу, сойка повторила ее мелодию… Встреча с «говорящей сойкой» вдохновила писателя, и птичка стала прообразом маленькой героини его рассказа. «Ведь такая голубая сойка – священная птичка Заратустры; он ее научил говорить самую свою главную заповедь, и она передала это умение своему потомству до наших дней…»
В. Ян поясняет, что он создал рассказ, «чтобы объяснить, почему Александр сжигает книги (свитки): в них возвеличивается род персидских царей, якобы «поставленных от Бога», а македонец сам «божественного происхождения»,а потому возлагает на себя все привилегии, бывшие у древних персидских царей».
Впервые рассказ опубликован в сборнике «Загадка озера Кара-Нор» (М. изд. «Советский писатель». 1961)
«Письмо из скифского стана» продолжает сюжетную линию «кифареда Аристоника», начатую в повести «Огни на курганах» (Часть первая «Александр в долине Седых гор»). Упоминается здесь и о скифе Будакене. Рассказ написан в Москве в конце 20-х годов по воспоминаниям о путешествии в 1903–1904 годах через Северную Персию и встрече в пустыне Деште-Лут с кочевым племенем амазонок «машуджи» свободного народа «Люти». Впервые он напечатан в журнале «Всемирный Следопыт», 1929, № 1.
«Ватан» продолжает и развивает сюжетную линию «Письма из скифского стана» Рассказ начат в Москве в середине 30-х годов по воспоминаниям о встрече с племенем «машуджи» (см. выше); закончен в 40-х годах под впечатлением от национально-освободительного движения зарубежных азиатских народов. Впервые опубликован в сборнике «Загадка озера Кара-Нор».
Рассказ «Демон Горы» написан в 1943–1944 годах в Ташкенте по воспоминаниям о путешествии через Персию в начале века (см. выше). Впервые опубликован в сборнике «Загадка озера Кара-Нор».
«Афганские привидения» написаны (предположительно) в Ташкенте в 1906 году по воспоминаниям о путешествии через Персию (см. выше). Впервые напечатан в газете «Россия» от 25 декабря 1906 года (7 января 1907), вскоре после приезда автора в Петербург и начала службы в этой газете.
«Овидий в изгнании» – написан в конце 20-х – начале 30-х годов в Москве; автор упоминает в дневнике, что, работая над «Финикийским кораблем», он еще начал повесть, до сих пор не оконченную, «Овидий в изгнании»: «…Я воспользовался этой темой, чтобы описать жизнь и быт фракийцев, сарматов, гетов и других племен Черноморского побережья, из каких вышел свободолюбивый Спартак».
Будучи корреспондентом ПТА (Петроградское Телеграфное Агентство), в годы первой мировой войны В. Ян посетил Констанцу, места, где два тысячелетия назад находился город Томы, в котором жил и умер Овидий. Эти впечатления поспособствовали автору создать живую картину последних лет жизни в Томах великого поэта.
Впервые рассказ опубликован в сборнике «Загадка озера Кара-Нор».
«Трюм и палуба»– написан в конце 20-х годов в Москве, толчком к его созданию (о чем сообщает автор) стало описание в иностранном журнале находки остатков древнеримского корабля на дне озера Неми вблизи Рима.
Впервые рассказ напечатан в журнале «Вокруг Света», 1929, № 16.
М. В. Янчевецкий,ответственный секретарь Комиссии по литературному наследию В Яна.