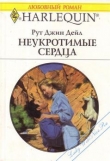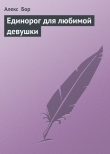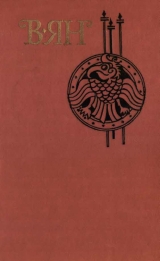
Текст книги "Том 1"
Автор книги: Василий Ян
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 44 страниц)
Непосредственным адресатом спора стал широко, можно сказать, всемирно известный одноименный роман Раффаэлло Джованьоли. Не без чрезмерной категоричности суждений Василий Ян отказывал этому роману в историзме, а его главному герою в историчности. Под полемический обстрел при этом бралась невольно и традиция некритического восприятия «Спартака» Джованьоли русским общественным сознанием, причем передовым, демократическим, революционным. Не случайно первым его переводчиком и публикатором на русском языке был писатель-революционер, один из героев народнического движения, С. М. Степняк-Кравчинский. Так кто же, спрашивается, прав, он или Василий Ян, в оценке итальянского романа? И чей Спартак, итальянского или советского писателя, истиннее по отношению к своему историческому прототипу?
Как ни парадоксально прозвучит это на первый взгляд, ответим со всей определенностью: в пределах своего творческого мира и в историко-литературном контексте своего времени прав каждый. Как равным образом и оба Спартака имеют одинаковое право на существование в системе «взаимоотношений» истории и литературы. На том и покоятся различия между той и другой, что субъективность историка не в пример писателю имеет близлежащие пределы, которые ограничены достаточно жестко. Тяготея к точной, однозначно научной формуле, она, как правило, исключает возможность равновариантных «прочтений» прошлого. Не то в литературе, которая в силу своей образной природы обладает уникальной возможностью «прочитывать» и «перечитывать» историю многовариантно – зачастую в разных версиях даже одних и тех же событий, судеб. Раньше и прежде всего потому, что одним из краеугольных критериев их истинности становится для нее не столько документально удостоверенная фактология события, сколько художественная правда характера или, по Белинскому, «истина относительно человеческого сердца, человеческой натуры» [17]17
В. Г. Белинский. Поли. собр. соч., т. VII. М., Изд-во АН СССР, 1955, с. 527–528.
[Закрыть]. Немалую роль играет национальная литературная традиция как опора и ориентир художественного поиска писателя. В данном случае – романтическая, которой следовал Джованьоли, и социально-аналитического реализма, к которой тяготел Василий Ян.
Не романтизируемый рыцарь в роковом треугольнике «фантастической и неправдоподобной любви», а человек великой идеи, личность «исключительной силы», воодушевленная «страстью к освобождению рабов и ненавистью к тиранам» [18]18
В. Ян. Путешествия в прошлое. – «Вопросы литературы», 1965, № 9, с. 103.
[Закрыть],– таким воссоздавал Василий Ян своего героя, благородного и отважного гладиатора-фракийца (Фракия располагалась на территории современной Болгарии). Его «грозное имя», поднятое им восстание в Капуе, победа над отрядом легионеров Клодия Пульхра несут рабам и бесправным земледельцам «неожиданную возможность свободы». До семидесяти тысяч человек собирается поэтому в его войске всего за несколько месяцев, и оно превращается в силу, которой страшится надменный, спесивый Рим, обложенный малыми и большими очагами прорвавшегося наружу, вовсю полыхающего гнева.
Обратим, однако, внимание на публицистичность авторского повествования, не оставляющую места изобразительности. Создается впечатление, что лексический строй, стилевая организация речи рассчитаны скорее на хроникальное воссоздание общего хода событий, нежели на нестесненное самопроявление, психологически углубленное самораскрытие героя в конкретных действиях. Произошло это, наверное, потому, что увлечение писателя спором с беллетризацией исторического материала, полемикой с романтизацией доподлинного героя принесло повести не только концептуальные обретения, но и художественные потери. Сосредоточивая, в полемический противовес Джованьоли, преимущественный интерес на социальной типологии Спартака, Василий Ян ослабляет индивидуальное, личностное начало характера, от размыва которого не спасают ни чистая, целомудренная любовь, ни бескорыстная, благородная дружба: обо всем, что лично, интимно, сообщается беглой и блеклой скороговоркой. Непроявленная же индивидуальность характера, в свою очередь, ослабляет социальный драматизм, психологическое напряжение даже заведомо выигрышных сюжетных коллизий, ударных конфликтных ситуаций, какие бы нереализованные возможности «человековедческих» открытий они в себе ни таили.
Таковы в повести «Спартак» ситуации и коллизии, возникающие на волне разногласий, которые начинают разделять восставших рабов, завороженных успехами первых побед. Писатель обозначает и разрешает их не столько на изобразительном художественном, сколько на описательном публицистическом уровне, заданном ораторской патетикой прямой речи героя: «Послушайте меня, беспечные безумцы! Я вас еще раз зову уйти из Италии, пока не поздно. Впереди Альпийские горы. Если мы пройдем через них, то окажемся в стране, куда не доберутся хищные лапы римских богачей. Там мы найдем свободу. Вы слышите это чудесное, могучее слово: свобода! Мы построим свое небывалое государство свободных, равноправных, счастливых людей. Это будет государство солнца и радости. Мы покажем пример, и к нам примкнут другие народы, наши ряды будут расти с каждым днем. Сейчас восставших сто двадцать тысяч. Их станет во много раз больше». Такой же прямой речью декларируются чистота, благородство помыслов, которыми руководствуется Спартак как вождь восстания: «Смерть нам грозит всегда. Я готов драться и умереть вместе с вами. Но ходить с вами грабить города, как простой разбойник, я не стану. Чем выше будет наша цель, тем дальше будет наш славный путь».
Не желая выводить Спартака героем романтическим, Василий Ян превратил его в героя идеального, возвышаемого над своим временем. И это при том, что в повествование вовлечены конкретные исторические обстоятельства эпохи, ее социальные, психологические, бытовые реалии. Здесь и жестокий обычай «десятисмертия», к которому прибегает Красе, казня за ослушание вверенного ему войска каждого десятого воина, и его же хитроумный батальный маневр, разгаданный и сорванный Спартаком, не позволившим заманить себя в ловушку. Но все-таки ключ к поэтике повествования не в выразительности подобных эпизодов и сцен, а в патетичности публицистических вторжений автора в сюжетное действие. Вплоть до трагедийного финала, когда «кровавым памятником победы Красса над Спартаком» высятся «шесть тысяч крестов, на которых живыми были распяты захваченные в плен гладиаторы».
Не относя повесть «Спартак» к творческим удачам Василия Яна, рискнем предположить, что похоже смотрел на нее и сам писатель, извлекая урок, который помог ему надежнее закрепиться на своем, отталкиваясь от чужого, тверже осознать, что преимущественная публицистичность письма – не его стихия. Недаром, думается, не увлекла она писателя в примыкающих к повести «Спартак» рассказах из древнеримской эпохи – «Трюм и палуба» (1929) и «Овидий в изгнании» (1934).
Первый являет собой оригинальный образец писательского воображения, творческой интуиции, домысла и вымысла, когда происходит невидимая переплавка исторического факта в художественный образ. Как явствует из авторского примечания к рассказу, эмоциональным первотолчком к созданию его послужила уникальная археологическая находка на дне озера вблизи Рима, о которой Василий Ян узнал из зарубежного журнала. Поднятая со стометровой глубины галера напомнила об увеселениях и празднествах, которые устраивались на озере во времена Римской империи. Затонувшая галера вполне могла быть одним из императорских судов. Но если так, то почему она затонула? Откуда взялись отверстия, прорубленные в ее днище? Какая драма могла разыграться в трюме или на палубе? Не на нее ли указывают невольничьи кандалы и цепи, прикованные к скамьям? Задаваясь подобными вопросами, писатель отвечал на них воображаемой остросюжетной сценой, которую отнес к годам правления императора Калигулы и мотивировал приступом его безрассудного гнева. Так воскрешалась вымыслом реальность жизни «в еще могучем, но уже гниющем Риме» с его рабством, насилием, пресмыканием патрициев перед цезарем.
Со вторым рассказом в прозе Василия Яна утверждалась и расширялась намеченная в «Огнях на курганах» образом Каллисфена тираноборческая тема неподкупности и стойкости таланта, его не подвластности насилию, духовной и творческой свободы. Рассказ при жизни писателя не был опубликован. Наверное, потому, что наступала пора, когда гражданственное неприятие тирании, даже если ее персонифицировал император Август, защиту независимого от нее творчества и не поколебленного ею достоинства творца становилось возможным принять за непозволительную «аллюзию», опасную крамолу…
Не по публицистическому пути пошел Василий Ян и в освоении тем русской истории, к которым обращены три «Повести о железе», или другое название цикла – «Рудознатцы». Две из них – датированные 1934 годом «Секрет алхимика» и «Путешествие по России» – остались ненапечатанными, опубликованная же третья – «Молотобойцы» (1933) – предшествовала им по времени написания, но следовала за ними по хронологии действия. В ней сюжетно соединены два пласта: история становления, развития отечественной металлургии в петровскую эпоху и драматически напряженные картины социальных отношений в самодержавном, крепостническом государстве. Увлекательный рассказ о первых «железных заводах» на Руси, их продвижении из центра страны (из-под Тулы и Серпухова) на Урал, кузнечном деле и быте кузнецких слобод, технологии рудных разработок и плавки металлов перемежается с впечатляющим описанием кабалы, в какую попадают крестьяне, насильственно приписанные к заводам, подневольного труда людей, скованных цепями, работающих под угрозой батожья. Их неистребимый дух непокорства, выплескивающийся стихией сопротивления насилию, воплощен в ярких фигурах бунтарей, которые символизируют жизнестойкость народа как подлинного творца национальной истории. Так, обостренное патриотическое чувство, сопровождающее вдохновенную поэтизацию мастерства и таланта русских умельцев, последовательно сопрягается у Василия Яна с развитым социальным мышлением, принципиально чуждым какой бы то ни было идеализации многовекового прошлого, воспринимающим действительность далекой эпохи в обусловленной временем конкретности ее объективных противоречий – жестоких драм, суровых контрастов. Но одновременно – и с безотказным пафосом социального и нравственного оптимизма, который питает жизнедеятельная энергия народа, творчески созидающего свою историю, материальную и духовную культуру.
Тематически и проблемно повесть «Молотобойцы» отвечала крупномасштабному замыслу Горького, нацеливавшего писателей на создание эпической «Истории фабрик и заводов». Неотъемлемую страницу в нее вписывает также рассказ «Плавильщики Ванджа» (1933): сюжет его соединяет «наглядное представление… о способе добычи руды и получении железа, практиковавшемся много веков тому назад», и картины новой советской жизни, которая, невзирая на разорительные набеги басмачей, побеждает «в малодоступной долине Вандж, затерянной в предгорьях Памира».
Начало 30-х годов было для Василия Яна на редкость плодотворным творчески. Начиная с «Финикийского корабля» и кончая «Молотобойцами», этим временем датируются все обозреваемые исторические повести писателя и в их ряду еще одна– «Роберт Фултон» (1933), повесть-биография из истории мировой изобретательской мысли в области точной механики, паровых машин, кораблестроения. Помимо этого, к 1932–1935 годам относятся наброски популярной книги для юношества «От домни-цы до домны», оставшиеся неопубликованными большая очерковая книга о строительстве «Два канала», несколько пьес, рассказов и политическая повесть-памфлет «Энигма» о Тихом океане как возможной арене новой мировой войны. Ее предчувствие, обостренное победой фашизма в Германии, возвратило писателя к давнему замыслу эпического романа о Чингисхане, которому суждено будет стать началом эпопеи в трех книгах. Заявку на первую Василий Ян предложил издательству в 1934 году.
4. Главные книги
Проявленное А. М. Горьким доброжелательство к роману «Чингиз-хан» не облегчило его издательскую судьбу: обличение тирании и деспотизма, жестокостей насилия и бесправия, даже если они совершались в далеком прошлом, становилось в 30-е годы все более не в чести. Неудивительно поэтому, что роман, упорно отвергаемый одним издательством за другим, был напечатан лишь в 1939 году. Чтобы это наконец случилось хотя бы на исходе десятилетия, в сознании, мироощущении общества должно было укорениться чувство надвигающейся опасности. Оно росло по мере того, как фашизм раскрывал свою агрессивную сущность, все яснее выдавал свою готовность к войне, все громче притязал на мировое господство. Сделать упор на военные, на героические темы – к такому извлечению неослабно актуальных уроков мировой и отечественной истории призывал в те годы академик Е. В. Тарле [19]19
См. «Литературная газета», 1940, 6 октября.
[Закрыть]. «Чингиз-хан» Василия Яна оказался одним из первых романов, которыми советская литература отвечала на неотложный социальный заказ эпохи, настоятельную духовную потребность времени.
Осознание их писателем было тем тревожнее и острее, что грозного приближения недалекой войны вплотную к советским границам не видели лишь те, кто не хотел видеть, – «шапкозакидатели» разных рангов и уровней, фанфарно клявшиеся разгромить агрессора на его же земле, причем «малой кровью, могучим ударом». Напряженная политическая ситуация в стране и мире, настроения, отвечавшие противоречивому состоянию умов в советском обществе, по-своему, где опосредованно, а где и впрямую, предопределили в романе «Чингиз-хан» и проблемно-тематическое содержание, и даже сюжетно-композиционное построение повествования. «Сперва я колебался, – рассказывал Василий Ян: – описать ли всю жизнь Чингиз-хана или ограничиться одним периодом или эпизодом его жизни? Я пришел к выводу, что необходимо изучить возможно подробнее всю его жизнь и эпоху. А эпизод выбрать наиболее близкий и значительный для советского читателя: вторжение армии Чингиз-хана в Среднюю Азию, на те земли, где теперь находятся советские республики…» [20]20
В. Ян. Путешествия в прошлое. – «Вопросы литературы», 1965, № 9, с. 109.
[Закрыть].
И роман «Чингиз-хан», и последовавшие за ним книги трилогии «Батый» (1940), «К «Последнему морю»» (1951) писатель называл «главным трудом» своей жизни. Разумеется, не в силу колоссальных эпических объемов повествования, тяготеющего к крупномасштабной и широкоохватной форме романной трилогии-эпопеи. Главное в том, что к трилогии в большей мере, чем к какому-либо другому произведению Василия Яна, приложимо ключевое понятие философии истории. Не всякое повествование о прошлом становится историческим романом и не каждый роман превращается в эпопею, но только такое произведение и такой роман, в идеях и образах которого философия истории обретает решающее содержательное и формообразующее значение. Не довольствуясь беллетризованным, хотя бы и добросовестным пересказом того, что было, она вынашивается и строится на фундаменте социальной, нравственной, гуманистической концепции личности и народа, народа и эпохи. Постепенно кристаллизуясь в предыдущих произведениях Василия Яна, философия истории получила в трилогии наиболее полное и цельное выражение, сопрягающее последовательный, осознанный историзм мысли научной и художественной. Этого требовал эпохальный разворот исторических событий, в истоках, на гребне и исходе которых вершились, на века вперед определялись судьбы народов и государств.
В таких всемирно-исторических масштабах воспринимал завоевательные походы монголов К. Маркс, особо выделяя в «Хронологических выписках» историю их «мировой державы». В ее изложении сквозь строгую конспективность хроники всегда и неизменно прорастает недвусмысленная оценка как самих исторических событий, так и личностей, вовлеченных в их бурный водоворот, участвовавших в них или направлявших их необратимый ход. «…Орды совершают варварства в Хорасане, Бухаре, Самарканде, Балхе и других цветущих городах. Искусство, богатые библиотеки, превосходное сельское хозяйство, дворцы и мечети– все летит к черту. Балх, между прочим, был цветущим торговым городом, местопребыванием отличнейших художников…»– говорится о покорении Чингисханом Хорезма. «…Судьба России была решена на столетия. Монголы проникают внутрь России, опустошая все огнем и мечом… Города и деревни были сожжены дотла» [21]21
«Архив Маркса и Энгельса», т. V, с. 219, 221, 224.
[Закрыть], – о нашествии Батыя на Русь. Развернутая характеристика последствий этого нашествия дана в работе К. Маркса «Тайная история дипломатии XVIII века», где аналитическим вниманием и обобщающей оценкой не обойдены ни «ореол ужаса», которым окружали себя завоеватели, ни осуществляемая ими политика «всеобщей резни» среди «населения, которое могло восстать в их тылу». «Татарское иго, – подчеркнуто здесь, – длилось… более двух столетий; это иго не только подавляет, но оскорбляет и иссушает самое душу народа, который пал его жертвой. Монголо-татары установили правление систематического террора, разорения и массового истребления, принимавшего форму соответствующих институтов» [22]22
К. Marx. Secret diplomatic history of the eighteenth century. London, 1890, p. 78.
[Закрыть].
Суждения К. Маркса уместно дополнить фактами и выводами, систематизированными советской исторической наукой, характеризующей падение Киевской Руси под сокрушительными ударами монголо-татарских полчищ и ордынское иго, под тяжкой пятой которого изнывала Московская Русь, в ряду совокупных факторов, отбросивших «цивилизацию значительной части Азии и Европы вспять», затормозивших «исторический прогресс, не принеся никакой пользы самому трудовому населению собственно Монголии» (В. Т. Пашуто) [23]23
В. Т. Пашуто, Б. Н. Флоря, А. Л. Хорошкевич. Древнерусское наследие и исторические судьбы восточного славянства. М., «Наука», 1982, с. 8, 9.
[Закрыть].
Ни в одном регионе мира завоеватели не встретили такого массового, общенародного, героического сопротивления, как на русской земле. Если ко времени монгольского нашествия общее количество городов на Руси, по неполным, вернее, даже по отрывочным летописным данным, приближалось к трем сотням, то среди них, как указывал академик М. Н. Тихомиров, «мы не знаем русского города, который сдался бы на милость победителя. Даже незначительные города татарам приходилось брать силой, и дело доходило до того, что маленький Козельск задержал громадную рать Батыя под своими стенами на несколько недель. Защитники его нанесли татарам такой ущерб, что Батый назвал его «злым городом», запретив впредь называть Козельском». Тем невыносимей были неисчислимые бедствия, какие обрушили пришельцы на непокорную землю. «Татары вели себя в России, как в завоеванной стране. Дань их не удовлетворяла, им нужны были пленники, которых они обращали в рабов и продавали на своих рынках» [24]24
М. Н. Тихомиров. Древняя Русь. М., «Наука», 1975, с. 67, 382–383, 383–384.
[Закрыть].
Наконец, трагедия монголо-татарского владычества над русской землей, отозвавшаяся в песенно-поэтическом творчестве народа безутешными, скорбными плачами [25]25
См. «Авдотья Рязаночка», «Гибель полонянки», «Спасение полонянки», «Девушка взята в плен татарами», «Полонянка надеется на выкуп», «Татарский полон» и др. в кн.: «Исторические песни. Баллады». М., «Современник», 1986.
[Закрыть], была трагедией великой древнерусской культуры, на общем фоне которой, показывает академик Д. С. Лихачев, даже вершинное «Слово о полку Игореве» не высится одиноким, исключительным памятником. «Русь до ее монгольского завоевания была представлена великолепными памятниками зодчества, живописи, прикладного искусства, историческими произведениями и публицистическими сочинениями… Ее культура не была отсталой или замкнутой в себе, отгороженной «китайской стеной» от внешнего культурного мира… Ее культура была единой на всей огромной территории от Ладоги и Белого моря на севере до черноморской Тмуторокани на юге, от Волги на востоке и до Карпат на западе» [26]26
Д. С. Лихачев. «Слово о полку Игореве» и культура его времени». Л., «Художественная литература», 1978, с. 3.
[Закрыть].
Таковы исторические «опоры», на которых Василий Ян, зачастую идя первопутком и тем самым опережая науку, возводил идейно-образную систему трилогии. Давнее видение «лютой пустыни» Дешти-Лут не случайно отозвалось в ней апокалиптической символикой обезжизненной, испепеленной земли: «…все гибло и обращалось в пустыню там, где проходили монголы». В первом романе это и обезлюдевшие караванные пути, и пепелища Отрара, Бухары, Самарканда, напоминающие о «скорбных днях, пережитых народами Хорезма». Во втором – «мертвое поле» под Рязанью, где лишь «волки и вороны продолжали свой кровавый пир» после битвы, «груды золы и каменных обломков» на месте шумного, людного Козельска, «багровое зарево пожара» над Угличем. Уже зерно замысла содержало у Василия Яна его будущие ростки – мысль, которую писатель считал основной в трилогии: «хищническая, насильственная политика Чингиз-хана обречена на гибель, как противная высшим идеалам человечества» [27]27
В. Ян. Путешествия в прошлое. – «Вопросы литературы». 1965, № 9, с. 110.
[Закрыть]. В страстном утверждении бесплодности тирании, бездуховности деспотизма, обреченности человеконенавистничества заключен важнейший творческий урок трилогии – урок действенного оптимизма и гуманизма художественной мысли, которая выдерживает сопоставление с мыслью научной по всем их общим философским, социальным, духовным параметрам и критериям.
«Татарам поддались мы совсем не от смирения (что было бы для нас не честью, а бесчестием, как и для всякого другого народа), а по бессилию, вследствие разделения наших сил родовым, кровным началом, положенным в основание правительственной системы того времени» [28]28
В. Г. Белинский. Поли. собр. соч., т. X, М., Изд-во АН СССР, 1956, с. 24.
[Закрыть],– писал Белинский в статье «Взгляд на русскую литературу 1846 года». Художнически исследуя причины национальной трагедии, еще не распознанной, но уже предвосхищенной в битве на Калке. Василий Ян воплотил их в проявлениях узкосословной, эгоистически кастовой морали феодальных верхов. На се почве произросло предательство рязанского князя Глеба, отвергнутого не только родным народом, но даже завоевателями, которые обрекают его на одинокие скитания в степи. Вероломным изменам, корыстному смирению перед ордынским игом противостоит в романс «Батый» патриотизм народа, воплощенный и в отчаянном самоотречении молодой княгини Евпраксии, с сыном на руках бросившейся из терема «на черневшие внизу камни», и в героическом самоотвержении «неистового» Евпатия Коловрата, его друга Ратибора, и в ратных делах Савелия Дикороса, Лихаря Кудряша, Опалёнихи. воинов Торопки, Апоницы, Шибалки, многих других представителей социальных низов феодальной Руси. Так роман, обращенный к трагичнейшим страницам русской истории, стал романом, написанным во славу народного подвига.
Русские «необозримые равнины поглотили силу монголов и остановили их нашествие на самом краю Европы; варвары не осмелились оставить у себя в тылу порабощенную Русь и возвратились на степи своего востока. Образующееся просвещение было спасено растерзанной и издыхающей Россией…» [29]29
А. С. Пушкин. Собр. соч. в 10-ти томах, т. 6. М., «Художественная литература», 1976, с. 360–361.
[Закрыть]– размышлял Пушкин об исторических масштабах этого подвига. О благодарном преклонении перед ним потомков писал Чернышевский: «…нет, не завоевателями и грабителями выступают в истории политической русские, как гунны и монголы, а спасителями – спасителями и от ига монголов, которое сдержали они на мощной вые своей, не допустив его до Европы, быв стеной ей, правда, подвергавшеюся всем выстрелам, стеною, которую вполовину было разбили враги…» [30]30
Н. Г. Чернышевский. Поли. собр. соч., т. XIV. М., Гослитиздат, 1949, с. 48.
[Закрыть]. Такова правда истории, которая, обретя под пером Василия Яна самобытное художественное воплощение, начала свою новую жизнь в сюжете трилогии. И прав был исследователь мировых судеб реализма Б. Сучков, видевший в ней «новый взгляд на историю как на коллективное творчество народных масс и арену их борьбы за свободу против угнетателей… Ясная гуманистическая идея, пронизывающая романы В. Яна, позволяет ему в полном объеме показать разрушительную, деструктивную роль Чингиз-хана в истории, мнимость величия его мрачных деяний, кровавую свирепость, сопутствовавшую его завоевательным походам» [31]31
Б. Сучков. Современность и реализм. – «Знамя», 1965. № 9, с. 222–223.
[Закрыть].
Охарактеризовав целостный архитектурный облик романного здания, возведенного Василием Яном, рассмотрим теперь его отдельные детали, начав с «прототипических» реалий сюжета, имевших в действительности соответствующие аналоги. Какова их художественная роль в повествовании?
Обратимся для примера к разладу Чингисхана со старшим сыном. По свидетельству исторической науки, оставленный в Хорезме наместником Чжочи (Джучи) «старался избавить край от разорения и говорил приближенным, что «Чингисхан потерял рассудок, так как губит столько земель и народу»… Есть глухие сведения о том, что Чжочи даже был намерен убить Чингисхана во время охоты. Его замысел стал известен отцу, и полагают, что Чжочи был отравлен по его приказу» [32]32
Е. И. Кычанов. Жизнь Темучжина, думавшего покорить мир. М., «Наука» 1973, с. 134.
[Закрыть]. Исключая замысел отцеубийства, почти так – вплоть до непочтительных слов об отце и насильственного устранения непослушного сына – разворачивается действие и в первом романе Василия Яна. Но «неукротимый и своенравный Джучи» в нем – кривая тень Чингисхана. «Он был похож на отца высоким ростом, медвежьими ухватками и холодным взглядом зеленоватых глаз», которые на все вокруг глядят пристально и мрачно». Потому и отослал его Чингисхан «подальше, в самый крайний угол своего царства, и приставил к нему тайных соглядатаев», что подозревает в нем соперника, который «жаждет вырвать… поводья царства, а отца посадить в юрту для дряхлых стариков». Стало быть, такой Чжочи не совсем истинен? И писатель не был вправе интерпретировать его подобным образом? Ничуть не бывало. Герой романа для Василия Яна– характер художественный, и воссоздание его преследует задачи куда более широкие, чем реставрация исторического прототипа. Писателю было важно акцентировать читательское внимание на культе всепроникающего насилия, не знающей пощады жестокости, которыми в ближайшем окружении Чингисхана определяется и поверяется все, от социально-общественных до семейно-бытовых отношений. Оттого и Чжочи у него не отравлен, как допускали летописцы и предполагают историки, а варварски – «лежал с переломанным, по монгольскому обычаю, хребтом» – убит таинственными убийцами, которые «подосланы самим Чингиз-ханом».
Соответствуют документальным первоисточникам, но не совпадают полностью с ними мотивировки и акценты, разъясняющие эпизоды, в которых действует даосский монах, философ и поэт Чан Чунь, хотя речь его, обращенная к Чингисхану, почти дословно повторяет то, что он говорил в действительности: «Есть средства хранить свою жизнь, но нет лекарства бессмертия». У Василия Яна: «Есть много средств, чтобы увеличивать силы человека, излечивать его болезни и оберегать его жизнь, но нет и не было лекарства, чтобы сделать его бессмертным». История засвидетельствовала, что во времена завоевания Северного Китая монголами Чан Чунь пользовался большой известностью как проповедник даосской религии с ее мистическим культом бессмертия. «Чингис слышал о Чан Чуне и, находясь в западном походе, с берегов Иртыша вызвал его к себе, чтобы воспользоваться секретами даосов и узнать тайну достижения бессмертия. Чан Чунь согласился прибыть в ставку Чингисхана, с одной стороны, безусловно подчиняясь силе, с другой – возможно, надеясь повлиять на грозного хана и уменьшить кровопролитие» [33]33
Е. И. Кычанов. Жизнь Темучжина, думавшего покорить мир, с. 122.
[Закрыть]. Вот и у Василия Яна «стремящийся к «дао», смиренный житель гор Чан Чунь» исполняет «высочайшее повеление» Чингисхана, спешит к нему «через снега, горы и пустыни» в тщетной надежде упросить: «…прекрати свои жестокие войны и повсюду среди народов водвори доброжелательный мир!..». И на этот раз мотив обличения жестокостей насилия, деспотической власти тирана выступает ведущим, тесня диспут правителя и философа о смысле человеческого бытия, тайнах жизни и смерти, который скорее всего имел место в действительности. На ту же писательскую сверхзадачу ориентирована стилистика повествования. У Василия Яна она не чурается и прямолинейно обличительных описаний от автора, в которых сконцентрированы нарочито уродливые черты Чингисхана, чей внешний облик под стать поступкам представлен заведомо отталкивающим, эстетически безобразным. Если он весел, то хлопает «большими ладонями по грузному животу», и рот его растягивается «в подобие улыбки», и хохот уподобляется лаю «большого старого волкодава». Если гневен, приказывает накормить борзую собаку «сердцем мальчишки» – сына поверженного Джелал-ад-Дина, и когда «палач-монгол, улыбаясь до ушей от гордости», подносит ему «маленькое дымящееся сердце», он довольно кряхтит, «как старый боров».
Выстраивая трилогию как эпическое повествование о монголо-татарских завоеваниях, Василий Ян соотносит ее композицию с их хроникой. Соответственно этой хронике первая книга венчается смертью Чингисхана. Единственно с внуком Вату связывает он так и не свершившиеся надежды на то, что надо всей «вселенной… протянется монгольская рука». Выступая во второй книге заглавным действующим лицом, Батый продолжает кровавые «великие дела, которые не успел выполнить его дед, Священный Потрясатель вселенной». Такое сюжетно-композиционное построение эпопеи – одна из граней ее образной структуры. С нею взаимосвязана грань стилевая, сейсмографически точно фиксирующая, «материализующая» идейно-художественные особенности повествования.
Так, важнейшим критерием, направляющим ориентиром, которых придерживался верный себе Василий Ян. на протяжении всей трилогии выступают социальные реалии, психологические детали, бытовые подробности воссоздаваемой эпохи. Точность их живописания становится нормой повествования. Если прикладывает Чингисхан золотую печать к пергаменту – письму хорезм-шаху Мухаммеду, – то писатель не забывает отметить, что она смочена синей краской, пояснив при этом в сноске: на письмах монгольского хана к повелителям других народов ставилась синяя печать, на обыкновенных документах – красная. Если появляется впервые в трилогии малолетний Бату, то непременно «с небольшим луком и тремя красными стрелами», потому что именно три красные стрелы считались признаком высокого ханского рода. И «девятью девять раз» Джебэ-нойон и Субудай-багатур заставляют воина пропеть свое донесение «единственному и величайшему»: не умея писать, они составляют его в виде песни, которую гонец заучивает наизусть. Повторяет же он песню так многократно потому, что число девять почиталось у монголов как священное. Таково мастерство реалистической детали, которым Василий Ян владеет совершеннее, нежели искусством романтической сюжетной интриги.
Собственно сюжет трилогии задан историей и географией завоевательных походов Чингисхана и Батыя. Безупречно выдерживая его на уровне исторического повествования, писатель не всегда преодолевал сопротивление приключенческой беллетристики. Возможно, и не было бы нужды укорять его в этом, если бы обретение авантюрной занимательности не сопровождалось подчас ослаблением социально-психологического анализа. Так, в частности, происходит в начальных главах романа «Батый», повествующих о злоключениях будущего джихангира, военачальника похода на Русь, которые вызваны его враждой с другим чингизовым внуком, Гуюк-ханом.
Едва ли не хрестоматийно суждение Василия Яна о взаимоотношениях искусства и науки в писательском творчестве: «Грош цена тому историческому произведению, которое извращает точно установленные факты, даты, зафиксированные на страницах памятников». И в малой мере не противоречат ему раздумья о мастерстве исторического романиста, которые свидетельствуют, что писатель, однако, считал невозможным пренебрегать художественностью ради того, чтобы всегда и всюду «заботиться о безусловной научной точности в описании жизни своего героя, отделенного туманом столетий, в особенности когда нет описаний очевидцев, закрепленных слов, сказанных героем». Двуединая задача романиста в таких случаях состоит, на его взгляд, в том, чтобы «с одной стороны, придерживаться некоторых безусловно точных «ориентиров», а с другой стороны – свободно творить, имея художественное прозрение, бросая лучи критического и творческого прожектора в далекое прошлое, выбирая из хаоса возможностей наиболее характерные, индивидуальные черты своего героя, стараясь создать образ живой, полнокровный, незабываемый и в то же время правдивый». Сопрягая одно с другим, Василий Ян убежденно ратовал за «самую широкую свободу творческому домыслу автора, его фантазии, лишь бы этот домысел и фантазия были строго построены на точных фактах научно-исторических исследований. Фантазия, домысел не только допустимы, но даже необходимы, и не только для беллетристического исторического произведения, но и для научного исследования».