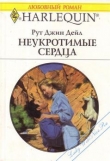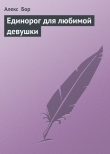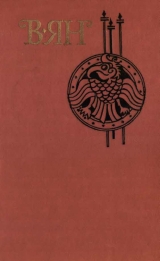
Текст книги "Том 1"
Автор книги: Василий Ян
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 44 страниц)
Глубинные истоки эмоционального переживания, обостренного чувства истории в духовном мире Василия Яна приоткрывает признание, которым он завершил путевые заметки «Голубые дали Азии» (1947–1948): «Увиденные на рубеже двадцатого столетия картины полуфеодальной жизни народов Средней Азии много лет спустя дали пищу моему воображению, чтобы воскресить из небытия сцены жизни древнего Хорезма в повести «Чингиз-хан». Внешность эмира бухарского помогла созданию облика Хорезм-шаха Мухаммеда, посещение Хивинского ханства, островов прокаженных, путешествие через Каракумы и Персию помогли изобразить эпизоды жизни и гибели Хорезма… Эти поездки дали мне краски, впечатления и понимание души восточного человека».
Обратим внимание на годы, которыми датирован приведенный текст: генезис своего творчества Василий Ян объяснял ретроспективно, на склоне жизни. Впрочем, если не знать, что в отличие от «хождения по Руси» путевые заметки о среднеазиатских странствиях создавались не сразу, а во второй половине 40-х годов и не писались, а наговаривались М. В. Янчевецкому, который с трудом склонил не почитавшего мемуаристов отца к работе над воспоминаниями, причем при условии, что запишет их по его рассказу, который затем будет выправлен, отредактирован писателем, – если не знать ничего этого, то «Голубые дали Азии» легко и просто воспринять как прямое продолжение «Записок пешехода». Тем более что на заре своей журналистской и литературной деятельности Василий Янчевецкий предполагал написать как бы продолжающие их «Записки всадника» и долго вынашивал такой замысел в советское время, намереваясь сложить по опробованному в молодости образцу книгу, которая объединила бы все среднеазиатские статьи, очерки, рассказы. Поэтому между реально существующими «Записками пешехода» и «Голубыми далями Азии», как фрагментом ненаписанных «Записок всадника», прослеживается не только внешняя, формальная, но и внутренняя, содержательная связь.
Она в последовательном демократизме авторского восприятия инонационального мира, которое Василий Ян реставрировал так мастерски, что. читая «Голубые дали Азии», забываешь о дистанции в несколько десятилетий. О пережитом почти полвека назад писатель повествует живо и непосредственно, словно видит давнее по-прежнему ясными, заинтересованными. жадными до впечатлений глазами просвстителя-гуманиста, в полной мере разделяющего взгляды и убеждения тех русских людей, которые, непосредственно общаясь «с туркменами, коренным населением Закаспия, явились носителями более передовой по сравнению с тем, что здесь было, русской культуры. Они искренне полюбили Туркмению и Среднюю Азию, жили общими интересами, породнились с населявшими се народами и проделали незаметную, но великую работу по сближению с русским и другими народами России всех национальностей ее бывших «среднеазиатских владений».
Этим передовым людям, истинным представителям русской демократической интеллигенции, противостояла косная обывательская среда чиновников, на которую опиралась царская администрация в Туркестане. Ее усилиями покровители молодого Василия Янчевецкого – начальник Закаспийской области генерал Д. Й. Суботич и его жена – поплатились опалой за то, что оставались «белыми воронами» на верхних ступенях административной власти. Она же яростно отторгала и самого автора «Голубых далей Азии». При отъезде Василия Янчевецкого на русско-японский фронт адъютант генерала Уссаковского, который сменил отозванного и смещенного Д. Й. Суботича, надменно предостерег: «Если вы вздумаете потом вернуться с Дальнего Востока сюда, то мы вас обратно не примем…» Еще бы: воспитанный на гуманистических и демократических традициях русского просветительства, будущий писатель выглядел среди верноподданных службистов-охранителей неблагонадежным чужаком, чье поведение настораживало, чьих увлечений и принципов следовало опасаться.
Чем глубже погружался Василий Янчевецкий в жизнь, тем острее были его порывы к писательскому творчеству. Наблюдаемая и постигаемая действительность откладывалась в закромах памяти, где копились впрок темы и сюжеты, чтобы спустя годы, а то и десятилетия воплотиться в образном строе не только новеллистических, но и романных повествований. В этом отношении рассказы «Афганские привидения» и «Ватан» проросли из одного корня, хоть и с разрывом в четыре с лишним десятка лет. Ветвь того же, «среднеазиатского» ствола – «Письмо из скифского стана» (1928) – рассказ, органично сплавивший автобиографические впечатления и воспоминания с художническим видением многовекового прошлого, живописным воссозданием легенд и преданий «старины глубокой». Так «голубые дали Азии» открывались увлеченному взору не только во всю свою пространственную ширь, но и временную глубь. Из нее являлись лица и голоса, будоража воображение неведомой судьбой древних городов и селений, былых караванных дорог, немногие, редкие следы которых еще сохранились на некогда благодатной земле, где жизнь, «распустившись однажды пышным цветением, исчезла, словно се и не было…
Останавливались на ночлег мы в открытой степи. Ночью слышались завывания и визг шакалов. Стреножив, напоив и накормив коней, уложив верблюдов, лежа возле тлеющего костра или забравшись в раскинутую палатку, мы мгновенно засыпали, усталые, измученные трудной дорогой.
Вглядываясь в окружающую мертвую пустыню, я невольно думал:
«Наверное, и климат здесь раньше был другой. Ведь по этой равнине некогда проходили многотысячные армии Александра Македонского, Чингиз-хана, Тамерлана, других завоевателей. Чем они питались? Где поили вьючных животных и коней? Что принесли они с собой и что после себя оставили?..
Разрушения, смерть, развалины городов и селений, гибель созданной веками культуры, узкую караванную тропу тысячелетней давности– все остальное занесено песком и пылью… Ради чего же воевали эти «потрясатели вселенной»?..»
Думы путника, пересекавшего Дешти-Лут, на одном из ночлегов нашли подтверждение в словах седобородого пастуха, шагнувшего к костру из мрака ночи. «Раньше страна наша была богатой и многолюдной. – задумчиво рассказывал он о многовековом прошлом «лютой пустыни». – Но через эти земли прошли ненасытные, жадные завоеватели и все залили кровью убитых скотоводов и землепашцев. От горя и ужаса напитанная кровью земля сморщилась и высохла. От пролитых слез вдовиц и детей она стала соленой… По этим равнинам промчались отряды Искандера Великого, страшного «потрясателя мира» Чингиза, хана Бабура, Надир-шаха, хромого Тимура… Здесь пролегал великий путь переселения народов, дорога скорби и слез».
В «голой, выжженной солнцем, безводной пустыне», где лишь иногда «на горизонте проносились стада пугливых диких куланов и сайгаков, высоко в воздухе парили орлы», пришел замысел книги, где «центральной фигурой стал бы один из таких могущественных восточных деспотов». Он привиделся вдруг так въяве, что казалось, будто некуда деться от «пронизывающего взгляда его колючих глаз»…
«…Тогда у меня вспыхнула мечта– описать жизнь этого грозного завоевателя, показать его таким, каким он был в действительности: разрушителем, истребителем народов, оставлявшим после себя такую же пустыню, по которой я тогда проезжал.
Но еще немало суждено мне было странствовать, видеть и пережить после странного сна, прежде чем только тридцать лет спустя я смог осуществить эту мечту» [10]10
Цит. по кн.: М. В. Янчевецкий. Писатель-историк В. Ян, с. 106–107.
[Закрыть].
3. Рубежи творчества. 30-е годы
Мечта стала досягаемой в 30-е годы: путь к ней сократили, ее приблизили повести античного цикла, которыми Василий Ян дебютировал как писатель, окончательно утвердившийся в исторических темах. Первая среди этих повестей – «Финикийский корабль» (1930), в приключенческом ключе воссоздавшая колоритный мир древней цивилизации Средиземноморья с ее заманчивыми городами-государствами Тиром и Сидоном.
Рассказывая о творческой предыстории повести, Василий Ян вспоминал свое плавание 1907 года «вдоль берегов Малой Азии» и посещение музея в Бейруте, среди уникальных экспонатов которого он увидел найденные при раскопках «глиняные дощечки с выцарапанными на них надписями непонятными буквами. Это были разрозненные записи древних финикийцев, смелых скитальцев по морям, омывающим Европу и Западную Африку… Желание написать об этих мореплавателях увлекательную повесть для юношества охватило меня…». Доподлинный исторический факт, воспринятый и пережитый эмоционально, дал толчок интенсивной работе воображения. Предназначая повесть юношеству, писатель и главным героем вывел юного финикийца Элисара: «тот, кто приносит счастье» – это означает его имя – отправляется на поиски пропавшего без вести отца, плотника Якира, которого несколько лет назад правитель Тира Хирам послал на работы к царю Соломону. Тому самому Соломону, с чьим именем историографическая традиция издавна связывает «золотой век» древнееврейского государства, период его наибольшего подъема и могущества. Действию повести царь Соломон нужен как компонент достоверного исторического фона, на котором разворачивается занимательный приключенческий, авантюрный сюжет, вымышленный писателем. И как прямой, конкретный повод к идейной полемике с идеализацией истории, ее упрощениями и спрямлениями, даже если они освящены, узаконены многовековой традицией – историко-литературной, мифологической или религиозной. Подобный мотив писательского спора с традицией, закрепившейся в прошлой или укореняемой в нынешней историографии, будет иметь у Василия Яна место в сюжете едва ли не каждого произведения большой эпической формы. В этом отношении повесть «Финикийский корабль» примечательна как первое, начальное звено цепи.
Остросюжетный рассказ о путешествии, которое полным-полно неожиданных происшествий, рискованных и опасных приключений, сопровождают детализированные живописания простонародного, купеческого, аристократического быта, труда ремесленников – горшечников и кузнецов, плотников и красильщиков, торговых правил и обычаев, обучения, врачевания, мореходного дела, множества других, включая работорговлю, сторон финикийской жизни. Воссоздавая ее социальные, психологические, бытовые реалии, писатель добивается образной выразительности и научной точности повествования, в которое вводит познавательно интересные сведения о строении и оснастке древних кораблей, о финикийской письменности, наглядные представления о повседневном укладе города и дома, лавке купца и мастерской ремесленника, о поверьях и предрассудках людей. Такова приметная, можно сказать, типологическая особенность поэтики Василия Яна: о чем бы ни повествовал писатель, он не терпел дилетантской приблизительности. Поэтому если уж готовит в повести мать завтрак сыну, то не еду вообще, а чечевичную похлебку, и не просто на жарком огне, а в медном котелке, поставленном на два кирпича. Если разрисовано ритуально ее лицо, то не как-нибудь, а синими черточками – «от дурного глаза». Тоже и сын под стать ей: если верит в ритуал, отводящий опасность, то следует ему непроизвольным жестом – трижды бросая горсть песку через левое плечо.
Столь же органично включены в повесть «азы» социального знания, которое писатель хочет привить юным читателям. Для этого нужна ему сцена философского диспута о жизни, который в социальных и нравственных понятиях своего времени ведут правдоискатель Софэр, старший друг и наставник юного Элисара, и царь Соломон, истово убежденный в счастье своих подданных. «…Все стенания и все слезы угнетенных, – внушает он собеседнику, – это суета сует, все суета. За все им сторицей заплатится на другом свете. Кривое не может сделаться прямым, и чего нет, того нельзя пересчитать. Кому суждено быть бедным, тому не придется быть богатым. Раб должен терпеливо работать на господина своего, иначе кто же вспашет поле богатого хозяина? Все суета сует и всяческая суета!» Красноречив комментарий к наставлениям царя, который дает Софэр, усомнившийся в мудрости венценосца. «Заметил ли ты, – обращается он к Элисару, – золотой венец на его голове? Но где его мудрость? Он строит здания для себя и жен своих, караваны проходят из конца в конец через страну Израиля, из Египта в Вавилон и обратно. А заметил ли ты, как горят от голода глаза у поселян, как глубоко запали их щеки, как оборвана одежда? Разве ты не видел детей, покрытых струпьями, которые от рождения никогда не были сыты? Подвалы дома царского все больше наполняются золотом, слитками меди и серебра, но все более слабеют люди, работающие на его полях. Услыхав о царских богатствах, придут воины других народов, и тогда некому будет защитить родную страну. Чужестранцы разрушат дворцы царя, прославленного мудрым, и заберут его золото и богатство его, а всех жителей продадут в рабство. Где же мудрость? В такой мудрости таится много печали, и чем больше хвалят мудрость царя, тем больше льется слез у работающих на него…»
В авторском послесловии-заключении Василий Ян приобщает читателей к своей лаборатории писателя, популярно, на доступном юношеству языке излагает задачи, которые решал повестью, указывает на взаимодействие точного исторического знания и свободного поэтического вымысла как признанный над собой, вменяемый себе закон творчества. Погруженное в историю, оно превыше всех ее уроков ставит вечные, общечеловеческие ценности бытия, обогащающие современность. «Ознакомившись с этой повестью, читатель может убедиться, что и в древние времена, так же, как и теперь, люди любили свою родину, трудились, заботились о своих родных и близких; матери так же нежно лелеяли своих детей, оплакивали пропавших и радовались, встречая снова тех, кого считали давно погибшими.
И тогда были пытливые искатели знаний, как Софэр-рафа. Они бродили по разным странам, изучая жизнь народов. Были также ученые, как Санхуниафон-карфагенянин, стремившиеся понять законы Вселенной и происхождение видимого мира и на папирусных или пергаментных свитках излагавшие свои мысли и знания.
Уже тогда мореплаватели, среди которых особенно предприимчивыми и смелыми являлись финикияне, заводили дружеские связи с разными народами, открывали новые земли, а за ними пробирались туда купцы и морские пираты; первые вели меновую торговлю, вторые грабили прибрежные селения и увозили захваченных пленных, обращая их в рабов.
Было ли в действительности путешествие маленького Элисара, сына Якира, на крайний Запад, к Счастливым островам, или это фантазия, сказка – не это имеет значение; более важно то, что вся жизнь и быт той отдаленной эпохи описаны правдиво…»
Основополагающие для себя принципы, которые разрабатывались от произведения к произведению и постепенно складывались в цельную творческую программу, стройную эстетическую систему, Василий Ян сформулировал в развернутых комментариях к следующей исторической повести – «Огни на курганах» (1931). Эту книгу, считал он, уже можно назвать историческим романом: «Работая над ней, я многому научился и в отношении общей композиции, построения фабулы исторического романа, и разрешая вопросы об исторической точности, пределах вымысла, обрисовке характеров героев». Не противоречит ли такой самоаттестации, не отменяет ли ее дневниковая запись 1952 года, где «Огни на курганах» названы «только случайной частью повести. Надо еще много прибавить и скомпоновать»?
Ни в коей мере. «Случайной» для писателя она была лишь в том смысле, что представляла собой воплощенную часть крупномасштабного эпического замысла – вторую книгу задуманной трилогии о «талантливом, но жестоком завоевателе» Александре Македонском. Однако это не мешает воспринимать повесть законченным, целостным произведением, имеющим самостоятельную художественную ценность. Как отмечалось в критике вскоре после ее публикации, писатель «сумел в хорошо известном и многократно изложенном историческом материале найти нечто новое и… близкое к исторической действительности: его «развенчанный» Александр, самолюбивый деспот, уничтожатель народов, не только идеологически приемлем для нашего читателя, он верен» [11]11
Цит. по кн.: М. В. Янчевецкий. Писатель-историк В. Ян, с. 91–92.
[Закрыть].
Отзыв – один из многих – тем более примечателен, что, принадлежа профессиональному историку-востоковеду, свидетельствовал о признании исторической наукой художественной концепции писателя, полемически развитой, воплощенной в идеях и образах повествования. Полемически – по отношению к односторонним, упрощенным и попросту ненаучным интерпретациям реального деятеля мировой истории как в древней и классической, так и в новейшей, буржуазной историографии, где «образ Александра Македонского был крайне идеализирован». Как рассуждал писатель, историко-литературная традиция, сложившаяся «в течение двух тысячелетий», неизменно окружала этот образ «всевозможными легендами и ореолом необычайного величия и благородства», олицетворяла в нем «тип прекрасного монарха, образец добродетели, мужества и великодушия». Такое безудержное «восхваление жестокого завоевателя и истребителя народов получило начало в тех дневниках», какие еще при его жизни «велись специальными секретарями; их держал при себе в походах тщеславный македонский царь. В последующее время, в эпоху римского владычества, в сочинениях римских и греческих историков, начиная с Плутарха, по желанию римского императора, искавшего «идеальных монархов» в прошлом, и далее Курцием, Аррианом и другими, образ Александра крайне идеализировался авторами как великодушного, гуманного вождя, мудрого правителя и т. д. Ясно проступает желание возможно выше возвеличить идею императорского самодержавия, священного происхождения царской власти, чем обосновать «законность» завоевания Римом других земель и народов» [12]12
Цит. по кн.: В. Ян. Огни на курганах. М., «Советский писатель», 1987, с. 689, 688.
[Закрыть].
Если мифологизация Александра Македонского в античной и средневековых литературах Запада и Востока опиралась концептуально на гносеологические предпосылки, историософские и социально-утопические основания, то идеализированным представлениям буржуазного времени он импонировал по соображениям утилитарно политическим – как личность, подчеркивал Василий Ян, «легендарного создателя первой европейской колониальной державы». Четко видя это коренное различие между разновременными историко-литературными традициями, он подверг сокрушительной критике стремление идеологов империализма «оправдать современный неоколониализм ссылками на исторические примеры, показать «цивилизующую роль» колониальных держав, особую роль Европы на Востоке, якобы издревле предрешенную «великую миссию белого человека» в Азии, Африке и других колониальных регионах мира». В ориентированных на эти идеи научных трудах и литературных сочинениях «завоеватель Александр Македонский выведен «просветителем» азиатских «варваров», а его армия носителем «светоча европейской культуры»; непомерно преувеличивается роль и значение похода Александра в дальнейших судьбах народов Азии, принижается и затушевывается борьба завоеванных народов с захватчиками за свою свободу» 2. В противовес таким установкам Василий Ян видел свою задачу писателя в том, чтобы «дать реальный, настоящий образ Александра – разрушителя, интервента, беспощадно и безжалостно истреблявшего своих противников и новых подданных, продавшего в рабство 30 тысяч греков-фиванцев, распявшего на стенах Тира и Сидона героических защитников этих городов, вырезавшего в наказание за восстание население Согдианы». Таковы, настаивал писатель, «точные исторические данные», свидетельствующие, что «Александр был таким же беспощадным завоевателем и истребителем народов, какими были позднее Чингиз-хан, Тамерлан, испанские кондотьеры в Америке, англичане в Индии и другие хищники, создатели колониальных империй… Он оставлял за собой дымящиеся развалины, разрушенные города, целые народы обращал в рабство и продавал, как товар, как рабочую скотину, на рынках…».
Высказанные десятилетия назад, эти суждения и по сей день не утратили своего принципиального значения. В полемической заостренности их и поныне ощутим накал борьбы за создание советского исторического романа как романа нового типа, призванного, повторяя слова Василия Яна, «сделать переоценку исторических эпох и исторических личностей в свете диалектического и исторического материализма» [13]13
В. Ян. Путешествия в прошлое. – «Вопросы литературы», 1965, № 9, с. 106, 107.
[Закрыть].
Одну из таких переоценок и осуществлял он повестью «Огни на курганах». Действие ее разворачивается на территориях Средней Азии, которые во времена Александра Македонского заселяли его противники – «согды, предки нынешних таджиков и узбеков, и скифские племена саков и массагетов, в дальнейшем перекочевавшие в южные степи Черноморского побережья». С невыдуманным героем повести мы встречаемся на гребне его торжества, когда, завоевав Персию и наголову разбив в ней «бывшего царя царей Дария», опьяненный победами полководец все пуще распаляет себя жаждой новых походов и битв, одержим властолюбивым желанием «проникнуть еще дальше, чем ходил Геракл», провести «войска до конца вселенной, где неведомые пустыни заселены необычайными дикарями, где море омывает последний берег земли и где никто уже не осмелится встать» на победном пути неукротимого воителя. Однако насытиться всласть тиранической властью ему не дают то непочтительность «тщеславных афинян», на которых он грозит обрушить по возвращении «весь ужас» своего монаршего гнева, то непокорство македонцев, замысливших избрать себе нового вождя. Дознавшись об этом от верноподданных осведомителей, угодливых соглядатаев и наушников, Александр «целый месяц свирепствовал, казня всех заподозренных в заговоре», а «казнив множество близких ему людей» и не удовлетворившись этим, «объявил, что для лучшей связи с родиной им устроена эстафетная почта и все желающие могут послать письма домой. Но, когда войско передало письма, все они были задержаны и прочитаны, и воины, выражавшие недовольство, были выделены в особый штрафной отряд, помещенный под наблюдением вне лагеря».
На примере географических и космогонических представлений Александра Македонского, вознамерившегося воткнуть копье победителя не иначе как «на крайнем, восточном берегу омывающего землю моря, из которого ежедневно выезжает колесница блистающего Феба», наглядно видна как социальная, нравственная опосредованность, так и психологическая обусловленность его суждений, поступков, образа мышления и способа действия исторически конкретными понятиями времени и среды. Такой последовательно выдержанный историчный взгляд и на главного героя повести, и на его ближайшее или ему враждебное окружение позволял писателю назвать «Огни на курганах» произведением, где «Александр впервыеизображен в художественной литературе реалистически,таким, каким он был на самом деле, каким его изображают первоисточники, без идеализации, мистики и прикрас, чем грешат многочисленные романы и биографии» [14]14
Цит. по кн.: В.Ян. Огни на курганах. М., «Советский писатель», 1987, с. 690.
[Закрыть]. Художественная правда повествования была, следовательно, для Василия Яна неотторжима от исторической правды событий и характеров.
Достоверна бытопись, с которой в повести «Огни на курганах», как и в предыдущей «Финикийский корабль», связаны яркие, красочные, картинные описания древней жизни. Детализированно, обстоятельно выписаны в повести походные картины: кровавые насилия, неотвратимые гибель и смерть, что идут по пятам македонского войска, которое, словно «бескрылая саранча», ненасытно пожирает и истребляет все живое, устилает свой путь неисчислимыми телами. Составной мотив этих описаний – исконная враждебность истребительной морали завоевателей культуре покоряемых народов, ее высшим духовным обретениям, имевшим в истории мировой цивилизации общечеловеческое значение. Ведь, как разъяснял Василий Ян, в эпоху действия повести на просторах Средней Азии происходило «интересное столкновение трех различных самобытных культур: греков(и македонцев), носителей широкоразвитой эллинской культуры, достигшей тогда высшего расцвета, затем иранцев(персов), т. е. согдов, бактров, паропамисадов, мирного земледельческого населения с очень древней и самостоятельной восточной культурой, и, наконец, скифов– представителей воинственных кочевых племен с их своеобразными дикими обычаями, еще очень мало исследованными…» [15]15
Цит. по кн.: В.Ян. Огни на курганах. М., «Советский писатель», 1987, с. 690.
[Закрыть]. Поэтому не просто «священные» для его «врагов», но чуждые ему по духу книги сгорают в кострах, разжигаемых по приказу Александра Македонского, – вместе с ними изничтожается мудрость завоеванных народов, стирается их след на земле.
Непререкаемая правда истории в «Огнях на курганах» включает в себя и героическую правду сопротивления завоевателю, освободительной борьбы, апогеем которой становится проигранная Александром битва при Яксарте (реке Сырдарье). Самый замысел повести, рассказывал Василий Ян, возник из желания «описать борьбу за свою независимость древних скифов, саков, согдов и других народов, живших на территории современных советских среднеазиатских республик в IV веке до нашей эры, во время завоевания и разгрома Персии армией необычайного по смелости и военным способностям Александра Македонского…» [16]16
В. Ян. Путешествия в прошлое. – «Вопросы литературы», 1965, № 9, с. 106.
[Закрыть]. Повелителю мира, согласному, как внушают ему придворные льстецы, вести отсчет «настоящей истории… только с рождения бессмертного царя царей Александра», противостоит предводитель восставших Спитамен – личность также историческая, хотя и наделенная родословной, отличной от той, какую приписывают ему скудные сведения, располагаемые современной наукой. Согласно им, он происходил из согдийской знати, в большинстве своем смирившейся с завоеваниями Александра, признавшей его владычество. В повести же Спитамен – сын простого земледельца-согда и скифской женщины из племени кочевников-саков – олицетворяет единство этих народов. Разделенные прежде враждой, они не хотят «терпеть бесчинства греков», объединяют усилия для совместной борьбы с Александром, убеждаясь, что тот «не остановится до тех пор, пока не встретит смелых воинов, которые не повернут перед ним спину, а сами начнут бить его в скулы». И впрямь в разгар этой борьбы «базилевс со своей армией оказался в положении змеи, попавшей в кольцо раскаленных углей. Кругом, и в Согдиане и в Бактрии, вспыхивали восстания. Крестьяне убегали в горы и леса и нападали на разъезжавших за продовольствием македонцев. Александр беспощадно расправлялся с селениями, где происходили столкновения с его воинами».
Символична предфинальная сцена, в которой знатный согд Датаферн дарует завоевателю голову якобы убитого Спитамсна. С этой «натуры» по повелению Александра «знаменитый ваятель» Лисипп (лицо историческое) вырезает в мраморе голову «умирающего персианина». которая, не преминул сообщить писатель в сноске, призванной удостоверить правдивость повествования, фактологическую обоснованность некоторых сюжетных ходов, «хранится до сих пор в музее Терм в Риме». Однако Спитамен не убит. За его голову выдана голова одного из погибших храбрсцов-сподвижников, на место которого, предрекает он, «встанут новые борцы за свободу нашего народа».
В этой надежде на непрочность тиранической власти Александра Македонского в завоеванной, усмиренной «железом, кровью и огнем», но так и не покоренной до конца Согдиане укрепляет эпилог повести, главным действующим лицом которого выступает племянник и ученик великого Аристотеля, оратор, философ и историк Каллисфен. По обычаю софистов он произносит на шумном пиру две речи – одну «за», другую «против» Александра, но хвалебная первая настолько вымучена и так уступает обличительной второй по накалу и жару, убедительности и страсти, что взбешенный властелин, восседающий на троне поверженного Дария, не в силах сдержать буйный гнев вопреки обещанию воспринять «образчик софистики… с дружеским чувством». Но если во власти тирана казнить подданного, превратив его гибель в «праздничное зрелище растерзания человека диким львом», то ему не дано присвоить себе правду и истину, которые постигает человек, «единственное из земных существ, созданное с глазами, обращенными к небу, а не к земле», в своем стремлении «проникнуть и разгадать тайну вселенной». Не по силам деспоту и отнять у него «гордость свободного ученого, мыслителя, поэта», чей «труд ни огонь, ни железо, ни всепожирающее время… не будут в состоянии уничтожить». Неистребимый дух, неукротимая мысль кладут предел всемогуществу самых всесильных тиранов и деспотов…
«Потрясающая «Смерть Каллисфена»», как назвал Василий Ян эту главу-новеллу в одной из дневниковых записей, вошла в «Огни на курганах», полноправно стала органичной частью эпилога. Рассказ «Голубая сойка Заратустры» (1945), предназначенный для ненаписанной третьей книги задуманной трилогии, так и остался словно на полях повести, как бы приложением к ней, и даже опубликован впервые лишь в посмертном сборнике писателя «Загадка озера Кара-Нор» (1961). При всем том он связан с повестью не просто тематически, а и концептуально. Причина тому – большие художественные обобщения, заданные «малым» эпизодам встречи Александра Македонского со жрецом храма огнепоклонников. Из всех истин мира признавая лишь ту, которую пишет острый конец его меча, «молодой, красивый… властелин раздавленной Персии» приказывает разрушить храм, а жрецов его сжечь «на их же священном жертвеннике». Даже благородное вмешательство пока что почитаемого Каллисфена, который предостерегает от «непоправимой ошибки» уничтожения «ценнейших книг с указанием способов лечения различных болезней», не смягчает царского гнева на инакомыслящих. И чем сильнее, безудержней гнев, тем огромнее, ужасней преступления, которые влечет за собой «приказ грозного, неумолимого завоевателя», оставившего «на месте когда-то многолюдного, богатого и счастливого города Бактры… одни развалины. Вся долина между горами дремала в мертвой тишине, покрытая заросшими травой обломками каменных зданий и когда-то величественных храмов. Оставшееся население разбежалось, и в скважинах между камнями гнездились только совы и проворные ящерицы, а по ночам отвратительно лаяли и завывали трусливые шакалы».
Заприметим эту впечатляющую картину разрушения, гибели не только и не просто городов и селений, но мировых регионов цивилизации, очагов культуры. И запомним ее в преддверии все более близкого, теперь уже скорого обращения к эпопее Василия Яна о монголо-татарских завоеваниях и последующих повелителях, потрясателях вселенной, чья психология тотального насилия, всесветного истребления будет носить как выразительные индивидуальные, так и общие родовые признаки и черты.
Однако, к счастью для истории мировой и отечественной, в ней преемственны не только преступления и зло. О преемственности подвижнического добра побуждает задуматься повесть Василия Яна «Спартак» (1932), приуроченная к 2000-летию знаменитого восстания рабов в Древнем Риме. Заглавный герой ее в иных, разумеется, исторических условиях и в соответствии со своими неповторимыми строем мысли, ладом души наследует самоотвержение и вольнолюбие мужественного Спитамена. И тот, и другой из числа любимых героев писателя, о каждом справедливо сказать его словами: «талантливый, смелый вождь» восставших борцов за свободу. Но что обратило Василия Яна к «великому восстанию рабов Древнего Рима в I веке до нашей эры», в общем-то изученному наукой и воплощенному в литературе? Он сам объяснил это, признав, что повесть «Спартак», как и «Огни на курганах», имела для него программное значение, ибо тоже служила открытому, нескрываемо полемическому, ниспровергавшему признанные авторитеты провозглашению идейных позиций и творческих установок, которые выражали писательское понимание правды истории, преображенной в художественную правду исторического повествования.