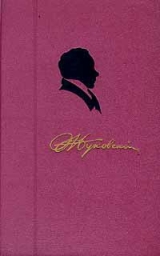
Текст книги "Том 2. Баллады, поэмы и повести"
Автор книги: Василий Жуковский
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 17 страниц)
Шильонский узник *
Повесть
Замок Шильон – в котором с 1530 по 1537 заключен был знаменитый Бонивар * , женевский гражданин, мученик веры и патриотизма – находится между Клараном и Вильневом, у самых восточных берегов Женевского озера (Лемана). Из окон его видны с одной стороны устье Ровы, долина, ведущая к Сен-Морицу и Мартиньи, снежные Валлизские горы и высокие утесы Мельери; а с другой – Монтре, Шателар, Кларан, Веве, множество деревень и замков; пред ним расстилается необъятная равнина вод, ограниченная в отдалении низкими голубыми берегами, на которых, как светлые точки, сияют Лозанна, Морж и Ролль; а позади его падает с холма шумный поток. Он со всех сторон окружен озером, которого глубина в этом месте простирается до восьмисот французских футов. Можно подумать, что он выходит из воды, ибо совсем не видно утеса, служащего ему основанием: где кончится поверхность озера, там начинаются крепкие стены замка. Темница, в которой страдал несчастный Бонивар, до половины выдолблена в гранитном утесе: своды ее, поддерживаемые семью колоннами, опираются на дикую, необтесанную скалу; на одной из колонн висит еще то кольцо, к которому была прикреплена цепь Бониварова; а на полу, у подошвы той же колонны, заметна впадина, вытоптанная ногами несчастного узника, который столько времени принужден был ходить на цепи своей все по одному месту. Неподалеку от устья Роны, вливающейся в Женевское озеро, недалеко от Вильнева, находится небольшой островок, единственный на всем пространстве Лемана; он неприметен, когда плывешь по озеру, но его можно легко различить из окон замка.
I
Взгляните на меня: я сед;
Но не от хилости и лет;
Не страх незапный в ночь одну
До срока дал мне седину.
Я сгорблен, лоб наморщен мой;
Но не труды, не хлад, не зной —
Тюрьма разрушила меня.
Лишенный сладостного дня,
Дыша без воздуха, в цепях,
Я медленно дряхлел и чах,
И жизнь казалась без конца.
Удел несчастного отца:
За веру смерть и стыд цепей,
Уделом стал и сыновей.
Нас было шесть – пяти уж нет.
Отец, страдалец с юных лет,
Погибший старцем на костре,
Два брата, падшие во пре,
Отдав на жертву честь и кровь,
Спасли души своей любовь.
Три заживо схоронены
На дне тюремной глубины —
И двух сожрала глубина;
Лишь я, развалина одна,
Себе на горе уцелел,
Чтоб их оплакивать удел.
II
На лоне вод стоит Шильон;
Там в подземелье семь колонн
Покрыты влажным мохом лет.
На них печальный брезжит свет,
Луч, ненароком с вышины
Упавший в трещину стены
И заронившийся во мглу.
И на сыром тюрьмы полу
Он светит тускло-одинок,
Как над болотом огонек,
Во мраке веющий ночном.
Колонна каждая с кольцом;
И цепи в кольцах тех висят;
И тех цепей железо – яд;
Мне в члены вгрызлося оно;
Не будет ввек истреблено
Клеймо, надавленное им.
И день тяжел глазам моим,
Отвыкнувшим с толь давних лет
Глядеть на радующий свет;
И к воле я душой остыл
С тех пор, как брат последний был
Убит неволей предо мной
И рядом с мертвым я, живой,
Терзался на полу тюрьмы.
III
Цепями теми были мы
К колоннам тем пригвождены,
Хоть вместе, но разлучены;
Мы шагу не могли ступить,
В глаза друг друга различить
Нам бледный мрак тюрьмы мешал.
Он нам лицо чужое дал —
И брат стал брату незнаком.
Была услада нам в одном:
Друг другу голос подавать,
Друг другу сердце пробуждать
Иль былью славной старины,
Иль звучной песнию войны —
Но скоро то же и одно
Во мгле тюрьмы истощено;
Наш голос страшно одичал;
Он хриплым отголоском стал
Глухой тюремныя стены;
Он не был звуком старины,
В те дни, подобно нам самим,
Могучим, вольным и живым.
Мечта ль?.. но голос их и мой
Всегда звучал мне как чужой.
IV
Из нас троих я старший был;
Я жребий собственный забыл,
Дыша заботою одной,
Чтоб им не дать упасть душой.
Наш младший брат, любовь отца…
Увы! черты его лица
И глаз умильная краса,
Лазоревых как небеса,
Напоминали нашу мать.
Он был мне все, и увядать
При мне был должен милый цвет,
Прекрасный, как тот дне́вный свет,
Который с неба мне светил,
В котором я на воле жил.
Как утро, был он чист и жив:
Умом младенчески игрив,
Беспечно весел сам с собой…
Но перед горестью чужой
Из голубых его очей
Бежали слезы, как ручей.
V
Другой был столь же чист душой;
Но дух имел он боевой:
Могуч и крепок в цвете лет,
Рад вызвать к битве целый свет
И в первый ряд на смерть готов…
Но без терпенья для оков.
И он от звука их завял.
Я чувствовал, как погибал,
Как медленно в печали гас
Наш брат, незримый нам, близ нас.
Он был стрелок, жилец холмов,
Гонитель вепрей и волков —
И гроб тюрьма ему была;
Неволи сила не снесла.
VI
Шильон Леманом окружен,
И вод его со всех сторон
Неизмерима глубина;
В двойную волны и стена
Тюрьму совокупились там;
Печальный свод, который нам
Могилой заживо служил,
Изрыт в скале подводной был;
И день и ночь была слышна
В него биющая волна
И шум над нашей головой
Струй, отшибаемых стеной.
Случалось – бурей до окна
Бывала взброшена волна,
И брызгов дождь нас окроплял;
Случалось – вихорь бушевал
И содрогалася скала;
И с жадностью душа ждала,
Что рухнет и задавит нас;
Свободой был бы смертный час.
VII
Середний брат наш – я сказал —
Душой скорбел и увядал.
Уныл, угрюм, ожесточен,
От пищи отказался он:
Еда тюремная жестка;
Но для могучего стрелка
Нужду переносить легко.
Нам коз альпийских молоко
Сменила смрадная вода;
А хлеб наш был, какой всегда —
С тех пор как цепи созданы —
Слезами смачивать должны
Невольники в своих цепях.
Не от нужды скорбел и чах
Мой брат: равно завял бы он,
Когда б и негой окружен
Без воли был… Зачем молчать?
Он умер… я ж ему подать
Руки не мог в последний час,
Не мог закрыть потухших глаз;
Вотще я цепи грыз и рвал —
Со мною рядом умирал
И умер брат мой, одинок;
Я близко был и был далек.
Я слышать мог, как он дышал,
Как он дышать переставал,
Как вздрагивал в цепях своих
И как ужасно вдруг затих
Во глубине тюремной мглы…
Они, сняв с трупа кандалы,
Его без гроба погребли
В холодном лоне той земли,
На коей он невольник был.
Вотще я их в слезах молил,
Чтоб брату там могилу дать,
Где мог бы дне́вный луч сиять;
То мысль безумная была,
Но душу мне она зажгла:
Чтоб волен был хоть в гробе он.
«В темнице (мнил я) мертвых сон
Не тих…» Но был ответ слезам
Холодный смех; и брат мой там,
В сырой земле тюрьмы, зарыт,
И в головах его висит
Пук им оставленных цепей:
Убийц достойный мавзолей.
VIII
Но он – наш милый, лучший цвет,
Наш ангел с колыбельных лет,
Сокровище семьи родной,
Он – образ матери душой
И чистой прелестью лица,
Мечта любимая отца,
Он – для кого я жизнь щадил:
Чтоб он бодрей в неволе был,
Чтоб после мог и волен быть…
Увы! он долго мог сносить
С младенческою тишиной,
С терпеньем ясным жребий свой;
Не я ему – он для меня
Подпорой был… вдруг день от дня
Стал упадать, ослабевал,
Грустил, молчал и молча вял.
О боже! боже! страшно зреть,
Как силится преодолеть
Смерть человека… я видал,
Как ратник в битве погибал;
Я видел, как пловец тонул
С доской, к которой он прильнул
С надеждой гибнущей своей;
Я зрел, как издыхал злодей
С свирепой дикостью в чертах,
С богохуленьем на устах,
Пока их смерть не заперла:
Но тамбыл страх – здесьскорбь была,
Болезнь глубокая души.
Смиренным ангелом, в тиши,
Он гас, столь кротко-молчалив,
Столь безнадежно-терпелив,
Столь грустно-томен, нежно-тих,
Без слез, лишь помня о своих
И обо мне… увы! он гас,
Как радуга, пленяя нас,
Прекрасно гаснет в небесах;
Ни вздоха скорби на устах;
Ни ропота на жребий свой;
Лишь слово изредка со мной
О наших прошлых временах,
О лучших будущего днях,
О упованье… но, объят
Сей тратой, горшею из трат,
Я был в свирепом забытьи.
Вотще, кончаясь, он свои
Терзанья смертные скрывал…
Вдруг реже, трепетнее стал
Дышать, и вдруг умолкнул он…
Молчаньем страшным пробужден,
Я вслушиваюсь… тишина!
Кричу как бешеный… стена
Откликнулась… и умер гул!
Я цепь отчаянно рванул
И вырвал… к брату… брата нет!
Он на столбе – как вешний цвет,
Убитый хладом, – предо мной
Висел с поникшей головой.
Я руку тихую поднял;
Я чувствовал, как исчезал
В ней след последней теплоты;
И, мнилось, были отняты
Все силы у души моей;
Все страшно вдруг сперло́ся в ней;
Я дико по тюрьме бродил —
Но в ней покой ужасный был:
Лишь веял от стены сырой
Какой-то холод гробовой;
И, взор на мертвого вперив,
Я знал лишь смутно, что я жив.
О! сколько муки в знанье том,
Когда мы тут же узнаём,
Что милому уже не быть,
И миг сей мог я пережить!
Не знаю – вера ль то была,
Иль хладность к жизни жизнь спасла?
IX
Но что потом сбылось со мной,
Не помню… свет казался тьмой,
Тьма светом; воздух исчезал;
В оцепенении стоял,
Без памяти, без бытия,
Меж камней хладным камнем я;
И виделось, как в тяжком сне,
Все бледным, темным, тусклым мне;
Все в мутную слилося тень;
То не было ни ночь, ни день,
Ни тяжкий свет тюрьмы моей,
Столь ненавистный для очей:
То было тьма без темноты;
То было бездна пустоты
Без протяженья и границ;
То были образы без лиц;
То страшный мир какой-то был,
Без неба, света и светил,
Без времени, без дней и лет,
Без промысла, без благ и бед,
Ни жизнь, ни смерть – как сон гробов,
Как океан без берегов,
Задавленный тяжелой мглой,
Недвижный, темный и немой.
X
Вдруг луч незапный посетил
Мой ум… то голос птички был.
Он умолкал; он снова пел;
И мнилось, с неба он летел;
И был утешно-сладок он.
Им очарован, оживлен,
Заслушавшись, забылся я;
Но ненадолго… мысль моя
Стезей привычного пошла;
И я очнулся… и была
Опять передо мной тюрьма,
Молчанье то же, та же тьма;
Как прежде, бледною струей
Прокрадывался луч дневной
В стенную скважину ко мне…
Но там же, в свете, на стене
И мой певец воздушный был;
Он трепетал, он шевелил
Своим лазоревым крылом;
Он озарен был ясным днем;
Он пел приветно надо мной…
Как много было в песни той!
И все то было про меня!
Ни разу до того я дня
Ему подобного не зрел;
Как я, казалось, он скорбел
О брате и покинут был;
И он с любовью навестил
Меня тогда, как ни одним
Уж сердцем не был я любим;
И в сладость песнь его была:
Душа невольно ожила.
Но кто ж он сам был, мой певец?
Свободный ли небес жилец?
Или, недавно из цепей,
По случаю к тюрьме моей,
Играя в небе, залетел
И о свободе мне пропел?
Скажу ль?.. Мне думалось порой,
Что у меня был не земной,
А райский гость; что братний дух
Порадовать мой взор и слух
Примчался птичкою с небес…
Но утешитель вдруг исчез;
Он улетел в сиянье дня…
Нет, нет, то не был брат… меня
Покинуть так не мог бы он,
Чтоб я, с ним дважды разлучен,
Остался вдвое одинок,
Как труп меж гробовых досок.
XI
Вдруг новое в судьбе моей:
К душе тюремных сторожей
Как будто жалость путь нашла;
Дотоле их душа была
Бусчувственней желез моих;
И что разжалобило их,
Что милость вымолило мне,
Не знаю… но опять к стене
Уже прикован не был я;
Оборванная цепь моя
На шее билася моей;
И по тюрьме я вместе с ней
Вдоль стен, кругом столбов бродил,
Не смея братних лишь могил
Дотронуться моей ногой,
Чтобы последняя земной
Святыни там не оскорбить.
XII
И мне оковами прорыть
Ступени удалось в стене;
Но воля не входила мне
И в мысли… я был сирота,
Мир стал чужой мне, жизнь пуста,
С тюрьмой я жизнь сдружил мою:
В тюрьме я всю свою семью,
Все, что знавал, все, что любил,
Невозвратимо схоронил,
И в области веселой дня
Никто уж не жил для меня;
Без места на пиру земном,
Я был бы лишний гость на нем,
Как облако, при ясном дне
Потерянное в вышине
И в радостных его лучах
Ненужное на небесах…
Но мне хотелось бросить взор
На красоту знакомых гор,
На их утесы, их леса,
На близкие к ним небеса.
XIII
Я их увидел – и оне
Все были те ж: на вышине
Веков создание – снега,
Под ними Альпы и луга,
И бездна озера у ног,
И Роны блещущий поток
Между зеленых берегов;
И слышен был мне шум ручьев,
Бегущих, бьющих по скалам;
И по лазоревым водам
Сверкали ясны облака;
И быстрый парус челнока
Между небес и вод летел;
И хижины веселых сел,
И кровы светлых городов
Сквозь пар мелькали вдоль брегов…
И я приметил островок:
Прекрасен, свеж, но одинок
В пространстве был он голубом;
Цвели три дерева на нем;
И горный воздух веял там
По мураве и по цветам,
И воды были там живей,
И обвивалися нежней
Кругом родных брегов оне.
И видел я: к моей стене
Челнок с пловцами приставал,
Гостил у брега, отплывал
И, при свободном ветерке
Летя, скрывался вдалеке;
И в облаках орел играл,
И никогда я не видал
Его столь быстрым – то к окну
Спускался он, то в вышину
Взлетал – за ним душа рвалась;
И слезы новые из глаз
Пошли, и новая печаль
Мне сжала грудь… мне стало жаль
Моих покинутых цепей.
Когда ж на дно тюрьмы моей
Опять сойти я должен был —
Меня, казалось, обхватил
Холодный гроб; казалось, вновь
Моя последняя любовь,
Мой милый брат передо мной
Был взят несытою землей;
Но как ни тяжко ныла грудь —
Чтоб от страданья отдохнуть,
Мне мрак тюрьмы отрадой был.
XIV
День приходил – день уходил —
Шли годы – я их не считал;
Я, мнилось, память потерял
О переменах на земли.
И люди наконец пришли
Мне волю бедную отдать.
За что и как? О том узнать
И не помыслил я – давно
Считать привык я за одно:
Без цепи ль я, в цепи ль я был,
Я безнадежность полюбил;
И им я холодно внимал,
И равнодушно цепь скидал,
И подземелье стало вдруг
Мне милой кровлей… там все друг,
Все однодомец было мой:
Паук темничный надо мной
Там мирно ткал в моем окне;
За резвой мышью при луне
Я там подсматривать любил;
Я к цепи руку приучил;
И… столь себе неверны мы!..
Когда за дверь своей тюрьмы
На волю я перешагнул —
Я о тюрьме своей вздохнул.
Перчатка *
Повесть
Перед своим зверинцем,
С баронами, с наследным принцем,
Король Франциск сидел;
С высокого балкона он глядел
На поприще, сраженья ожидая;
За королем, обворожая
Цветущей прелестию взгляд,
Придворных дам являлся пышный ряд.
Король дал знак рукою —
Со стуком растворилась дверь,
И грозный зверь
С огромной головою,
Косматый лев
Выходит;
Кругом глаза угрюмо водит;
И вот, все оглядев,
Наморщил лоб с осанкой горделивой,
Пошевелил густою гривой,
И потянулся, и зевнул,
И лег. Король опять рукой махнул —
Затвор железной двери грянул,
И смелый тигр из-за решетки прянул;
Но видит льва, робеет и ревет,
Себя хвостом по ребрам бьет,
И крадется, косяся взглядом,
И лижет морду языком,
И, обошедши льва кругом,
Рычит и с ним ложится рядом.
И в третий раз король махнул рукой —
Два барса дружною четой
В один прыжок над тигром очутились;
Но он удар им тяжкой лапой дал,
А лев с рыканьем встал…
Они смирились,
Оскалив зубы, отошли,
И зарычали, и легли.
И гости ждут, чтоб битва началася.
Вдруг женская с балкона сорвалася
Перчатка… все глядят за ней…
Она упала меж зверей.
Тогда на рыцаря Делоржа с лицемерной
И колкою улыбкою глядит
Его красавица и говорит:
«Когда меня, мой рыцарь верный,
Ты любишь так, как говоришь,
Ты мне перчатку возвратишь».
Делорж, не отвечав ни слова,
К зверям идет,
Перчатку смело он берет
И возвращается к собранью снова.
У рыцарей и дам при дерзости такой
От страха сердце помутилось;
А витязь молодой,
Как будто ничего с ним не случилось,
Спокойно всходит на балкон;
Рукоплесканьем встречен он;
Его приветствуют красавицыны взгляды…
Но, холодно приняв привет ее очей,
В лицо перчатку ей
Он бросил и сказал: «Не требую награды».
Две были и еще одна *
День был ясен и тепел; к закату сходящее солнце
Ярко сияло на чистом лазоревом небе. Спокойно
Дедушка, солнцем согретый, сидел у ворот на скамейке;
Глядя на ласточек, быстро круживших в воздушном пространстве,
Вслед за ними пускал он дымок из маленькой трубки;
Легкими кольцами дым подымался и, с воздухом слившись,
В нем пропадал. Маргарита, Луиза и Лотта за пряжей
Чинно сидели кругом; самопрялки жужжали, и тонкой
Струйкой нити вилися; Фриц работал, а Энни,
Вечный ленивец, играл на траве с курчавою шавкой.
Все молчали: как будто ангел тихий провеял.
«Дедушка, – Лотта сказала, – что ты примолк? Расскажи нам
Сказку; вечер ясный такой; нам весело будет
Слушать». – «Сказку? – старик проворчал, высыпая из трубки
Пепел, – все бы вам сказки; не лучше ль послушать вам были?
Быль расскажу вам, и быль не одну, а две». Опроставши
Трубку и снова набив ее табаком, из мошонки
Дедушка вынул огниво и, трут на кремень положивши,
Крепко ударил сталью в кремень, посыпались искры,
Трут загорелся, и трубка опять задымилась. Собравшись
С мыслями, дедушка так рассказывать с важностью начал:
«Дети, смотрите, как все перед нами прекрасно; как солнце,
Медленно с неба спускаясь, все осыпает лучами;
Реин золотом льется; жатва как тихое море;
Холмы зеленые в свете вечернем горят; по дорогам
Шум и движенье; подняв паруса, нагруженные барки
Быстро бегут по водам; а наша приходская церковь…
Окна ее как огни меж темными липами блещут;
Вкруг мелькают кресты на кладбище, и в воздухе теплом
Птицы вьются, мошки блестящею пылью мелькают;
Весь он полон говором, пеньем, жужжаньем… прекрасен
Мир господень! сердцу так радостно, сладко и вольно!
Скажешь: где бы в этом прекрасном мире господнем
Быть несчастью? Ан нет! и не только несчастье злодейство
Место находит в нем. Видите ль там, на высоком пригорке,
Замок в обломках? Теперь по стенам расцветает зеленый
Плющ, и солнце его золотит, и звонкую песню беспечно,
Сидя в траве, на рожке там играет пастух. А на Рейне
Видите ль вы небольшой островок? Молодая из кленов
Роща на нем расцвела; под тенью ее разостлавши
Сети, рыбак готовит свой ужин, и дым голубою
Струйкой вьется по зелени темной. Взглянуть, так прекрасный
Рай. Ну слушайте ж: очень недавно там, на пригорке,
Близко развалин замка, стояла гостиница – чистый,
Светлый, просторный дом, под вывеской Черного вепря.
В этой гостинице каждый прохожий в то время мог видеть
Бедную Эми. Подлинно бедная! дико потупив
Голову, в землю глаза неподвижно уставив, по целым
Дням сидела она перед дверью трактира на камне.
Плакать она не могла, но тяжко, тяжко вздыхала;
Жалоб никто от нее не слыхал, но, боже мой! всякий,
Раз поглядевши ей, бедной, в лицо, узнавал, что на свете
Все для нее миновалось: мертвою бледностью щеки
Были покрыты, глаза из глубоких впадин сверкали
Острым огнем; одежда была в беспорядке; как змеи,
Черные кудри по голым плечам раскиданы были.
Вечно молчала она и была тиха, как младенец;
Но порою, если случалось, что ветер просвищет,
Вдруг содрогалась, на что-то глаза упирала и, пальцем
Быстро туда указав, смеялась смехом безумным.
Бедная Эми! такою ль видали ее? Беззаботно
Жизнью, бывало, она веселилась, как вольная пташка.
Помню и я и старые гости Черного вепря,
Как нас радушной улыбкой и ласковым словом встречала
Эми, как весело шло угощенье. И все ей друзьями
Были в нашей округе. Кто веселость и живость
Всюду с собой приносил? Кого, как любимого гостя,
С криками вся молодежь встречала на праздниках? Эми.
Кто всегда так опрятно и чинно одет был? Кого наш священник
Девушкам всем в образец поставлял? Кто, шумя как ребенок
Резвый на игрищах, был так набожно тих за молитвой?
Словом: кто бедным был друг, за больными ходил, с огорченным
Плакал, с детьми играл, как дитя? Все Эми, все Эми.
Господи боже! она ли не стоила счастья? А вышло
Все напротив. Она полюбила Бранда. Признаться,
Этот Бранд был молод, умен и красив; но худые
Слухи носились об нем: он с людьми недобрыми знался;
В церковь он не ходил; а в шинках, за картами, кто был
Первый? Бранд. Колдовством ли каким он понравился Эми,
Сам ли господь ей хотел послать на земле испытанье,
С тем, чтоб душа ее, здесь в страданьях очистившись, прямо
В рай перешла – не знаю, но Эми была уж невестой
Бранда, и все жалели об ней. Ну послушайте ж: вечер
Был осенний и бурный; в гостинице Черного вепря
Два сидели гостя; яркое пламя трещало в камине.
«Что за погода! – сказал один. – Не раздолье ль в такую
Бурю сидеть у огня и слушать, как ветер холодный
Рвется в оконницы?» – «Правда, – другой отвечал, – ни за что бы
Я теперь отсюда не вышел; ужас, не буря.
Месяц на́ небе есть, а ночь так темна, что хоть оба
Выколи гла́за; плохо тому, кто в дороге». – «Желал бы
Знать я, найдется ль такой удалец, чтоб теперь в тот старинный
Замок сходить? Он близко, шагов с три сотни, не боле;
Но, признаться, днем я не трус, а ночью в такое
Время пойти туда, где, быть может, в потемках
Гость из могилы встретит тебя, – извините; с живыми
Сладить можно, а с мертвым и смелость не в пользу; храбрися
Сколько угодно душе, а что ты сделаешь, если
Вдруг пред тобою длинный, бледный, сухой, с костяными
Пальцами станет, и два ужасные глаза упрутся
Дико в тебя, и ты ни с места, как камень? А в этом
Замке, все знают, нечисто; и в тихую ночь там не тихо;
Что же в бурю, когда и мертвец повернется в могиле?» —
«Страшно, правда; а я об заклад побьюся, что наша
Эми не струсит и в замок одна-одинешенька сходит». —
«Бейся, пробьешь». – «Изволь, по рукам! ты слышала, Эми?
Хочешь ли новую шляпку выиграть к свадьбе? Сходи же
В замок и ветку нам с клена, который между обломков
Там растет, принеси; я знаю, что ты не боишься
Мертвых и бредням не веришь. Согласна ли, Эми?» – «Согласна, —
Эми сказала с усмешкой. – Бояться тут нечего, разве
Бури; а против ночных привидений защитой молитва».
С этим словом Эми пошла. Развалины были
Близко; но ветер выл и ревел; темнота гробовая
Все покрывала, и тучи, как черные горы, задвинув
Небо, страшно ворочались. Эми знакомой тропинкой
Входит без всякого страха в средину развалин;
Клен недалеко; вдруг ветер утих на минуту; и Эми
Слышит, что кто-то идет живой, а не мертвый; ей стало
Страшно… слушает… ветер снова поднялся и снова
Стих, и снова послышалось ей, что идут; в испуге
К груде развалин прижалася Эми. В это мгновенье
Ветром раздвинуло тучи, и месяц очистился. Что же
Эми увидела? Два человека – две черные тени —
Крадутся между обломков и тащат мертвое тело.
Ветер ударил сильней; с головы одного сорвалася
Шляпа и к Эминым прямо ногам прикатилась; а месяц
В ту минуту пропал, и все опять потемнело.
«Стой! (послышался голос) шляпу ветром умчало». —
«После отыщешь, прежде окончим работу: зароем
Клад свой», – другой отвечал, и они удалились. Схвативши
Шляпу, стремглав пустилась к гостинице Эми. Бледнее
Смерти в двери вбежала она и долго промолвить
Слова не в силах была; отдохнув, наконец рассказала
То, что ей в замке привиделось. «Вот обличитель убийцам!» —
Шляпу поднявши, громко примолвила Эми; но тут же
В шляпу всмотрелась… «Ах!» и упала на пол без чувства:
Брандово имя стояло на шляпе. Мне нечего боле
Вам рассказывать. В этот миг помутился рассудок
Бедной Эми; господь милосердый недолго страдать ей
Дал на земле: ее отнесли на кладби́ще. Но долго
Видели столб с колесом на пригорке близ замка: прохожим
Он приводил на память и Бранда и бедную Эми.
Все исчезло теперь, и гостиницы нет; лишь могилка
Бедной Эми цветет, как цвела, и над нею спокойно».
Дедушка кончил и молча стал выколачивать трубку.
Внучки также молчали и с грустью смотрели на церковь:
Солнце играло на ней, и темные липы бросали
Тень на кладбище, где Эми давно покоилась в гробе.
«Вот вам другая быль, – сказал, опять раскуривши
Трубку, старик. – Каспар был беден. К буйной, развратной
Жизни привык он, и сердце в нем сделалось камнем. Но жадным
Оком смотрел на чужое богатство Каспар. На злодейство
Трудно ль решиться тому, кто шатается праздно, не помня
Бога? Так и случилось. Каспар на ночную добычу
Вышел. Вы видите остров на Рейне? Вдоль берега вьется
Против этого острова, мимо утеса, дорожка.
Там, у самой дорожки, под темным утесом, в ночное
Позднее время Каспар засел и ждал: не пройдет ли
Кто-нибудь мимо? Ночь прекрасна была; освещенный
Полной луной островок отражался в воде, и густые
Клены, глядяся в нее, стояли тихо, как черные тени;
Все покоилось… волны изредка в берег плескали,
В листьях журчало, и пел соловей. Но, злодейским
Замыслом полный, Каспар не слыхал ничего; он иное
Жадным подслушивал ухом. И вот напоследок он слышит:
Кто-то идет по дороге; то был одинокий прохожий.
Выскочил, словно как зверь из берлоги, Каспар; и недолго
Длилась борьба между ими: бедный путник с тяжелым
Стоном упал на землю, зарезанный. Мертвое тело
В воду стащил Каспар и вымыл кровавые руки;
Брызнули волны, раздавшись под трупом, и снова слилися
В гладкую зыбь; все стало по-прежнему тихо, и сладко
Петь продолжал соловей. Каспар беззаботно с добычей
В путь свой пошел; свидетелей не было; совесть молчала.
Скоро истратил разбойник добытое кровью, и скоро
Голым стал он по-прежнему. Годы прошли; об убийстве,
Кроме бога, никто не проведал; но слушайте дале.
Раз Каспар сидел за столом в гостинице. Входит
Старый знакомец его, арендарь Веньямин; он садится
Подле Каспара; он крепко, крепко задумчив; и вправду
Было о чем призадуматься: денно и ночно работал,
Честно жил Веньямин, а все понапрасну; тяжелый
Крест достался ему: семью имел он большую;
Всех одень, напой, накорми… а чем? И вдобавок
Новое горе постигло его: жена от тяжелой
Скорби слегла в постель, и деньги пошли за лекарство;
Бог помог ей; но с той поры все хуже да хуже; и часто
Нечего есть; жена молчит, но тает как свечка;
Дети криком кричат; наконец остальное помещик
В доме силою взял, в уплату за долг, и из дома
Выгнать грозился. Эта беда с Веньямином случилась
Утром, а вечером он Каспара в гостинице встретил.
Рядом с ним он сидел у стола; опершись на колено
Локтем, рукою закрывши глаза, молчал он, как мертвый.
«Что с тобой, Веньямин? – спросил Каспар. – Ты как будто
В воду опущен. Послушай, сосед, не распить ли нам вместе
Кружку вина? Веселее на сердце будет; отведай».
Кружку взял Веньямин и выпил. «Тяжко приходит
Жить, – сказал он. – Жена умирает, и хилые кости
Не на чем ей успокоить: злодеи последнюю взяли
Нынче постелю. А дети – господи боже мой! лучше б
Им и мне в могилу. Помещик наш нынешней ночью
В замок свой пышный поедет и там на мягких подушках,
Вкусно поужинав, сладко заснет… а я, воротяся
В дом мой, где голые стены, что найду там? Бездушный!
Я ли Христом да богом его не молил? У него ли
Мало добра?.. Пускай же всевышний господь на судилище страшном
Так же с ним немилостив будет, как он был со мною!»
Слушал Каспар и в душе веселился, как злой искуситель;
В кружку соседу вина подливал он, и скоро зажег в нем
Кровь, и потом из гостиницы вышел с ним вместе. Уж было
Поздно. «Сосед, – Веньямину он тихо шепнул, – господин твой
Нынешней ночью один в свой замок поедет; дорога
Близко, она пуста; а мщенье, знаешь ты, сладко».
Речью такой был сражен Веньямин; но тяжкая бедность,
Горе семьи, досада, хмель, темнота, обольщенье
Слов коварных… довольно, чтоб слабое сердце опутать.
Так ли, не так ли, но вот пошел Веньямин за Каспаром;
Против знакомого острова сели они под утесом,
Близко дороги, и ждут; ни один ни слова; не смеют
Вслух дышать и слушают молча. Их окружала
Тихая, темная ночь; звезд не сверкало на небе,
Лист едва шевелился, без ропота волны лилися,
Все покоилось сладко, и пел соловей. Душа Веньямина
Вдруг согрелась: в ней совесть проснулась, и он содрогнулся.
«Нечего ждать, – он сказал, – уж поздно; уйдем, не придет он». —
«Будь терпелив, – злодей возразил, – пождем, и дождемся.
Доле зато дожидаться его возвращенья придется
В замке жене; да будет напрасно ее нетерпенье».
Сердце от этих слов повернулось в груди Веньямина;
Вспомнил свою он жену и сказал: «Теперь прояснилась
Совесть моя; не поздно еще, не хочу оставаться!» —
«Что ты? – воскликнул Каспар. – Послушался совести; бредит.
Ночь темна, река глубока, здесь место глухое;
Кто нас увидит?» Мороз подрал Веньямина по коже.
«Кто нас увидит? А разве нет свидетеля в небе?» —
«Сказки! здесь мы одни. В ночной темноте не приметит
Нас ни земной, ни небесный свидетель». Тут неоглядной
Прочь от него побежал Веньямин. И в это мгновенье
Темное небо ярким, страшным лучом раздвоилось;
Все кругом могильная мгла покрывала; на том лишь
Месте, где спрятаться думал Каспар, было как в ясный
Полдень светло. И вот пред глазами его повторилось
Все, что он некогда тут совершил во мраке глубокой
Ночи один: он услышал шум от упавшего в воду
Трупа; он черный труп на волнах освещенных увидел;
Волны раздвинулись, труп нырнул в них, и все потемнело…
Дети, долго с тех пор под этим утесом, как дикий
Зверь, гнездился Каспар сумасшедший. Не ведал он кровли;
Был безобразен: лицо как кора, глаза как два угля,
Волосы клочьями, ногти на пальцах как черные когти,
Вместо одежды гнилое тряпье; худой, изможденный,
Чахлый, все ребра наружу, он в страхе все жался к утесу,
Все как будто хотел в нем спрятаться и все озирался
Смутно кругом; но порою вдруг выбегал и, на небо
Дико уставил глаза, шептал: «Он видит, он видит».
Дедушка, быль досказав, посмотрел, усмехаясь, на внучек.
«Что же вы так присмирели? – спросил он. – Видно, рассказ мой
Был не на шутку печален? Постойте ж, я кое-что вспомнил,
Что рассмешит вас и вместо научит. Слушайте. Часто
Мы на свою негодуем судьбу; а если рассудишь,
Как все на свете неверно, то сердцем смиришься и станешь
Бога за участь свою прославлять. Иному труднее
Опыт такой достается, иному легче. И вот как
Раз до премудрости этой, не умствуя много, а просто
Случаем странным, одною забавной ошибкой добрался
Бедный немецкий ремесленник. Был по какому-то делу
Он в Амстердаме, голландском городе; город богатый,
Пышный, зданья огромные, тьма кораблей; загляделся
Бедный мой немец, глаза разбежались; вдруг он увидел
Дом, какого не снилось ему и во сне: до десятка
Труб, три жилья, зеркальные окна, ворота
С добрый сарай – удивленье! С смиренным поклоном спросил он
Первого встречного: «Чей это дом, в котором так много
В окнах тюльпанов, нарциссов и роз?» Но, видно, прохожий
Или был занят, или столько же знал по-немецки,
Сколько тот по-голландски, то есть не знал ни полслова;
Как бы то ни было, Каннитферштан!отвечал он. А это
Каннитферштанесть голландское слово, иль, лучше, четыре
Слова, и значит оно: не могу вас понять.Простодушный
Немец, напротив, вздумал, что так назывался владелец
Дома, о коем он спрашивал. «Видно, богат не на шутку
Этот Каннитферштан», – сказал про себя он, любуясь
Домом. Потом отправился дале. Приходит на пристань —
Новое диво: там кораблей числа нет; их мачты
Словно как лес. Закружилась его голова, и сначала
Он не видал ничего, так много он разом увидел.
Но наконец на огромный корабль обратил он вниманье.
Этот корабль недавно пришел из Ост-Индии; много
Вкруг суетилось людей: его выгружали. Как горы,
Были навалены тюки товаров: множество бочек
С сахаром, кофе, перцем, пшеном сарацинским. Разинув
Рот, с удивленьем глядел на товары наш немец; и сведать
Крепко ему захотелось, чьи были они. У матроса,
Несшего тюк огромный, спросил он: «Как назывался
Тот господин, которому море столько сокровищ
Разом прислало?» Нахмурясь, матрос проворчал мимоходом:
Каннитферштан.«Опять! смотри пожалуй! Какой же
Этот Каннитферштанмолодец! Мудрено ли построить
Дом с богатством таким и расставить в горшках золоченых
Столько тюльпанов, нарциссов и роз по окошкам?» Пошел он
Медленным шагом назад и задумался; горе
Взяло его, когда он размыслил, сколько богатых
В свете и как он беден. Но только что начал с собою
Он рассуждать, какое было бы счастье, когда б он
Сам был Каннитферштан,как вдруг перед ним – погребенье.
Видит: четыре лошади в черных длинных попонах
Гроб на дрогах везут и тихо ступают, как будто
Зная, что мертвого с гробом в могилу навеки отвозят;
Вслед за гробом родные, друзья и знакомые молча
В трауре и́дут; вдали одиноко звонит погребальный
Колокол. Грустно стало ему, как всякой смиренной
Доброй душе, при виде мертвого тела; и, снявши
Набожно шляпу, молитву творя, проводил он глазами
Ход погребальный; потом подошел к одному из последних
Шедших за гробом, который в эту минуту был занят
Важным делом: рассчитывал, сколько прибыли чистой
Будет ему от продажи корицы и перцу; тихонько
Дернув его за кафтан, он спросил: «Конечно, покойник
Был вам добрый приятель, что так вы задумались? Кто он?»
Каннитферштан!был короткий ответ. Покатилися слезы
Градом из глаз у честного немца; сделалось тяжко
Сердцу его, а потом и легко; и, вздохнувши, сказал он:
«Бедный, бедный Каннитферштан!от такого богатства
Что осталось тебе? Не то же ль, что рано иль поздно
Мне от моей останется бедности? Саван и тесный
Гроб». И в мыслях таких побрел он за телом, как будто
Сам был роднею покойнику; в церковь вошел за другими;
Там голландскую проповедь, в коей не понял ни слова,
Выслушал с чувством глубоким; потом, когда опустили
Каннитферштанав землю, заплакал; потом с облегченным
Сердцем пошел своею дорогой. И с тех пор, как скоро
Грусть посещала его и ему становилось досадно
Видеть счастье богатых людей, он всегда утешался,
Вспомнив о Каннитферштане,его несметном богатстве,
Пышном доме, большом корабле и тесной могиле».








