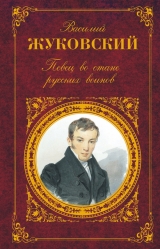
Текст книги "Певец во стане русских воинов"
Автор книги: Василий Жуковский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 23 страниц)
Первою заботою государя императора была безопасность его семейства. Великие князья Константин, Николай и Михаил Николаевичи и великие княжны Ольга и Александра Николаевны находились в Зимнем дворце: им было приказано немедленно переехать в Собственный его величества дворец. В это время государыня императрица уже возвратилась из театра. Она была встречена в Большой Морской великим князем Михаилом Павловичем, посланным к ней от государя императора с извещением о случившемся. – Где дети? был первый вопрос ее величества. – Государь приказал перевезти их в Собственный дворец; он желает, чтобы и ваше величество ехали туда же. – Но перевезены ли дети? – Еще нет, но скоро. – Скажите государю, что мое место там, где мои дети, и что я до тех пор не покину дворца, пока они не будут отправлены, отвечала государыня и поехала на пожар. На лестнице она была встречена всеми детьми своими; младших несли на руках, полусонных. Государыня отпустила их, а сама прямо пошла к одной из своих фрейлин, которая жила в нижнем этаже и лежала в постели больная. Императрица при себе отправила ее из дворца и потом уже пошла (вместе с великою княжною Мариею Николаевною) в свои комнаты, от коих пожар еще был далеко. – Долго из окон, обращенных на внутренний двор, смотрела она, как на противоположной стороне свирепствовало пламя, как оно разрушило Белую и Фельдмаршальскую залы и как начало приближаться к той стороне, где жило императорское семейство. Наконец явился государь император и говорит императрице и великой княжне: «Уезжайте, через минуту огонь будет здесь». Они простились. Государь опять пошел на пожар. А государыня решилась переехать в дом министерства иностранных дел, из окон коего можно было глазами следовать за действием пламени. Но прежде нежели совсем оставить дворец, она захотела проститься с своим погибающим жилищем: зашла в свой кабинет и в детские горницы, в коих при свете пожарного зарева все еще было так спокойно, и помолившись в последний раз в малой дворцовой церкви, в коей столько времени все семейство ее собиралось на молитву, с благодарною горестию покинула те места, где на каждом шагу являлись ей милые воспоминания, где она встречена была невестою, где была приветствована императрицею, где провела мирные, первые годы супружеского и материнского счастия, о коем молится вся Россия. В доме министерства иностранных дел государыня пробыла до той минуты, в которую наследник известил ее величество, что для спасения дворца не осталось никакой надежды.
Вторым распоряжением государя императора было послать за войсками; первый баталион л.-г. Преображенского полка, как ближайший, явился прежде других, и в одну минуту знамена гвардейские и все портреты, украшавшие залу Фельдмаршальскую и галерею 1812 года, сняты и вынесены. В то же время закладены были кирпичом две двери, дабы отделить пылающую часть дворца от той, куда еще пламя не успело проникнуть; а часть собравшегося войска была отправлена на кровлю, дабы, разломав ее, успешнее противудействовать расширению пожара. Но здесь все усилия остались тщетны. Густой дым, развиваясь вихрем по всему чердаку, препятствовал видеть и дышать и не допустил никого приступить к делу. Тогда стало очевидно, что спасение дворца уже невозможно. Государь император, не желая подвергать опасности солдат, которые действовали с неимоверною отважностию и с удивительным самоотвержением, отдал повеление, чтобы все сошли с кровли и спешили спасать из внутренних комнат то, что спасти было возможно. Воля его величества была исполнена с быстротою и точностию, достойными удивления. Все, от генерала до простого солдата, принялись за дело; никто себя не жалел. Священные утвари, образа и ризы обеих церквей, императорские бриллианты, картины, драгоценные убранства дворца и все вещи, принадлежащие царской фамилии, были взяты и отнесены частию к Александровской колонне, частию в адмиралтейство.
В это время государь император был уведомлен, что в Галерной гавани загорелось несколько хижин. Он немедленно послал на спасение оных наследника. А сам, решившись пожертвовать главным зданием Зимнего дворца, которым пламя совершенно овладело, приказал исключительно обратить все усилия на защиту Эрмитажа. Немедленно крыши галерей, соединявших сие отделение дворца с главным корпусом, были разрушены, всякое сообщение между ними прервано. Таким образом пожар не достиг к Эрмитажу, хотя все пламя стремилось прямо на него по направлению сильного ветра. Здесь особенно оказалась неустрашимая спокойность пожарных и солдат; они, можно сказать, вступили в рукопашный бой с огнем и отважно закладывали окна и двери, несмотря на пламя и дым, которые с ними боролись, но их не отразили. Все они действовали под особенным надзором его высочества великого князя Михаила Павловича.
Между тем пожар, усиливаемый порывистым ветром, бежал по потолкам верхнего этажа; они разом во многих местах загорались, и падая с громом, зажигали полы и потолки среднего яруса, которые в свою очередь низвергались огромными огненными грудами на крепкие своды нижнего этажа, большею частию оставшегося целым. Зрелище, по сказанию очевидцев, было неописанное: посреди Петербурга вспыхнул вулкан. Сначала объята была пламенем та сторона дворца, которая обращена к Неве; противуположная сторона представляла темную громаду, над коею пылало и дымилось ночное небо: отсюда можно было следовать за постепенным распространением пожара; можно было видеть, как он, пробираясь по кровле, проникнул в верхний ярус; как в среднем ярусе все еще было темно (только горело несколько ночников и люди бегали со свечами по комнатам), в то время как над ним все уже пылало и разрушалось; как вдруг загорелись потолки и начали падать с громом, пламенем, искрами и вихрем дыма, и как наконец потоки огня полились отвсюду, наполнили внутренность здания и бросились в окна. Тогда вся громада дворца представляла огромный костер, с которого пламя то всходило к небу высоким столбом, под тяжкими тучами черного дыма, то волновалось как море, коего волны вскакивали огромными, зубчатыми языками, то вспыхивало снопом бесчисленных ракет, которые сыпали огненный дождь на все окрестные здания. В этом явлении было что-то невыразимое: дворец и в самом разрушении своем как будто неприкосновенно вырезывался со всеми своими окнами, колоннами и статуями неподвижною черною громадою на ярком трепетном пламени. А во внутренности его происходило что-то неестественное: какая-то адская сила там господствовала, какие-то враждебные духи, слетевшие на добычу и над ней разыгравшиеся, бешено мчались повсюду, сталкивались, разлетались, прядали с колонны на колонну, прилипали к люстрам, бегали по кровле, обвивались около статуй, выскакивали в окна и боролись с людьми, которые мелькали черными тенями, пробегая по яркому пламени. И в то время, когда сей ужасный пожар представлял такую разительную картину борьбы противуположных сил, разрушения и гибели, другая картина приводила в умиление душу своим торжественным, тихим величием. За цепью полков, окружавших дворцовую площадь, стоял народ бесчисленною толпою в мертвом молчании. Перед глазами его горело жилище царя: общая всем святыня погибала; объятая благоговейною скорбию, толпа стояла неподвижно; слышны были одни глубокие вздохи, и все молились за государя.
Пожар, начавшийся в 8-м часу вечера, продолжался во всей своей силе до восхождения солнца, и только в эту минуту государь император изволил возвратиться к своему семейству.
Так разрушился наш Зимний дворец, великолепный представитель последних славных времен России. Все, что может быть снова сооружено, погибло с главным зданием; но сокровища Эрмитажа, которые в течение стольких лет были собираемы государями русскими и коих утрату ничто бы не заменило, все без изъятия спасены. Утешением в сем печальном событии может послужить то, что никто из многочисленных жителей дворца не погиб и что весьма многие из них спасли свое достояние.
Но сие величественное царское жилище, ныне представляющее одни обгорелые развалины, скоро возобновится в новом блеске. Опять в великий день Светлого праздника будем, по старому обычаю, собираться на поздравление царя в той великолепной дворцовой церкви. Опять будем видеть русского царя, встречающего новый год в светлых чертогах своих вместе с своим народом. Опять, перед спасенным изображением Александра, будем воспоминать времена великой русской славы, петь многолетие Царю царствующему, возглашать вечную память Благословенному и славить его войско, некогда столь храбро отстоявшее Россию. Наконец опять посреди этих возобновленных палат императорских, увидим доброго отца народа веселым семьянином, окруженного мирным домашним счастием, которое да продлит Бог для блага России.
И царь и его Россия с благоговением приняли новое испытание, ниспосланное им всемогущим Промыслом, и это испытание, с одной стороны, даровало случай царю явить пред лицом народа своего покорность Божией власти; с другой – народу с новою силою выразить любовь свою к царю, и таким образом узами скорби еще сильнее скрепился союз между державным отцом и верными детьми его.
О молитве Письмо к Н. В. Гоголю
Я обещал присылать тебе замечания на твою книгу – и остался до сих пор при одном обещании; с того времени прошло почти год. Приступая наконец к исполнению обещанного, повторяю сказанное мною тогда, что я намерен писать не критику на твою книгу, а только то, что будет мне приходить случайно в мысли по поводу твоих мыслей; иногда, само собою разумеется, придется сказать слова два pro или contra о содержании самой книги, сделать критическую придирку и проч.; но на все это нет у меня никакого плана – что напишется, как напишется, тут весь и план. Притом же слишком взыскательная критика относительно твоей книги совсем неуместна: ты напечатал отрывки из писем (которых не имел намерения печатать). Характер писем есть свобода как в ходе мыслей, так и в их выражении; кто выдает письма в печать, тот необходимо должен сохранить им этот характер свободной неприготовленности; здесь сама небрежность имеет прелесть: она есть даже достоинство. В письмах выражаются не одни мысли, но и вся личность писателя: его голос, его жесты, его физиогномия; к слогу писем особенно относится то, что говорит Бюффон вообще о слоге: «Le style c’est l’homme» (« слог – человек »). В письме каждая мысль наша, легко набросанная на бумагу, есть живое новорожденное дитя; переправлять с строгою отчетливостию ее выражение для печати, значит, натягивать морщины старости на свежее лицо младенца.
Правда, когда няня выносит ребенка из детской в гостиную, она его прежде умоет и оденет, но вся одежда его должна быть детская, а не парик отца и не чепец матери. И печатая письма, надобно, конечно, и приумыть и приодеть слог, но так, чтобы младенчество не перерядилось в старость.
Кстати, о слоге и о придирчивой критике. Живучи за границею и не получая наших журналов, я не мог знать, что было в них напечатано о твоей книге – читал одну прекрасную статью князя Вяземского, в которой, не осыпая тебя приторными похвалами, но и не скрывая слабых сторон твоих, он так мужественно, так трогательно защищает и твое произведение и твой характер против нападков несправедливости. Но чтение этой статьи заставило меня заключить, что тебе крепко досталось от наших аристархов; и я, признаться, попенял самому себе за то, что в одном случае не предохранил тебя от их ударов, тем более чувствительных, что они поделом тебе достались: именно виню себя в том, что не присоветовал тебе уничтожить твое завещание и многое переправить в твоем предисловии. Когда ты мне читал и то и другое – имея тебя самого перед глазами, я был занят твоею личностью, и зная, как все мною слышанное было искренним выражением тебя самого, зная, как ты далек от всякого самохвальства, от всякого смешного самобоготворения, я находил привлекательным то, что после, когда (вместо самого автора) явилась перед мною мертвая печатная книга и воображению моему представилась наша читающая публика, сидящая чином на креслах и стульях кругом чтеца, и в арьергарде фаланга журналистов, вооруженных дреколием порицания и крючьями придирки, то многое, мне прежде показавшееся столь привлекательно-оригинальным, представилось странным и неприличным. За то и твой смиренный вызов: простить тебе твои грехи вольные и невольные и с тобою христиански примириться возбудил в твоих пишущих собратиях одну нехристианскую насмешку и весьма языческое злоязычие. Да и сам я, вспомнив о твоем предисловии, намерен пристать на минуту к твоим порицателям. Это послужит тебе доказательством, что я пишу, как перо велит: взяв его в руки, я еще не знал, какое будет содержание письма моего.
Одно место в заключении твоего предисловия меня останавливает; в нем есть или неточность выражения, или самая выраженная мысль фальшива. Ты просишь, чтобы за тебя, идущего в путь далекий, в отечестве молились, просишь молитвы как от тех, которые смиренно не веруют в силу молитв своих, так и от тех, которые не веруют вовсе в молитву и даже не считают ее нужною , – другими словами: ты просишь от них невозможного, того, что им вовсе чуждо, чего они ни иметь, ни дать не могут, чего даже от них и просить не должно потому, что в том виде, в каком бы они его дали, если бы дать могли, оно не может быть никем желаемо и не принесет желающему никакой пользы. Может ли быть молитва без веры в молитву? И для кого может быть действительна подобная молитва, если только здесь у места имя молитвы? Что же хотел ты сказать? Не понимаю. Молитва не может существовать без молящегося; она тогда только получает жизнь, когда слова, ее выражающие, выражают в то же время и душу их произносящего: тогда совершается таинство смирения перед Богом в душе человеческой, таинство для нас неисповедимое, таинство, силою которого Всемогущий, всякое добро творящий по одной своей мудрости и благости, так сказать, покоряется бедному слову человека. В чем же это таинство, в чем его сила? В вере, приводящей в движение горы; в смирении, предающем нас безъизъятно в сильную руку Бога. Такой молитвы Он Сам от нас требует; такая молитва заключается в неисчерпаемой глубине тех слов, которые Сам Он научил произносить нас, человечески дав их человеку, дабы он мог непосредственно соединиться с сердцем Бога. Но и эти живые слова, из уст Божиих нам исшедшие, не будут иметь никакой живительной силы, если не будут словами смиренно верующего сердца.
Бог требует от нас молитвы. На что Ему наша молитва? спросит умствователь. Нужно ли Его преклонять на милость, когда Он по существу своему есть милость верховная? Нужно ли и Ему Самому устанавливать между собою и человеком обряд моления с словесною формою молитвы? Нужно ли говорить человеку: ты прежде потребуй, тогда Я дам , – когда Ему все, для человека необходимое, наперед известно и когда все благие даяния сами собою из Него истекают? В ответ на сии вопросы умствователя христианин, вместо всякого объяснения, укажет молча на Евангелие, где сказано: молитесь . А что сказано в Евангелии, то есть истина, без согласия ума доказанная верою. Но и ум согласен будет с словами евангельскими, если наперед постановить, что ум не из своих заключений извлекает убеждение в бытии Божием, а напротив, все свои выводы опирает на главной, коренной, центральной идее, принятой за аксиому, что Бог существует – не метафизический Бог пантеизма, безжизненная идея, но Бог живой, тройственный, лицо самобытное, Бог, во всякое мгновение вечного своего бытия, на всяком пункте неизмеримости, весь присутственный, постоянно, непрерывно, сознательно действующий, как на каждую пылинку создания своего отдельно , так и на все свое создание в совокупности . При таком признании бытия Божия, которое есть в то же время и откровение, все для нашей ограниченности несогласимые противоречия исчезают; ум останавливается перед указанными ему границами, признает неотрицаемость истин, одна другую исключающих, и смиренно передает вере их согласование, силе его неподвластное.
Не входя в бесполезное согласование противоречащих друг другу, но в существе своем неоспоримых истин и принимая с смиренною верою слова Евангелия, мы должны сказать, что в сем требовании от нас молитвы выражается вся благость Бога живого. Тогда как там в небесах, в неизмеримости пространства, посреди этого не имеющего берегов океана, в котором каждая капля есть солнце , неисчислимым звездам указываются пути их, и на каждой звезде устраивается судьба каждого ее атома по законам, однажды данным и вечно хранимым (не механическою необходимостию, а промыслительным, любящим всемогуществом), здесь , на нашей земной пылинке, совершается великое дело спасения души человеческой; вечный Бог вступает в братство с минутным жителем земной пылинки, вселяет божественное всемогущество в скинию человеческой ничтожности, чтобы дать душе человеческой в себе отца, и покоряет свою благость силе человеческого слова, говоря ему: Молися; когда в твоей молитве будет душа твоя, тогда и Я в твоей молитве буду с твоею душою. Тебе молитва нужна как Моя к тебе любовь, а Мне твоя молитва нужна как твоя любовь ко Мне… Нужна, нужна Богу! Здесь является перед нами во всей своей наготе бедный язык человека, который те же слова, какими выражается наша ничтожность, употребляет для выражения неизглаголанности Божией.
Остановимся на этом предмете. Когда мы умствуем о существе Бога, то есть когда наш ум, ограниченный тесным кругом, одними собственными способами силится обнять необъятное и, так сказать, в атом слова втеснить создание и создателя, мы беспрестанно попадаем на истины неразрешимо противоречащие одна другой. Сия неразрешимость не принадлежит существу самой истины – она есть только наша естественная неспособность собственными силами найти разрешение. Мы можем путем ума добираться до частных, отдельных, относительных истин, можем даже обнимать одним взглядом тот исторический порядок, в котором эти истины одна за другою или одна из другой следуют; но целого, но слияния всех истин в одну общую, основную, положительную, все проникающую своим светом, наш ум обнять не может; всякий результат наших умствований есть не иное что, как последнее звено цепи – все один отрывок. Когда мы умствуем о Боге, мы, с своей точки во времени и пространстве, смотрим на вечное и неизмеримое глазами, привыкшими видеть одно преходящее и ограниченное; для выражения сего вечного и неизмеримого мы употребляем язык, которого каждое слово есть знамение временного и мелкого. Чтобы постигнуть Бога и Его свойства, надлежит стать на Его место : иначе мы будем всюду видеть одни отрывочные, одна другой противоположные, следственно одна другую исключающие истины, но в то же время будет всегда в нас тревожное, темное чувство, что истина верховная таинственно соприсутствует нашему сомнению, что она, вопреки всем явным противоречиям, неотрицаема, но что для нас она неуловима и нашему убеждению недоступна. Какое тогда прибежище останется уму, если только он в своей гордости не рассечет Гордиева узла дерзостным отрицанием? Вера в откровение. Откровение есть голос, слышимый с Божия места: оно дополняет знание, мирит противоречия и ставит нас лицом к лицу перед вечною истиною. Один раз только эта истина сама явилась на земле глазам человека; и он ее видел без покрывала и не узнал ее. Когда Спаситель стоял перед судилищем Пилата и Пилат спросил у него, употребив, как римлянин, язык Рима: Quid est veritas? Что есть истина ? – Господь не ответствовал. Но в ответе Его, если бы Он восхотел дать ответ, заключались бы все буквы слов вопроса с переменою только их порядка: est vir, qui adest, – есть муж, который предстоит . Истина есть Бог, а наш ум есть этот вопрошающий Пилат, который и не подозревает, что ответ на вопрос его заключается в самом его вопросе (понеже настоящий порядок ему неизвестен) и, председая гордо на судилище, не узнает божественного откровения, ему предстоящего в образе этого Всемогущего Узника, которого скоро с самовластием беспощадным предаст поруганию и смерти.
Однажды (это было в Висбадене) я шел перед вечером по берегу узкого канала; небо задернуто было синими облаками, из-под которых с чистого горизонта сияло заходящее солнце и золотило здания, деревья и зелень; этот яркий блеск составлял прекрасную противоположность с холодною мрачностью неба. Вдруг передо мною вода канала, дотоле спокойно неподвижная и стоявшая вровень с берегами (от плотины, которою был канал перерезан), быстро и с шумным кипением перелилась через край плотины в жерло водопровода (которым она далее текла под землею). На месте перелома, перед самым темным жерлом подземного свода, сверкала на солнце яркая, движущаяся полоса, и на этой полосе, от быстрого низвержения воды, взлетали бесчисленными, разной величины пылинками сияющие капли; одни подымались высоко, другие густо кипели на самом переломе, и все они на взлете и на падении яркими звездочками отделялись от темноты подземного свода, которым поглощалась вся влажная масса; мгновенное их появление, более или менее быстрое, вдруг прекращалось, уступая другому такому же, и все исчезали вместе с волною, их породившею, во тьме подземелья. Это было для меня чудным, символическим видением. С своего места , одним взглядом я обнимал движение бесчисленных миров; эти светлые, мгновенные капли, эти атомические звезды, все конечно населенные микроскопическими жителями (ибо здесь все преисполнено жизни), совершали, каждая как самобытный мир, свой круг определенный и каждый из обитателей всех этих минутных миров также совершал свой полный переход от рождения к смерти, – все это мне представлялось разом с той высшей точки зрения, вне того тесного пространства, на котором происходило видимое мною движение; я все мог обозреть в совокупности одним взглядом (хотя подробности были недоступны слабому моему зрению). Там все (от неимоверной быстроты движения) сливалось для меня воедино: не было ни настоящего, ни прошедшего, ни будущего; я разом видел начало и конец, но видел, конечно, слепыми глазами, не постигая видимого; тогда как в то же время неприметные жители бесчисленных водяных пылинок, так быстро подымавшихся на узкой полосе света, между двумя темными глубинами, имели каждый свою полную жизнь, свое начало и конец, свои годы, свои мгновения; но то, что было им полною жизнию на их месте, то было менее нежели тенью мгновения на моем. И какая разница между моими о них понятиями, с моей точки зрения, и теми, какие они могли иметь о себе на своей. Я видел вдруг и начало и конец того, что для них было только последствие, только переход, от начала к концу. Я, так сказать, смотрел на них из вечности, они же смотрели на себя во времени. Теперь вообразим ангела, стоящего превыше мироздания, посреди бесчисленного множества созвездий – ярких брызгов, взлетающих с великого потока, озаряемого незаходимым солнцем; что́ будет перед глазами его наша земная капля? Что будут наши мгновения, наши тысячелетия? Что будет рождение, могущество и падение наших великих империй? Одним словом, что будет он видеть с своего места – не то же ли, что́ я видел с моего, когда смотрел на мелкие брызги водоема? И в то же время с своего места не будет ли он так же далеко от вечности, как мы на своем далеко и от него, и от той же неизглаголанной вечности, и от ее источника Бога, для Которого нет изменений, нет конца и начала, нет противоречий, для Которого все есть постоянство, жизнь, свет и истина? Но чистый ангел, созерцающий лицо Бога, исчезает пред ним в блаженстве смирения, а мы?..
Р. S. Еще несколько слов о том же предмете.
Без самоотвержения нет молитвы; без молитвы нет самоотвержения. Для чего мы здесь? Для того ли, чтоб предаваться разнообразным впечатлениям внешнего, принадлежать каждому вполне на минуту и потом вполне – вслед за сими быстрыми минутами, как они – исчезнуть? Если бы это было так, то можно бы было утвердительно сказать, что мы создание случая, который сам есть нечто несущественное. Нет, мы здесь для Бога. Тот, Кто, создав нас, вложил в нашу душу стремление Его постигнуть и с Ним соединиться, не мог нас ни для чего иного создать, как для Самого Себя. Так говорит здравый философствующий ум. Но он только угадывает истину. Откровение являет ее в самом факте. Мы созданы Богом для Бога, мы помещены Им в этом мире, где каждому из нас Он указал свое место и свой круг действия, для того чтобы посреди сих изменяющихся, мгновенных, нас увлекающих явлений, постоянно искать Бога, неизменно к Нему стремиться и в Нем одном пребывать мыслию, волею и действием; для того чтобы все сии вечные, но отрывочно в разные мгновения временного бытия собранные о Нем понятия, сие извлечение вечного из временного, слиявшись с душою, по существу своему с Ним однородною, ее очистили, возвысили, преобразовали и с нею на всю вечность перешли в иную высшую жизнь; одним словом: мы здесь для самоотвержения. Чтобы отвергнуться самого себя, надлежит стать пред лицом Бога и в Его присутствии постигнуть всю ничтожность и нас самих и всего, нас окружающего, и все несказанное блаженство присутствия Божия, или, лучше сказать, нашей принадлежности Богу, Который сам так благостно нам дается. Сие предстание души пред лицо Бога есть молитва , и она бывает только тогда, когда перед душою нашею нет ничего, кроме Бога, – следовательно, когда мы вполне самих себя и всего нас окружающего отверглись. Итак, самоотвержением мы приходим к молитве, а молитва, будучи высшею степенью самоотвержения, усиливает его в душе нашей и им нас совершенствует. Молитва Господня есть голос и выражение чистейшего самоотвержения; уже и потому это так, что человек получил эту молитву из уст самого Бога-Спасителя. Один только Спаситель, то есть Бог любящий, мог научить человека предаться Богу Создателю, то есть Богу Отцу, и дать Ему истинное, исключительно Ему принадлежащее имя Отца, сущего на небеси . Молясь, мы должны не просить у Бога того, что ему одному принадлежит, а отдавать Богу то, что наше. В словах: Отче наш, иже еси на небеси, заключается полное самоотвержение, какое только бывает в младенце, бессознательно привыкшем повиноваться отцу своему; есть не только покорение своей воли воле сильнейшей, любящей и любимой, но и спокойное, беззаботное незнание своей воли, дающее чистому сердцу младенца тот полный, им еще не постигнутый, но глубоко его проникающий мир, который обращает его свежую жизнь в блаженство и которым так сладостно для нас воспоминание детских лет наших. Да святится имя Твое – имя Отца, имя небесного Отца. Что значит слово: да святится? Да будет произносимо устами сыновними так, как имя Божие произносимо быть должно, с полным уничтожением всего собственного, с полным ощущением всей святости этого имени и взаимного отношения между Отцом небесным и сыном земным, отношения, которое, с одной стороны, есть благость всемогущая и любовь спасающая и правда высшая, а с другой – полное уничтожение своей воли и признание одной воли всевышней, полное, самоотверженное предание себя и всего в сию волю. Да приидет царствие Твое – да все живущее и мыслящее совокупно отвергнется себя и да каждая отдельная воля сольется со всеми другими в одно всеобщее повиновение воле верховной. Да будет воля Твоя на земли, яко на небеси – то же самое, но в отношении к каждому человеку отдельно и к земной судьбе его: для нас в этой жизни нет ничего самобытно существенного, ничего такого, что бы могло иметь для нас цену по своему положительному достоинству: все имеет значение только по отношению к Богу; все наши здешние блага, и то, что мы называем ошибочно счастьем, и то, что наша слабость именует бедствием, все есть одно знамение Бога, есть его воля в разных видах, есть явление, происходящее перед нами только для того, чтобы мы имели повод сказать самоотверженным сердцем: да будет воля Твоя. Хлеб наш насущный даждь нам днесь – дай нам в это мгновение то, что нам в это мгновение нужно; не один хлеб, утоляющий голод телесный, но и хлеб, утоляющий голод души: чистые мысли и чувства, спокойствие в присутствии беды и горя, терпение в испытании, память долга в решительную минуту выбора воли, одним словом, самоотвержение, то есть произвольное, во всякую минуту, без малейшего тревожного взгляда за границу этой минуты, в душе пребывающее предание себя в хранящую волю Бога. Не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого – то же самое, только в смысле нашей внутренней жизни: там самозабвение относительно всех событий житейских, извне на нас действующих, здесь самоотвержение относительно событий внутренних, то есть действий нашей души, свободной, следственно, подлежащей искушению, но искушению, не Богом посылаемому (понеже Бог не творит зла и не влечет ко злу), а искушению, составляющему необходимое условие нашей свободной воли, которая тогда только теряет свою естественную шаткость, когда вполне, произвольно сливается с волею Бога и в ней исчезает. Но и самая сия произвольность дается ей Богом, все дающим: Он один, молитвою призванный, может отвесть нашу душу от бездны искушения, на краю которой идет дорога нашей земной жизни, и подать ей руку, когда, упадшая в эту бездну, она призовет Его, утопая.
Нечто о привидениях
Верить или не верить привидениям? Прежде нежели отвечать на этот вопрос, надлежит определить, что такое привидение? Я видел , значит: моим открытым глазам, наяву, представился предмет, подлежащий чувству зрения; мне приснилось , значит: я видел не наяву, с закрытыми глазами, предмет, не подлежащий чувству зрения; мне привиделось , значит: я видел наяву, открытыми глазами, предмет, не подлежащий чувству зрения. Итак, привидение есть вещественное явление предмета невещественного. Если этот предмет, который нам в минуту видения кажется существенным и от нас отдельным, есть не иное что, как нечто, внутри нас самих происходящее, то он сам по себе не существует: здесь нет еще привидения. Оно бывает тогда, когда перед нами совершается явление существ духовных, нами видимых, но не подлежащих чувству зрения. Итак, верить ли привидениям ? значит: верить ли действительности таких существ и их чувственному с нами сообщению? Когда мы спим, действие внешнего на нас прекращается; и, видя сон, мы видим без предмета, не употребляя на то органов зрения. Если бы сновидения были не так обыкновенны, если бы иметь их могли весьма немногие, и те весьма редко, то и сновидения казались бы нам невероятными, ибо в них есть нечто, противоречащее естественному порядку. Бывают сны наяву , которые весьма близко подходят к тому, что мы назвали привидением. Иногда еще глаза не закрылись, еще все окружающие нас предметы нам видимы, а уже сон овладел нами, и уже в сновидении, в которое мы перешли нечувствительно, совершается перед нами что-то, совсем отличное от того состояния, в котором мы были за минуту, что-то странное, всегда более или менее приводящее в ужас; и если мы проснемся, не заметив быстрого нашего перехода от бдения ко сну и наоборот, то легко можем остаться с мыслию, что с нами случилось нечто неестественное. Вот пример: покойный А. М. Дружинин (бывший, кажется, в Москве главным директором училищ) рассказал мне следующий замечательный случай:








