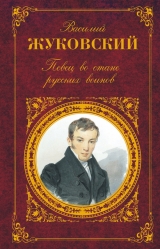
Текст книги "Певец во стане русских воинов"
Автор книги: Василий Жуковский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 23 страниц)
Рассматривал… К нему шел человек,
В котором все нечеловечье было:
Он был живой, но жизни чужд казался;
Ни старости, ни молодости в чудных
Его чертах не выражалось; все в них было
Давнишнее, когда-то вдруг – подобно
Созданьям допотопным – в камень
Неумираюший и неживущий
Преобращенное; в его глазах
День внешний не сиял, но в них глубоко
Горел какой-то темный свет,
Как зарево далекого сиянья;
Вкруг головы седые волоса
И борода, широкими струями
Грудь покрывавшая, из серебра
Казались вылитыми; лоб
И щеки бледные, как белый мрамор,
Морщинами крест-накрест были
Изрезаны; одежда в складках тяжких,
Как будто выбитых из меди, с плеч
До пят недвижно падала; и ноги
Его шли по земле, как бы в нее
Не упираяся. – Пришелец, приближась,
На узника скалы вперил свои
Пронзительные очи и сказал:
«Куда ты шел и где б ты был, когда б
Мой голос вовремя тебя не назвал?
Не говорить с тобой сюда пришел я:
Не может быть беседы между нами,
И мыслями меняться нам нельзя;
Я здесь не гость, нe друг, не собеседник;
Я здесь один минутный призрак, голос
Без отзыва… Врачом твоей души
Хочу я быть, и перед нею всю
Мою судьбу явлю без покрывала.
В молчанье слушай. Участи моей
Страшнее не было, и нет, и быть
Не может на земле. Богообидчик,
Проклятью npеданный, лишенный смерти
И в смерти жизни, вечно по земле
Бродить приговоренный, и всему
Земному чуждый, памятью о прошлом
Терзаемый, и в области живых живой
Мертвец, им страшный и противный,
Не именующий здесь никого
Своим, и что когда любил на свете —
Все переживший, все похоронивший,
Все пережить и все похоронить
Определенный; нет мне на земле
Ни радости, ни траты, ни надежды;
День настает, ночь настает – они
Без смены для меня; жизнь не проходит,
Смерть не проходит; измененья нет
Ни в чем; передо мной немая вечность,
Окаменившая живое время;
И посреди собратий бытия,
Живущих радостно иль скорбно, жизнь
Любящих иль из жизни уводимых
Упокоительной рукою смерти,
На этой братской трапезе созданий
Мне места нет; хожу кругом трапезы
Голодный, жаждущий – меня они
Не замечают; стражду, как никто
И сонный не страдал – мое ж страданье
Для них не быль, а вымысел давнишний,
Давно рассказанная детям сказка.
Таков мой жребий. Ты, быть может,
С презреньем спросишь у меня: зачем же
Сюда пришел я, чтоб такой
Безумной басней над тобой ругаться?
Таков мой жребий, говорю, для всех
Вас, близоруких жителей земли;
Но для тебя моей судьбины тайну
Я всю вполне открою… Слушай.
Я – Агасфер; не сказка Агасфер,
Которою кормилица твоя
Тебя в ребячестве пугала; нет!
Я Агасфер живой, с костями, с кровью,
Текущей в жилах, с чувствующим сердцем
И с помнящей минувшее душою.
Я Агасфер – вот исповедь моя.
О нет! язык мой повторить не может
Живым, для слуха внятным словом
Того, что некогда свершилось, что
В проклятие жизнь бедную мою
Преобразило. Имя Агасфер
Тебе сказало все… Нет! в языке
Моем такого слова не найду я,
Чтоб то изобразить, что был я сам,
Что мыслилось, что виделось, что ныло
В моей душе и что в ночах бессонных,
Что в тяжком сне, что в привиденьях,
Пугавших въявь, мне чудилось в те дни,
Которые прошли подобно душным,
Грозою полным дням, когда дыханье
В груди спирается и в страхе ждешь
Удара громового; в дни несказанной
Тоски и трепета, со дня Голгофы
Прошедшие!.. Ерусалим был тих,
Но было то предтишье подходящей
Беды; народ скорбел, и бледность лиц,
Потупленность голов, походки шаткость
И подозрительность суровых взглядов —
Все было знаменьем чего-то, страшно
Постигнувшего всех, чего-то, страшно
Постигнуть всех грозящего; кругом
Ерусалимских стен какой-то мрачный,
Неведомый во граде никому,
Бродил и криком жалобным, на всех
Концах всечасно в граде слышным: «Горе!
От запада и от востока горе!
От севера и от полудня горе!
Ерусалиму горе!» – повторял.
А я из всех людей Ерусалима
Был самый трепетный. В беде всеобщей
Мечталась мне страшнейшая моя:
Чудовище с лицом закрытым, мне
Еще неведомым, но оттого
Стократ ужаснейшим. Что он сказал мне —
Я слов его не постигал значенья:
Но звуки их ни день, ни ночь меня
Не покидали; яростью кипела
Вся внутренность моя против него,
Который ядом слова одного
Так жизнь мою убил; я приговора
Его могуществу не верил; я
Упорствовал обманщика в нем видеть;
Но чувствовал, что я приговорен…
К чему?.. Неведенья ужасный призрак,
Страшилище без образа, везде,
Куда мои глаза ни обращал я,
Стоял передо мной и мучил страхом
Неизглаголанным меня. Против
Обиженного мной и приговор мне
Одним, еще непонятым мной, словом
Изрекшего, и против всех его
Избранников я был неукротимой
Исполнен злобой. А они одни
Между людьми Ерусалима были
Спокойны, светлы, никакой тревогой
Не одержимы: кто встречался в граде
Смиренный видом, светлым взором
Благословляющий, благопристойный
В движениях, в опрятном одеянье.
Без роскоши, уж тот, конечно, был
Слугой Иисуса Назорея; в их
Собраниях вседневно совершалось
О нем воспоминанье; часто, посреди
Ерусалимской смутной жизни, было
Их пенье слышимо; они без страха
В домах, на улицах, на площадях
Благую весть о нем провозглашали.
Весь город злобствовал на них, незлобных;
И эта злоба скоро разразилась
Гонением, тюремным заточеньем
И наконец убийством. Я, как дикий
Зверь, ликовал, когда был перед храмом
Стефан, побитый каменьем, замучен;
Когда потом прияли муку два
Иакова – один мечом, другой
С вершины храма сброшенный; когда
Пронесся слух, что Петр был распят в Риме,
А Павел обезглавлен: мнилось мне,
Что в них, свидетелях его, и память
О нем погибнет. Тщетная надежда!
Во мне тоска от страха неизвестной
Мне казни только раздражалась. Я
При Ироде-царе рожденный, видел
Все время Августа; потом три зверя,
Кровавой властью обесславив Рим,
Погибли; властвовал четвертый, Нерон;
Столетие уж на плечах моих лежало;
Вокруг меня четыре поколенья
Цвели в одном семействе: сыновья,
И внучата, и внуков внуки в доме
Моем садились за мою трапезу…
Но я со дня того в живом их круге
Все более и боле чужд, и сир,
И нелюдим, и грустен становился;
Я чувствовал, что я ни хил, ни бодр,
Ни стар, ни молод, но что жизнь моя
Железно-мертвую приобрела
Несокрушимость; самому себе,
Среди моих живых детей, и внуков,
И правнуков, казался я надгробным
Камнем, меж их могил стоящим камнем:
И лица их имели страшный цвет
Объятых тленьем трупов. Все уж дети
И все уж внуки были взяты смертью;
И правнуков с невыразимым горем
И бешенством я начал хоронить…
Тем временем час от часу душнее
В Ерусалиме становилось. Зная,
Что будет, все Иисуса Назорея
Избранники покинули убивший
Учителя их город и ушли
За Иордан. И все, и все сбывалось,
Что предсказал он: Палестина вся
Горела бунтом; легионы Рима
Терзали области ее; и скоро
Приблизился к Ерусалиму час
Его судьбы; то время наступило,
Когда, как он пророчил, «благо будет
Сошедшим в гроб, и горе матерям
С младенцами грудными, горе старцам
И юношам, живущим в граде, горе
Из града не ушедшим в горы девам».
Веспасианов сын извне пути
Из града все загородил, вогнав
Туда насильно мор и голод;
Внутри господствовали буйство, бунт,
Усобица, безвластъе, безначалье.
Владычество разбойников, извне
Прикликанных своими на своих.
Вдруг три осады: храма от пришельных
Грабителей, грабителей от града, града
От легионов Тита… Всюду бой;
Первосвященников убийство в храме:
На улицах нестройный крик от страха,
От голода, от муки передсмертной,
От яростной борьбы за кус согнившей
Еды, рев мятежа, разврата песни,
Бесстыдных оргий хохот, стон голодных
Младенцев, матерей тяжелый вой…
И в высоте над этой бездной днем
Безоблачно пылающее небо,
Зловонную заразу вызывая
Из трупов, в граде и вне града
Разбросанных; в ночи ж, как божий меч,
Звезда беды, своим хвостом всю твердь
Разрезавшая пополам. Ерусалиму
Пророча гибель… И погибнуть весь
Израиль обречен был; отовсюду
Сведенный светлым праздником пасхальным
В Ерусалим, народ был разом предан
На истребленье мстительному Риму.
И все истреблены: убийством, гладом,
В когтях зверей, прибитые к крестам,
В цепях, в изгнанье, в рабстве на чужбине.
Погиб господний град – и от созданья
Мир не видал погибели подобной.
О, страшно он боролся с смертным часом!
Когда в него, все стены проломив,
Ворвался враг и бросился на храм, —
Народ, в его толпу, из-за ограды
Исторгшись, врезался и, с ней сцепившись,
Вслед за собой ее вовлек в средину
Ограды. Бой ужасный, грудь на грудь,
Тут начался; и, наконец, спасаясь,
Вкруг скинии, во внутренней ограде
Столпились мы, отчаянный, последний
Израиля остаток… Тут увидел
Я несказанное: под святотатной
Рукою скиния открылась, стало
Нам видимо невиданное оку
Дотоль – ковчег завета… В этот миг
Храм запылал, и в скинию пожар
Ворвался… Мы, весь гибнущий Израиль,
И с нами нас губящий враг в единый
Слилися крик, одни завыв от горя,
А те заликовав от торжества
Победы… Вся гора слилася в пламя,
И посреди его, как длинный, гору
Обвивший змей, чернело войско Рима.
И в этот миг все для меня исчезло.
Раздавленный обрушившимся храмом,
Я пал, почувствовав, как череп мой
И кости все мои вдруг сокрушились.
Беспамятство мной овладело… Долго ль
Продлилося оно – не знаю. Я
Пришел в себя, пробившись сквозь какой-то
Невыразимый сон, в котором все
В одно смешалося страданье. Боль
От раздробленья всех костей, и бремя
Меня давивших камней, и дыханья
Запертого тоска, и жар болезни,
И нестерпимая работа жизни,
Развалины разрушенного тела
Восстановляющей при страшной муке
И голода и жажды – это все
Я совокупно вытерпел в каком-то
Смятенном, судорожном сне, без мысли,
Без памяти и без забвенья, с чувством
Неконченного бытия, которым,
Как тяжкой грезой, вся душа
Была задавлена и трепетала
Всем трепетом отчаянным, какой
Насквозь пронзает заживо зарытых
В могилу. Но меня моя могила
Не удержала; я из-под обломков,
Меня погребших, вышел снова жив
И невредим; разбив меня насмерть,
Меня, ожившего, они извергли,
Как скверну, из своей громады.
Очнувшись, в первый миг я не постигнул,
Где я. Передо мною подымались
Вершины горные; меж них лежали
Долины, и все они покрыты были
Обломками, как будто бы то место
Град каменный, обрушившися с неба,
Незапно завалил: и там нигде
Не зрелося живого человека —
То был Ерусалим!.. Спокойно солнце
Садилось, и его прощальный блеск,
На высоте Голгофы угасая,
Оттуда мне блеснул в глаза – и я,
Ее увидя, весь затрепетал.
Из этой повсеместной тишины,
Из этой бездны разрушенья снова
Послышалося мне: «Ты будешь жить,
Пока я не приду». Тут в первый раз
Постигнул я вполне свою судьбину.
Я буду жить! я буду жить, пока
Он не придет!.. Как жить?.. Кто он? Когда
Придет?.. И все грядущее мое
Мне выразилось вдруг в остове этом
Погибшего Ерусалима: там
На камне камня не осталось; там
Мое минувшее исчезло все;
Все, жившее со мной, убито; там
Ничто уж для меня не оживет
И не родится; жизнь моя вся будет,
Как этот мертвый труп Ерусалима,
И жизнь без смерти. Я в бешенстве завыл
И бешеное произнес на все
Проклятие. Без отзыва мой голос
Раздался глухо над громадой камней,
И все утихло… В этот миг звезда
Вечерняя над высотой Голгофы
Взошла на небо… и невольно,
Сколь мой ни бешенствовал дух, в ее
Сиянье тайную отрады каплю
Я смертоносным питием хулы
И проклинанья выпил; но была то
Лишь тень промчавшегося быстро мига.
Что с оного я испытал мгновенья?
О, как я плакал, как вопил, как дико
Роптал, как злобствовал, как проклинал,
Как ненавидел жизнь, как страстно
Невнемлющую смерть любил! С двойным
Отчаяньем и бешенством слова
Страдальца Иова я повторял:
«Да будет проклят день, когда сказали:
Родился человек; и проклята
Да будет ночь, когда мой первый крик
Послышался; да звезды ей не светят,
Да не взойдет ей день, ей, незапершей
Меня родившую утробу!» А когда я
Вспоминал слова его печали
О том, сколь малодневен человек:
«Как облако уходит он, как цвет
Долинный вянет он, и место, где
Он прежде цвел, не узнает его», —
О! этой жалобе я с горьким плачем
Завидовал… Передо мною все
Рождалося и в час свой умирало;
День умирал в заре вечерней, ночь
В сиянье дня. Сколь мне завидно было,
Когда на небе облако свободно
Летело, таяло и исчезало;
Когда свистящий ветер вдруг смолкал,
Когда с деревьев падал лист; все, в чем
Я видел знамение смерти, было
Мне горькой сладостью; одна лишь смерть —
Смерть, упование не быть, исчезнуть —
Всему, что жило вкруг меня, давала
Томительную прелесть; жизнь же
Всего живущего я ненавидел
И клял, как жизнь проклятую мою…
И с этой злобой на творенье, с диким
Восстаньем всей души против творца
И с несказанной ненавистью против
Распятого, отчаянно пошел я.
Неумирающий, всему живому
Враг, от того погибельного места,
Где мне моей судьбы открылась тайна.
Томимый всеми нуждами земными,
Меня терзавшими, не убивая,
И голодом, и жаждою, и зноем,
И хладом, грозною нуждой влекомый,
Я шел вперед, без воли, без предмета.
И без надежды, где остановиться
Или куда дойти; я не имел
Товарищей: со мною братства люди
Чуждались; я от них гостеприимства
И не встречал и не просил. Как нищий,
Я побирался… Милостыню мне
Давали без вниманья и участья,
Как лепт, который мимоходом
Бросают в кружку для убогих, вовсе
Незнаемых. И с злобой я хватал,
Что было мне бросаемо с презреньем.
Так я сыпучими песками жизни
Тащился с ношею моею, зная,
Что никуда ее не донесу;
И вместе с смертию был у меня
И сон, успокоитель жизни, отнят.
Что днем в моей душе кипело: ярость
На жизнь, богопроклятие, вражда
С людьми, раздор с собою, и вины —
Непризнаваемой, но беспрестанно
Грызущей сердце – боль, то́ в темноте
Ночной, вкруг изголовья моего
Толпою привидений сто́я, сон
От головы измученной моей
Неумолимо отгоняло. Буря
Ночная мне была отрадней тихой,
Украшенной звездами ночи: там,
С мутящим землю бешенством стихий,
Я бешенством души моей сливался.
Здесь каждая звезда из мрака бездны,
Там одинокая меж одиноких,
Подобно ей потерянных в пространстве,
Как бы ругаясь надо мною, мне
Мой жребий повторяла, на меня
С небес вперяя пламенное око.
Так, в исступлении страданья, злобы
И безнадежности, скитался я
Из места в место; все во мне скопилось
В одну мучительную жажду смерти.
«Дай смерть мне! дай мне смерть!» – то было криком
Моим, и плачем, и моленьем
Пред каждым бедствием земным, которым
На горькую мне зависть гибли люди.
Кидался в бездну я с стремнины горной:
На дне ее, о камни сокрушенный,
Я оживал по долгой муке. Море в лоно
Свое меня не принимало; пламень
Меня пронзал мучительно насквозь,
Но не сжигал моей проклятой жизни.
Когда к вершинам гор скоплялись тучи
И там кипели молнии, туда
Взбирался я, в надежде там погибнуть;
Но молнии кругом меня вилися,
Дробя деревья и утесы: я же
Был пощажен. В моей душе блеснула
Надежда бедная, что – может быть —
В беде всеобщей смерть меня с другими
Скорей, чем одинокого, ошибкой
Возьмет: и с чумными в больнице душной
Я ложе их делил, их трупы брал
На плечи и, зубами скрежеща
От зависти, в могилу относил:
Напрасно! мной чума пренебрегала.
Я с караваном многолюдным степью
Песчаной Аравийской шел;
Вдруг раскаленное затмилось небо,
И солнце в нем исчезло: вихрь
Песчаный побежал от горизонта
На нас; храпя, в песок уткнули морды
Верблюды, люди пали ниц – я грудь
Подставил пламенному вихрю:
Он задушил меня, но не убил.
Очнувшись, я себя увидел посреди
Разбросанных остовов, на пиру
Орлов, сдирающих с костей обрывки
Истлевших трупов. – В тот ужасный день,
Когда исчез под лавой Геркуланум
И пепел завалил Помпею, я
Природы судорогой страшной был
Обрадован: при стоне и трясенье
Горы дымящейся, горящей, тучи
Золы и камней и кипучей лавы
Бросающей из треснувшего чрева,
При вое, крике, давке, шуме в бегстве
Толпящихся сквозь пепел, все затмивший,
В котором, ничего не озаряя,
Сверкал невидимый пожар горы,
Отчаянно пробился я к потоку
Всепожирающему лавы: ею
Обхваченный, я, вмиг прожженный, в уголь
Был обращен, и в море,
Гонимый землетрясения силой,
Был вынесен, а морем снова брошен
На брег, на произвол землетрясенью.
То был последний опыт мой насильством
Взять смерть; я стал подобен гробу,
В котором запертой мертвец, оживши
И с криком долго бившись понапрасну,
Чтоб вырваться из душного заклепа.
Вдруг умолкает и последней ждет
Минуты, задыхаясь: так в моем
Несокрушимом теле задыхалась
Отчаянно моя душа. «Всему
Конец: живи, не жди, не веруй, злобствуй
И проклинай; но затвори молчаньем
Уста и замолчи на вечность» – так
Сказал я самому себе…
Но слушай.
Тогда был век Траяна; в Рим
Из областей прибывший император
В Веспасиановом амфитеатре
Кровавые готовил граду игры:
Бой гладиаторов и христиан
Предание зверям на растерзанье.
Пронесся слух, что будет знаменитый
Антиохийской церкви пастырь, старец
Игнатий, льву ливийскому на пищу
В присутствии Траяна предан. Трепет
Неизглаголанный при этом слухе
Меня проник. С народом побежал я
В амфитеатр – и что моим очам
Представилось, когда я с самых верхних
Ступеней обозрел глазами бездну
Людей, там собранных! Сквозь яркий пурпур
Растянутой над зданьем легкой ткани,
Которую блеск солнца багрянил,
И зданье, и народ, и на высоком
Седалище отвсюду зримый кесарь
Казались огненными. В это
Мгновение последний гладиатор,
Народом не прощенный, был зарезан
Своим противником. С окровавленной
Арены мертвый труп его тащили,
И стала вдруг она пуста. Народ
Умолк и ждал, как будто в страхе, знака
Не подавая нетерпенья. Вдруг
В глубокой этой тишине раздался
Из подземелья львиный рев, и сквозь
Отверзтый вход амфитеатра старец
Игнатий и с ним двенадцать христиан,
Зверям на растерзанье произвольно
С своим епископом себя предавших,
На страшную арену вышли. Старец,
Оборотясь к другим, благословил их,
Ему с молением упавших в ноги;
Потом они, прижав ко груди руки:
«Тебя, – запели тихо, – бога, хвалим,
Тебя едиными устами в смертный
Час исповедуем…» О, это пенье,
В Ерусалиме слышанное мною
На праздничных собраньях христиан
С кипеньем злобы, здесь мою всю душу
Проникнуло незапным вдохновеньем.
Что предо мной открылось в этот миг,
Что вдруг во мне предчувствием чего-то
Невыразимого затрепетало
И как, в амфитеатр ворвавшись, я
Вдруг посреди дотоле ненавистных
Мне христиан там очутился – я
Не знаю. Пенье продолжалось; но
Уж на противной стороне арены
Железная решетка, загремев, упала,
И уж в ее отверстии стоял
С цепей спущенный лев, и озирался…
И вдруг, завидя вдалеке добычу,
Он зарыкал… и вспыхнули глаза,
И грива стала дыбом… Тут вперед
Я кинулся, чтоб старца заслонить
От зверя… Он уже кидался к нам
Прыжками быстрыми через арену;
Но старец, кротко в сторону меня
Рукою отодвинув, мне сказал:
«Должно́ пшено господнее в зубах
Звериных измолоться, чтоб господним
Быть чистым хлебом; ты же, друг, отселе
Поди в свой путь, смирись, живи и жди…»
Тут был он львом обхвачен… Но успел
Еще меня перекрестить и взор
Невыразимый от меня на небо
В слезах возвесть, как бы меня ему
Передавая… О, животворящий,
На вечность всю присутственный в душе,
Небесного блаженства полный взгляд!
Могуществом великого мгновенья
Сраженный, я без памяти упал
К ногам терзаемого диким зверем
Святителя; когда ж очнулся, вкруг
Меня в крови разбросанные члены
Погибших я увидел; и усталый
Терзанием лежал, разинув пасть
И быстро грудью жаркою дыша,
Спокойный лев, вперив в меня свои
Пылающие очи. Но когда
Я на ноги поднялся, он вскочил,
И заревел, и в страхе от меня
Стал пятиться, и быстро вдруг
Через арену побежал, и скрылся
В своем заклепе. Весь амфитеатр
От восклицаний задрожал, а я
От места крови, плача, удалился,
И из ворот амфитеатра беспреградно вышел
Что после в оный чудный день случилось,
Не помню я; но в благодатном взгляде,
Которым мученик меня усвоил
В последний час свой небесам, опять
Блеснула светлая звезда, мгновенно
Мне некогда блеснувшая с Голгофы,
В то время безотрадно, а теперь
Как луч спасения. Как будто что-то
Мне говорило, что моя судьба
Переломилась надвое; стремленье
К чему-то не испытанному мною
Глубоко мне втеснилось в грудь, и знаком
Такого измененья было то,
Что проклинание моим устам
Произносить уже противно стало,
Что злоба сердца моего в унылость
Безмолвно-плачущую обратилась,
Что наконец страдания мои
Незапная отрада посетила:
Хотя еще к моей груди усталой,
По-прежнему, во мраке ночи сон
Не прикасался; но уже во тьме
Не ужасы минувшего, как злые
Страшилища, передо мной стояли,
В меня вонзая режущие душу
Глаза; а что-то тихое и мне
Еще неоткровенное, как свежий,
Предутренний благоуханный воздух —
Вливалося в меня и усмиряло
Мою борьбу с собой. О! этот взгляд!
Он мне напомнил тот прискорбно-кроткий,
С каким был в оный день мой приговор
Произнесен… Но я уже не злобой
Наполнен был при том воспоминанье,
А скорбию раскаянья глубокой
И чувствовал стремленье пасть на землю,
Зарыть лицо во прах и горько плакать.
То были первые минуты тайной.
Будящей душу благодати, первый,
Еще неясно слышный, безответный,
Но усладительный призыв к смиренью
И к покаянью. В языке нет слова,
Чтоб имя дать подобному мгновенью,
Когда с очей души вдруг слепота
Начнет спадать и божий светлый мир
Внутри и вне ее, как из могилы,
Начнет с ней вместе воскресать. Такое
Движение в моей окаменелой
Душе незапно началося… Было
Оно подобно зыби после бури,
Когда нет ветра, небеса светлеют,
А волны долго в диком беспорядке
Бросаются, кипят и стонут. В этой
Борьбе души меж тьмой и светом я
Неодолимое влеченье в край
Отечества почувствовал, к горам
Ерусалима – и к брегам желанным
Поплыл я, и корабль мой
Прибила буря к острову Патмосу. Промысл
Господний втайне от меня ту бурю
Послал. Там жил изгнанник, старец
Столетний, Иоанн, благовеститель
Христа и ученик его любимый.
О нем не ведал я: но провиденье
Меня безведомо к нему путем
Великой бури привело, и цепью бури
Корабль наш был прикован к берегам
Скалистым острова, пока со мной
Вполне моя судьба не совершилась.
* * *
Скитаясь одиноко, я незапно
Во глубине долины, сокровенной
От странника густою тенью пальм
И кипарисов, встретил там святого
Апостола».
При этом слове пал
На землю Агасфер, и долго он
Лежал недвижим, головой во прахе.
Когда ж он встал, его слезами были
Облиты щеки; а в чертах его
Тысячелетнего лица с глубокой
Печалию, с невыразимо грустной
Любовию была слита молитвы
Неизглаголанная святость. Он
Был в этот миг прекрасен той красою,
Какой не знает мир. Он продолжал:
«Ни помышлять, ни говорить об этой встрече
Я не могу иначе, как простершись в прахе,
С тоской раскаянья, в тоске любви,
Проникнутый огнем благодаренья.
Он из кремня души моей упорной
Животворящим словом выбил искру
Всепримиряющего покаяния;
И именем того, кто нам один
Дает надежду, веру и любовь,
Мой страшного отчаянья удел
Преобратил в удел святого мира,
И наконец, когда я, сокрушенный,
Как тот разбойник на кресте, к ногам
Обиженного мной с смиренным сердцем
Упав, воскликнул: «Помяни меня,
Когда во царствие свое приидешь!» —
0н оросил меня водой крещенья,
И на другое утро – о, незаходимый,
О, вечный день для памяти моей —
За утренней звездою солнце тихо
Над морем подымалось на востоке,
Когда он, перед хлебом и перед чашей
Вина со мной простершись, сам вина и хлеба
Вкусил и мне их дал вкусить, сказав:
«Со страхом божиим и с верой, сын мой,
К сим тайнам приступи и причастись
Спасению души в святом Христа
За нас пронзенном теле и Христовой
За нас пролитой крови». И потом
Он долго поучал меня, и мне открыл
Значение моей, на испытанье
Великое приговоренной, жизни,
И наконец перед моими, мраком
Покрытыми, очами приподнял
Покров с грядущего, покров с того,
Что было, есть и будет.
Начинало
Скрываться солнце в тихом лоне моря,
Когда, меня перекрестив, со мною
Святой евангелист простился. Ветер,
Попутный плаванию в Палестину,
Стал дуть: мы поплыли под звездным небом
Полупрозрачной ночи. Тут впервые
Преображение моей судьбы
Я глубоко почувствовал; впервые,
Уже сто лет меня не посещавший,
Сошел ко мне на вежды сон, и с ним
Давно забытая покоя сладость
Мою проникла грудь. Но этот сон
Был не один страдания ценитель, —
Был ангел, прямо низлетевший с неба.
Все, что пророчески евангелист
Великий чудно говорил мне,
То в образах великих этот сон
Явил очам моей души, и в ней
Те образы, в течение столетий
Не помраченные, час от часу
Живей из облекающей их тайны
Моей душе сияют, перед ней
Неизглаголанно прообразуя
Судьбы грядущие. Корабль наш, ветром
Попутным тихо по водам несомый,
По морю гладкому, не колыхаясь,
Летел, а я непробудимым сном,
Под веяньем полуночной прохлады,
Спал, и во сне стоял передо мной
Евангелист и вдохновенно он
Слова те огненные повторял,
Которыми, беседуя со мною,
Перед моим непосвященным оком
Разоблачал грядущего судьбу;
И каждое пророка слово, в слух мой
Входя, в великий превращалось образ
Перед моим телесным оком. Все,
Что ухо слышало, то зрели очи;
И в слове говорящего со мной
Во сне пророка все передо мной,
И надо мной, на суше, на водах,
И в вышине небес, и в глубине
Земли видений чудных было полно.
Я видел трон, на четырех стоящий
Животных шестокрылых, и на троне
Сидящего с семью запечатленной
Печатями великой книгой.
Я видел, как печати с книги агнец
Сорвал, как из печатей тех четыре
Коня исторглися, как страшный всадник, смерть,
На бледном поскакал коне и как
Пред агнцем все – и небо, и земля,
И все, что в глубине земли, и все,
Что в глубине морей и небеса,
И все тьмы ангелов на небесах —
В единое слилось славохваленье.
Я зрел, ках ангел светлый совершил
Двенадцати колен запечатленье
Печатию живого бога: зрел
Семь ангелов с великими, гнев божий,
Беды и казнь гласящими трубами,
И слышал голос: «Время миновалось!»
Я видел, как дракон, губитель древний,
Вслед за женой, двенадцатью звездами
Венчанной, гнался; как жена в пустыню
Спаслася, а ее младенец был
На небо унесен; как началась
Война на небесах и как архангел
Низверг дракона в бездну и его
Всю силу истребил; и как потом
Из моря седмиглавый зверь поднялся;
Как обольщенные им люди бога
Отринули; как в небесах явился
Сын человеческий с серпом; как жатва
Великая свершилась; как на белом
Коне потом, блестящий светлым, белым
Оружием, – себя ж именовал
Он «Слово божие» – явился всадник;
Как вслед за ним шло воинство на белых
Конях, в виссон одеянное чистый,
И как из уст его на казнь людей
Меч острый исходил;
Как от того меча и зверь и рать
Его погибли; как дракон, цепями
Окованный, в пылающую бездну
На тысячу был лет низвергнут; как
Потом на высоте великий белый
Явился трон; как от лица на троне
Сидящего и небо и земля
Бежали, и нигде не обрелось
Им места; как на суд предстало все
Создание; как мертвых возвратили
Земное чрево и морская бездна;
Как разогнулася перед престолом
Господним книга жизни; как последний
Суд по делам для всех был изречен
И как в огонь неугасимый были
Низвержены на вечность смерть и ад.
И новые тогда я небеса
И землю новую узрел и град
Святой, от бога нисходящий, новый
Ерусалим, как чистая невеста
Сияющий, увидел. И раздался,
Услышал я, великий свыше голос:
«Здесь скиния господня, здесь господь
Жить с человеками отныне будет;
Здесь храма нет ему, здесь сам он храм свой;
Здесь всякую слезу отрет он;
Ни смерти более, ни слез, ни скорби
И никаких страданий и недугов
Не будет здесь, понеже миновалось
Все прежнее и совершилось дело
Господнее. Не нужны здесь ни солнце,
Ни светлость дня, ни ночи темнота,
Ни звезды неба; здесь сияет слава
Господняя, и агнец служит здесь
Светильником, и божие лицо
Спасенные очами видеть будут».
И слышал я, как все небес пространство
Глас наполнял отвсюду говорящий:
«Я бог живой, я Альфа и Омега,
Начало и конец, подходит время».
Такие образы в ту ночь, когда
Я спящий плыл к брегам Святой Земли.
Мой первый сон блаженный озаряли.
Недаром я о том здесь говорю,
Что из Писаний ты без веры знаешь:
Хочу, чтоб ты постиг вполне мой жребий.
Когда пророк святое откровенье
Мне передал своим глаголом дивным,
Во глубине души моей оно
Осталось врезанным; и с той поры
Во тьме моей приговоренной жизни
На казнь скитальца Каина, оно
Звездой грядущего горит; я в нем
Уже теперь надеждою живу,
Хотя еще не уведен из жизни
Рукой меня отвергшей смерти.
Солнце
Всходило в пламени лучей, когда
Меня покинул сон мой; перед нами
На лоне голубого моря темной
Тянулся полосою брег Святой
Земли; одни лишь горы – снеговой
Хермон, Кармил прибрежный, кедроносны!
Ливан и Элеон из низших гор —
Свои зажженные лучами солнца
Вершины воздвигали. О, с каким
Невыразимым чувством я ступил
На брег земли обетованной, где
Уж не было Израиля! Прошло
Треть века с той поры, как я ее
Покинул. О, что был я в страшный миг
Разлуки с ней, и что потом со мной
Сбылося, и каким я возвратился
В страну моих отцов! Я был подобен
Колоднику, который на свободе
В ту заглянул тюрьму, где много лет
Лежал в цепях, где все, кого на свете
Знал и любил, с ним вместе запертые,
В его глазах погибли; где каждый день
Его терзали пыткой палачи,
И с ними самый яростный из всех
Палач – обременное ужасной
Виной, бунтующее против жизни
И бога – собственное сердце. Я
Не помню, что во мне сильнее было —
Ужасная о прошлой пытке память.
Безлюдною страною окруженный,
Где царствовал опустошенья ужас,
Достигнул я Ерусалима. Он
Громадой черных от пожара камней,
Как мертвый труп, иссеченный в куски,
Моим очам явился, вдвое страшный
Своею мрачностью в сиянье тихом
Безоблачного неба. И случилось
То в самый праздник Пасхи; но его
Не праздновал никто: в Ерусалиме
Не смел народ на праздник свой великий
Сходиться. К бывшему пробравшись
Святилищу, узнал я с содроганьем
То место, где паденьем храма я,
Раздавленный, был смертию отвергнут.
Вдруг, посреди безмолвия развалин,
В мой слух чуть слышно шепчущее пенье
Проникло: меж обломков я увидел
Простертых на землю немногих старцев,
И женщин, и детей – остаток бедный
Израиля. Они, рыдая, пели:
«Господний храм, мы плачем о тебе!
Ерусалим, мы о тебе рыдаем!
Мы о тебе скорбим, богоизбранный,
Богоотверженный Израиль! Слава
Минувшая, мы плачем о тебе!»
При этом пенье я упал
На землю и в молчанье плакал горько,
О прежней славе божьего народа
И о его постигшей казни помышляя.
Но мне он был уже чужой, он чужд
И всей земле был; не могло
Его ничто земное ни унизить,
Ни возвеличить: он, народ избранный —
Народ отверженный от бога был;
На нем лежит печать благословенья – он
Запечатлен проклятия печатью;
В упорной слепоте еще он ждет
Того, что уж свершилося и вновь
Не совершится: он в своем безумстве
Не верует тому, что существует
Им столь желанное и им самим
Oтвергнутое благо; и его
Надежда ложь, его без смысла вера.
От плачущих я тихо удалился
И, с трепетом меж камней пробираясь,
Не узнавал следов Ерусалима.
Но вдруг невольно я оцепенел:
Перед собой увидел я остаток
Стены с ступенями пред уцелевшей
И настежь отверенной дверью. В ней
Сидел шакал. Он, злобными глазами
Сверкнувши на меня, как демон, скрылся








