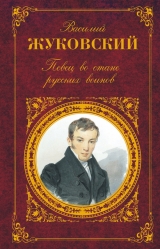
Текст книги "Певец во стане русских воинов"
Автор книги: Василий Жуковский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 23 страниц)
Почти всю ночь (на 29-е число; эту ночь всю Даль просидел у его постели, а я, Вяземский и Вьельгорский в ближней горнице) он продержал Даля за руку; часто брал по ложечке или по крупинке льда в рот и всегда все делал сам: брал стакан с ближней полки, тер себе виски льдом, сам накладывал на живот припарки, сам их снимал и проч. Он мучился менее от боли, нежели от чрезмерной тоски: «Ах! какая тоска! – иногда восклицал он, закидывая руки на голову. – Сердце изнывает!» Тогда просил он, чтобы подняли его, или поворотили на бок, или поправили ему подушку, и, не дав кончить этого, останавливал обыкновенно словами: «Ну! так, так – хорошо: вот и прекрасно, и довольно; теперь очень хорошо». Или: «Постой – не надо – потяни меня только за руку – ну вот и хорошо, и прекрасно». (Все это его точное выражение.) «Вообще, – говорит Даль, – в обращении со мною он был повадлив и послушен, как ребенок, и делал все, что я хотел».
Однажды он спросил у Даля: «Кто у жены моей?» Даль отвечал: «Много добрых людей принимают в тебе участие; зало и передняя полны с утра и до ночи». – «Ну, спасибо, – отвечал он, – однако же поди скажи жене, что все, слава богу, легко; а то ей там, пожалуй, наговорят». Даль его не обманул. С утра 28-го числа, в которое разнеслась по городу весть, что Пушкин умирает, передняя была полна приходящих. Одни осведомлялись о нем через посланных спрашивать об нем, другие – и люди всех состояний, знакомые и незнакомые – приходили сами. Трогательное чувство национальной, общей скорби выражалось в этом движении, произвольном, ничем не приготовленном. Число приходящих сделалось наконец так велико, что дверь прихожей (которая была подле кабинета, где лежал умирающий) беспрестанно отворялась и затворялась; это беспокоило страждущего; мы придумали запереть дверь из прихожей в сени, задвинули ее залавком и отворили другую, узенькую, прямо с лестницы в буфет, а гостиную от столовой отгородить ширмами (это распоряжение поймешь из приложенного плана). С этой минуты буфет был набит народом; в столовую входили только знакомые, на лицах выражалось простодушное участие, очень многие плакали.
Государь император получал известия от доктора Арендта (который раз по шести в день и по нескольку раз ночью приезжал навестить больного); государыня великая княгиня, очень любившая Пушкина, написала ко мне несколько записок, на которые я отдавал подробный отчет ее высочеству согласно с ходом болезни. Такое участие трогательно, но оно естественно; естественно и в государе, которому дорога народная слава, какого рода она бы ни была (а в этом отличительная черта нынешнего государя; он любит все русское; он ставит новые памятники и бережет старые); естественно и в нации, которая в этом случае не только заодно с своим государем, но этою общею любовью к отечественной славе укореняется между ими нравственная связь; государю естественно гордиться своим народом, как скоро этот народ понимает его высокое чувство и вместе с ним любит то, что славно отличает его от других народов или ставит с ним наряду; народу естественно быть благодарным своему государю, в котором он видит представителя своей чести.
Одним словом сии изъявления общего участия наших добрых русских меня глубоко трогали, но не удивляли. Участие иноземцев было для меня усладительною нечаятельностью. Мы теряли свое; мудрено ли, что мы горевали? Но их что так трогало? Что думал этот почтенный Барант, стоя долго в унынии посреди прихожей, где около его шептали с печальными лицами о том, что делалось за дверями. Отгадать нетрудно. Гений есть общее добро; в поклонении гению все народы родня! и когда он безвременно покидает землю, все провожают его с одинаковою братскою скорбию. Пушкин по своему гению был собственностию не одной России, но и целой Европы; потому-то и посол французский (сам знаменитый писатель) приходил к двери его с печалью собственною , и о нашем Пушкине пожалел как будто о своем. Потому же Люцероде, саксонский посланник, сказал собравшимся у него гостям в понедельник ввечеру: «Нынче у меня танцевать не будут, нынче похороны Пушкина».
Возвращаюсь к своему описанию. Послав Даля ободрить жену надеждою, Пушкин сам не имел никакой. Однажды спросил он: «Который час?» И на ответ Даля продолжал прерывающимся голосом: «Долго ли… мне… так мучиться?.. Пожалуйста, поскорей!..» Это повторил он несколько раз: «Скоро ли конец?..» И всегда прибавлял «Пожалуйста, поскорей!» Вообще (после мук первой ночи, продолжавшихся два часа) он был удивительно терпелив. Когда тоска и боль его одолевали, он делал движения руками или отрывисто кряхтел, но так, что его почти не могли слышать. «Терпеть надо, друг, делать нечего, – сказал ему Даль, – но не стыдись боли своей, стонай, тебе будет легче». – «Нет, – он отвечал перерывчиво, – нет… не надо… стонать… жена… услышит… Смешно же… чтоб этот… вздор… меня… пересилил… не хочу».
Я покинул его в 5 часов и через два часа возвратился. Видев, что ночь была довольно спокойна, я пошел к себе почти с надеждою, но, возвращаясь, нашел иное. Арендт сказал мне решительно, что все кончено и что ему не пережить дня. Действительно, пульс ослабел и начал упадать приметно; руки начали стыть. Он лежал с закрытыми глазами; иногда только подымал руки, чтобы взять льду и потереть им лоб.
Ударило два часа пополудни, и в Пушкине осталось жизни на три четверти часа. Он открыл глаза и попросил моченой морошки. Когда ее принесли, то он сказал внятно: «Позовите жену, пускай она меня покормит». Она пришла, опустилась на колена у изголовья, поднесла ему ложечку-другую морошки, потом прижалась лицом к лицу его; Пушкин погладил ее по голове и сказал: «Ну, ну, ничего; слава богу; все хорошо! поди». Спокойное выражение лица его и твердость голоса обманули бедную жену; она вышла как просиявшая от радости лицом. «Вот увидите, – сказала она доктору Спасскому, – он будет жив, он не умрет».
А в эту минуту уже начался последний процесс жизни. Я стоял вместе с графом Вьельгорским у постели его, в головах; сбоку стоял Тургенев. Даль шепнул мне: «Отходит». Но мысли его были светлы. Изредка только полудремотное забытье их отуманивало. Раз он подал руку Далю и, пожимая ее, проговорил: «Ну, подымай же меня, пойдем, да выше, выше… ну, пойдем!» Но, очнувшись, он сказал: «Мне было пригрезилось, что я с тобой лечу вверх по этим книгам и полкам; высоко… и голова закружилась». Немного погодя он опять, не раскрывая глаз, стал искать Далеву руку и, потянув ее, сказал: «Ну, пойдем же, пожалуйста, да вместе». Даль, по просьбе его, взял его под мышки и приподнял повыше; и вдруг, как будто проснувшись, он быстро раскрыл глаза, лицо его прояснилось, и он сказал: «Кончена жизнь». Даль, не расслышав, отвечал: «Да, кончено; мы тебя положили». «Жизнь кончена!» – повторил он внятно и положительно. «Тяжело дышать, давит!» – были последние слова его. В эту минуту я не сводил с него глаз и заметил, что движение груди, доселе тихое, сделалось прерывистым. Оно скоро прекратилось. Я смотрел внимательно, ждал последнего вздоха; но я его не приметил. Тишина, его объявшая, казалась мне успокоением. Все над ним молчали. Минуты через две я спросил: «Что он?» – «Кончилось», – отвечал мне Даль. Так тихо, так таинственно удалилась душа его. Мы долго стояли над ним молча, не шевелясь, не смея нарушить великого таинства смерти, которое совершилось перед нами во всей умилительной святыне своей.
Когда все ушли, я сел перед ним и долго один смотрел ему в лицо. Никогда на этом лице я не видал ничего подобного тому, что было на нем в эту первую минуту смерти. Голова его несколько наклонилась; руки, в которых было за несколько минут какое-то судорожное движение, были спокойно протянуты, как будто упавшие для отдыха после тяжелого труда. Но что выражалось на его лице, я сказать словами не умею. Оно было для меня так ново и в то же время так знакомо! Это было не сон и не покой! Это не было выражение ума, столь прежде свойственное этому лицу; это не было также и выражение поэтическое! нет! какая-то глубокая, удивительная мысль на нем развивалась, что-то похожее на видение, на какое-то полное, глубокое, удовольствованное знание. Всматриваясь в него, мне все хотелось у него спросить: «Что видишь, друг?» И что бы он отвечал мне, если бы мог на минуту воскреснуть? Вот минуты в жизни нашей, которые вполне достойны названия великих. В эту минуту, можно сказать, я видел самое смерть, божественно тайную, смерть без покрывала. Какую печать наложила она на лицо его и как удивительно высказала на нем и свою и его тайну. Я уверяю тебя, что никогда на лице его не видал я выражения такой глубокой, величественной, торжественной мысли. Она, конечно, проскакивала в нем и прежде. Но в этой чистоте обнаружилась только тогда, когда все земное отделилось от него с прикосновением смерти. Таков был конец нашего Пушкина.
Опишу в немногих словах то, что было после. К счастию, я вспомнил вовремя, что надобно с него снять маску. Это было исполнено немедленно; черты его еще не успели измениться. Конечно, того первого выражения, которое дала им смерть, в них не сохранилось; но все мы имеем отпечаток привлекательный; это не смерть, а сон. Спустя 3/4 часа после кончины (во все это время я не отходил от мертвого, мне хотелось вглядеться в прекрасное лицо его) тело вынесли в ближнюю горницу; а я, исполняя повеление государя императора, запечатал кабинет своею печатью. Не буду рассказывать того, что сделалось с печальною женою: при ней находились неотлучно княгиня Вяземская, Е. И. Загряжская, граф и графиня Строгановы. Граф взял на себя все распоряжения похорон. Побыв еще несколько времени в доме, я поехал к Вьельгорскому обедать; у него собрались и все другие, видевшие последнюю минуту Пушкина; и он сам был приглашен за гробом к этому обеду: это был день моего рождения. Я счел обязанностью донести государю императору о том, как умер Пушкин; он выслушал меня наедине в своем кабинете: этого прекрасного часа моей жизни я никогда не забуду.
На другой день мы, друзья, положили Пушкина своими руками в гроб; на следующий день, к вечеру, перенесли его в Конюшенную церковь. И в эти оба дни та горница, где он лежал в гробе, была беспрестанно полна народом. Конечно, более десяти тысяч человек приходило взглянуть на него: многие плакали; иные долго останавливались и как будто хотели всмотреться в лицо его; было что-то разительное в его неподвижности посреди этого движения и что-то умилительно таинственное в той молитве, которая так тихо, так однообразно слышалась посреди этого шума.
И особенно глубоко трогало мне душу то, что государь как будто соприсутствовал посреди своих русских, которые так просто и смиренно и с ним заодно выражали скорбь свою о утрате славного соотечественника. Всем было известно, как государь утешил последние минуты Пушкина, какое он принял участие в его христианском покаянии, что он сделал для его сирот, как почтил своего поэта и что в то же время (как судия, как верховный блюститель нравственности) произнес в осуждение бедственному делу, которое так внезапно лишило нас Пушкина. Редкий из посетителей, помолясь перед гробом, не помолился в то же время за государя, и можно сказать, что это изъявление национальной печали о поэте было самым трогательным прославлением его великодушного покровителя.
Отпевание происходило 1 февраля. Весьма многие из наших знакомых людей и все иностранные министры были в церкви. Мы на руках отнесли гроб в подвал, где надлежало ему остаться до вывоза из города. 3 февраля в 10 часов вечера собрались мы в последний раз к тому, что еще для нас оставалось от Пушкина; отпели последнюю панихиду; ящик с гробом поставили на сани; сани тронулись; при свете месяца несколько времени я следовал за ними; скоро они поворотили за угол дома; и все, что было земной Пушкин, навсегда пропало из глаз моих.
Пожар Зимнего дворца
17 декабря 1837 года
Жители Петербурга с печалию встретили 1838 год. Не пришли они, по старому обычаю, в Зимний дворец, где доныне более двадцати тысяч гостей собирались на семейный праздник царя своего, дабы поздравить его с наступающим новым годом. Зимний дворец, величественное жилище императоров русских, великолепнейшее и почти самое древнее здание северной столицы, не существует. Смотря на сии обгорелые стены, в коих за несколько дней блистало такое великолепие, кипела такая жизнь и кои теперь так пусты и мрачны, ощущаешь в душе невольное благоговение; не знаешь, чему дивиться, величию ли того, что погибло и что в самых развалинах своих является еще столь твердым; могуществу ли силы, которая так легко и так быстро уничтожила то, что казалось вечным.
Так, в зрелище сих развалин есть что-то невыразимое; как будто глазами видишь судьбу земную во всех ее переменах – из счастия в бедствие, из блеска во мрак, из славы в упадок. Какой-то чудный, всемирный образ стоит перед тобою и говорит тебе то, чего не выразит словом язык человеческий.
Зимний дворец, как здание, как царское жилище, может быть, не имел подобного в целой Европе. Своею огромностию он соответствовал той обширной империи, которой силам служил средоточием. Суровым величием, своей архитектурою, изображал он могущественный народ, столь недавно вступивший в среду образованных наций, но еще сохранивший свой первобытный, некогда дикий образ; а внутренним своим великолепием напоминал о той неисчерпаемой жизни, которая кипит во внутренности России. Иноземец, посещавший столицу Севера, останавливался в изумлении перед его громадою. Быть может, взыскательный вкус, рассматривая его по частям, мог оскорбиться и некоторою нестройностию их состава, и пестротою обветшалых украшений, и мелкостью бесчисленных колонн, и множеством колоссальных статуй, стоявших на этой массе как лес на скале огромной; но целое здание представляло какую-то разительную, гигантскую стройность: при виде Зимнего дворца всегда вспоминалась поэтическая мысль того зодчего, который из горы Афоса хотел вытесать статую Александра.
Но если Зимний дворец изумлял иноземца как чудный памятник искусства, то для нас русских имел он совсем иное значение. Зимний дворец был для нас представителем всего отечественного, русского, нашего. Для всех нас вместе он был то же, что для каждого из нас в особенности дом отеческий, где мы были молоды, откуда пустились в жизнь, куда из всех углов земли, из всех тревог житейских переносились душою, как будто в приют покоя. Кто из нас с тех пор, как начал себя помнить, не думал часто и с одинаким, всем нам общим чувством, о том, что происходило в этом царском жилище, и хотя каждый имел свои особенные заботы, с другими не разделяемые, но эти общие заботы о царском быте, в том месте, с которым мы все, и близкие и далекие, из детства так свыклись, было для всех нас какою-то родственною связию, и теперь, при мысли, что Зимний дворец наш не существует, пробуждается в душе что-то похожее на сиротство, и кажется, как будто нас что-то разрознило.
В отношении историческом Зимний дворец был то же для новой нашей истории, что Кремль для нашей истории древней. Кремль говорит о живых, младенческих и юношеских летах русского царства: смотря на стены его и башни, на Грановитую палату, на святые соборы, и слушая чудный голос колоколов, во все времена одинаково с нами слышанный и отцами и дедами, разгорячаешься воображением и чувствуешь себя так же расстроенным, как при мысли о собственных поэтических летах молодости. Здесь вся поэзия нашей истории. Но вид Зимнего дворца, который своею громадою (где великанское времен минувших так чудно сливалось с строгою правильностию настоящего) так могущественно, так одиноко возвышался посреди всех окружавших его зданий, говорил менее воображению нежели мысли. Здесь представлялась уже возмужавшая Россия, Россия сплоченная веками в твердую, грубую массу, такою перешедшая в руки Петра, им присвоенная Европе и со времен его до наших, под рукою своих императоров, завоеваниями, давшими ей все, что ей нужно, достигнувшая крайних пределов своего материального могущества. Здесь вся новейшая Россия в блистательнейшие дни европейской ее жизни.
Здесь самодержавие, перешедшее от царей к императорам, слившись с законностию и уважением к человечеству, преобразовалось из древнего безотчетного самовластия во власть благотворную, животворную, образовательную, на твердой неприкосновенности которой стоит бытие России, и внешняя сила ее и внутреннее ее благоденствие. Отсюда истекли все те законы и те политические изменения, кои в последнее восьмидесятилетие возвеличили, образовали, утвердили Россию и приготовили для нее великое будущее.
Здесь жила Екатерина, первая вступившая в стены дворца, воздвигнутые Елисаветою, но при ней еще не населенные. Имя Екатерины и теперь глубоко отзывается в каждом русском сердце. Хотя уже почти все соучастники ее царствования сошли со сцены, но предание о ней живо: оно перешло к нам из первых рук, во всей своей свежести, ибо каждый, чья жизнь началась в ее царствование, кто ее видел, еще более тот, кто имел счастие к ней приближаться, и теперь говорит об ней с тем пламенным вдохновением любви, с которым некогда говорила о ней вся Россия. Здесь произошли важнейшие явления царственной жизни Екатерины, которая по искусству царствования стоит на первой степени между всеми государями славными в истории: здесь начертала она свой Наказ, и поныне служащий основанием нашего гражданского порядка; отсюда устроила она свою обширную империю, отсюда посылала своих полководцев на север, запад и юг за победою, завоеваниями или славою. Здесь на каждом шагу могли мы следовать за государственною и частною ее жизнию; мы знали, где был ее кабинет, в котором уединенные часы свои посвящала она глубоким размышлениям и всеобъемлющим трудам царицы, мы знали, где являлась она во всем блеске самодержавной владычицы перед собранием представителей империи, между которыми блистали Потемкины, Румянцевы, Суворовы, Вяземские, Панины и Безбородко; знали, где она с царского трона принимала послов Европы и Востока, где совершались ее пышные праздники, где были ее веселые вечеринки, где она слушала вдохновенные песни своего Державина, где наконец отборный круг ее общества, из просвещеннейших соотечественников и иноземцев составленный, был услаждаем ее остроумною и в самой легкости глубокомысленною беседою.
Из Зимнего дворца император Павел послал Суворова испытать возмужавшую силу России против возрастающего могущества Франции и начать за горами Альпийскими то, что впоследствии довершено под стенами Парижа.
Зимний дворец был свидетелем и светлых и темных времен Александра I. Здесь, вдохновенный Промыслом, уже предавшим во власть его жребий Европы, решил он судьбу своей империи великим русским словом: не положу оружия, пока хотя единый враг останется на земле моей, и отдал Москву за Россию. Сюда возвратился он, совершивши чудную всемирную войну, благословенный свыше, увенчанный такою славою, какая ни одному из предшественников его не доставалась, и в этой славе смиренный перед избравшим его Богом. Здесь видели мы его и в страшную минуту испытания, когда столица его, обхваченная наводнением, трепетала и гибла. В эту роковую минуту явился он в той красоте своей, по которой принадлежал он к лучшим из всех украшавших землю созданий. Из окон дворца смотрел он на разрушение, производимое волнами, и горько плакал, порываясь спасать погибающих и чувствуя всю ничтожность своей власти перед бездушным могуществом стихии. И всем нам памятно, с какою заботливостию, с каким простодушным, родственным участием являлся он повсюду, где только побывало несчастие, особенно на развалинах хижин, дабы загладить следы разорения, возвратить утраченное ими, утешить горе о невозвратном. И в народе, одаренном памятию сердца, живо предание о сих прекрасных днях Александра, быть может, лучших в жизни его не по блестящим делам царя, а по тайным человеческим чувствам, и если история, провозглашающая только славное мира сего, скажет о них не громко, то – есть другое, высшее судилище, пред которым и тайные страдания души также имеют свое великолепие и свою знаменитость.
В Зимнем дворце проводила и кончила жизнь свою современница и соучастница всех царствований, коих событиям он был свидетель: здесь жила государыня Мария Феодоровна, супругою наследника империи, императрицею, матерью двух императоров. Сначала вся ее деятельность сосредоточивалась в тесном домашнем круге: вместе с прекрасными сыновьями и дочерями своими, сама (и до поздних лет) величественно прекрасная, она сначала была, так сказать, одним только отблеском великой Северной Царицы, которая приводила в неописанный восторг и русского и чужеземца, когда, окруженная очарованием исторической славы своей (придававшая лицу ее характер чего-то не земного), являлась она перед ними в сопутствии внуков и внучек, прелестных и красотою и молодостию и тою надеждою, которая в лице их так сладостно говорила сердцу. И в этом же дворце, когда не стало Екатерины Великой, увидели мы императрицу Марию Феодоровну матерью другого семейства, – целой России. Приготовленная к исполнению сих всеобъемлющих обязанностей строгим исполнением должностей домашних, она предалась им с беспримерным самоотвержением, и должность стала для нее религиею. С одной стороны, принявши под свой покров сиротство, нищету, вдовство и болезнь, она сделалась благотворительницею настоящею; с другой, приняв на себя заботы о женском воспитании в России, она явилась Провидением домашней жизни и нравов семейных русского народа и положила прочное основание будущему его благоденствию, коего источник есть нравственность жен и просвещенная деятельность матерей семейства. И сколько раз она сама, счастливая и достойная счастия мать, в великолепной дворцовой церкви присутствовала на радостных праздниках семейных, то подносила своих милых младенцев к св. причастию, то благословляла браки сыновей и дочерей своих, то предстояла св. купели, держа на руках своих внука или внучку. Наконец, в том же Зимнем дворце, где ни один из ее современников не провел столько лет, как она, прекратилась и чистая жизнь ее. И памятна еще нам та ночь, в которую императрица Мария Феодоровна покинула землю: кто видел ее через несколько минут после кончины, тот был поражен и глубоко растроган выражением ее лица, удивительно просветлевшего, как будто бы на нем величие земное вдруг перешло в величие небесное.
Из дверей Зимнего дворца император Николай Павлович вышел на площадь, кипящую народом, в первую и самую решительную минуту своего царствования, и эта минута как долгие годы познакомила Россию с новым ее императором и Европу с достойным преемником Александра.
Нам памятно, какое зрелище в день сей представило собрание чинов империи, соединившихся в залах дворцовых для молитвы за воцаряющегося государя, памятны и мертвая тишина, тогда оцепеневшая сие блестящее многолюдство, и мрачность лиц, столь разительная при блеске одежд торжественных, и шепот тревожных вестей, и тяжкая безызвестность о государе, который с утра до приближения ночи простоял в виду бунтовщиков на ружейный выстрел от их фронта, и общее движение всех, когда узнали, что государь возвратился, что бунт уничтожен, и, наконец, всего памятнее та минута, в которую он к нам вышел, рука об руку с императрицею, – он с каким-то новым никогда дотоле невиданным на лице его напечатлением, она с глубокою преданностию в волю Промысла, с смиренною возвышенностию над судьбою и с удивительным выражением всего, что в этот день перешло через ее душу, и между ними наследник, тогда еще младенец, ясный и беззаботный, как надежда.
И в этом же дворце, где таким великим событием ознаменовалось воцарение Николая, прошли и первые двенадцать лет его царствования, столь богатого тяжкими испытаниями для государя, но столь обильного делами благотворными для народа. Здесь совершилось замышленное Петром, приготовленное Екатериною и тщетно предпринятое Александром: воздвигнуто стройное, всем доступное здание русских законов и тем положено начало законности , без коей нет в государстве верного благоденствия. Наконец, в течение последних двенадцати лет, под кровом Зимнего дворца мы с умилением видели то, что редко встречается и в смиренном жилище частного человека, счастливую домашнюю жизнь, величественный пример всего нравственного для целой империи. Нежнейшее согласие супружеское, основанное на взаимном уважении друг к другу, заботливость отца и матери о детях, не скучающая никакими подробностями, их ребяческая ласковость с теми, кои еще во младенчестве, их попечительная заботливость о тех, кои достигли отроческих лет и коих воспитание пред глазами родителей совершается, их доверчивое товарищество с теми, кои уже вошли в возраст; с другой стороны – нежная к ним привязанность детей, которым нигде и ни с кем так не бывает весело, так не бывает свободно, как с добрым отцом и милою матерью и самым царским величием, только усиливающим в детях сердечное благоговение – вот то прекрасное, чего были свидетелями эти стены, столь прежде пышные, столь ныне печальные. Как ни горестно видеть в развалинах те величественные чертоги, которые так блистали во дни торжественные, но они скоро воздвигнутся снова и, может быть, великолепнее прежних; но то, что было освящено воспоминанием лучшего и драгоценнейшего в жизни, – убежища многих лет, из одного царского колена перешедшие к другому, свидетели детских игр, первых уроков, семейных праздников, они исчезли невозвратно и никакому зодчему не построить их по-прежнему. Был в Зимнем дворце ряд горниц, через которые ежедневно проходил государь Николай Павлович, начиная царственный день свой: в одних колыбели окружены были детскими игрушками; в других учебные предметы говорили о занятиях более строгих соответственно разным возрастам; в других являлось уже все, что принадлежало расцветшему юношеству, готовящемуся к деятельности житейской. – И проходя чрез них, счастливый отец встречаем был голосами любви, столь пленительными и в радостном ребяческом крике и в сердечном привете юношества. Из всех сих горниц особенно драгоценны по воспоминаниям, с ними соединявшимся, те, в коих провел свою молодость император Александр, которые при нем перешли к его младшим братьям и наконец при нынешнем государе достались цесаревичу. Из этого приюта первых лет, ознаменованных таким беззаботным счастием, наследник русской империи пустился в путь, указанный ему его государем. Ни одному из предшественников императора Николая Павловича не даровал Бог счастия показать такого милого сына такой великой империи. Мысль высокая и вместе трогательная, которую с глубокою благодарностию к царю своему вполне поняла Россия. Она увидела в этой поспешности государя познакомить молодого наследника с его будущею империею всю нежную заботливость и отца о сыне и государя о царстве. Она поняла, почему именно теперь, а не в другое время, и почти всю огромную Россию в немногие месяцы захотел показать государь своему сыну. Если царю необходимо быть любимым от своего народа, то ему еще необходимее любить народ свой. Но сие пламя любви не всякой душе дается, и счастлива та, в которой пробудится она рано. Такова была, очевидно, мысль государя: наследник во всем цвете молодости, с душою, еще не тронутою никакою заботою житейскою, никаким болезненным опытом, мешающим вере в человечество, был отдан им, так сказать, с рук на руки России, и она приняла его на руки с неописанною любовию. Ни один из русских государей не давал такого праздника своему царству; и все, от Балтийского моря до Черного, от пределов Польши до глубины Сибири, во всех областях, орошаемых великими нашими реками, Волгою, Камою, Иртышом, Днепром и Доном, оживо-творилось одинаким чувством, и это чувство не было ни любопытство, пробуждаемое в толпе явлением необычайного, ни робкое раболепство, ни своекорыстная надежда: это чувство было святая любовь русского народа, глубокая религия, перешедшая к нему по преданию от предков, религия, врезанная ему в душу его судьбою, воспитанная в нем и светлыми и темными временами его жизни, нечто такое, чего никакая власть произвести не может, что есть драгоценнейшее сокровище русского самодержца, твердейшая опора самодержавия, на чем незыблемо стоит Россия. Такое чувство встречало наследника. И он принял его на сердце свое в такую пору жизни, когда все впечатления неизгладимо в нас остаются. В зрелые годы свои он опять и не раз увидит Россию, и увидит ее с пользою иного рода; но такой союз, какой заключен между ими ныне, заключается только в свежие лета молодости, душою новою и жаждущею любить. И в зрелые годы свои он не забудет, что Россия была его первою любовию, и никогда не перестанут в памяти его отзываться те благословения, с которыми еще без всякой личной заслуги своей, а только потому, что он святыня, сын государя, он был повсюду принят добрым, умным, верным русским народом. Совершив благополучно сие путешествие, продолжавшееся более семи месяцев, наследник и государь император, обозревши со своей стороны западные и южные области от устьев Невы до подошвы Арарата, соединились со всем императорским семейством в Москве, где пробыли несколько недель, и наконец все вместе возвратились в Петербург, где ожидало их, по-видимому, сладкое отдохновение под кровлею царственного Зимнего дворца. И вдруг это могущественное здание, со всем своим великолепием, исчезло в несколько часов, как бедная хижина.
Хотя обстоятельства сего события, ужаснувшего Петербург и горестного для целой России, уже описаны другими, но мы почитаем не лишним сообщить читателям то, что было и нам рассказано очевидцами. Здесь всякая подробность драгоценна: мы даже не боимся повторить уже известное, ибо желаем составить нечто целое и полное: нам кажется, что мы исполняем священный долг перед отечеством, отдавая последнюю честь великому жилищу Екатерины и Александра, и платим сладкую дань благодарности всеобщей, скорбя о разрушении царского дома, где государь Николай Павлович был двенадцать лет так счастлив в своем семействе.
17 декабря 1837 года ознаменовалось сим бедственным происшествием. Было восемь часов вечера. Государь император с ее величеством императрицею, с их высочествами наследником, великим князем Михаилом Павловичем и великою княжною Мариею Николаевною находился в театре, когда ему донесено было, что в Зимнем дворце горит. Государь немедленно покинул театр и вместе с великими князьями отправился на место пожара. По-видимому, не представлялось большой трудности остановить его действие, но он уже начинал распространяться; уже Фельдмаршальская зала была вся в огне; зала Петра Великого загоралась и пламя начинало показываться в Белой зале.








