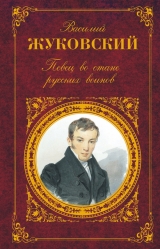
Текст книги "Певец во стане русских воинов"
Автор книги: Василий Жуковский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 23 страниц)
В развалинах. То был мой прежний дом,
И я стоял пред дверью роковой,
Свидетелем погибели моей;
И мне в глаза то место, где тогда
Измученный остановился он,
Чтоб отдохнуть у двери, от которой
Безжалостной рукою оттолкнул
Спасителя, пятном кровавым страшно
Блеснуло. Я упал, лицом приникнув
К земле, к которой некогда нога
Святая прикоснулась; и слезами
Я обливал ее; и в этот миг
Почудилося мне, что он, каким
Его тогда я видел, мимо в прахе
Лежавшей головы моей прошел
Благословляющий… Я поднялся.
И в этот миг мне показалось, будто
Передо мной по улице тянулся
Тот страшный ход, в котором нес свой крест
Он, бешеным ругаемый народом.
Вслед за крестом я побежал; но скоро
Передо мной видение исчезло,
И я себя увидел у подошвы
Голгофы. Отделясь от черной груды
Развалин, зеленью благоуханной
Весны одетая, в сиянье солнца,
Сходящего на запад, мне она
Торжественно предстала, как зажженный
Пред богом жертвенник. И долго-долго
Я на нее смотрел в оцепененье.
О, как она в величии спокойном,
Уединенная, там возвышалась;
Как было все кpyгом нее безмолвно;
Как миротворно солнце нисходило
С небес, на всю окрестность наводя
Вечерний тихий блеск; как был ужасен
Разрушенный Ерусалим в виду
Благоухающей Голгофы! Долго
Я не дерзал моею оскверненной
Hoгой к ее святыне прикоснуться.
Когда ж взошел на высоту ее,
О, как мое затрепетало сердце!
Моим глазам трех рытвин след явился,
Полузаглаженный, на месте, где
Три были некогда водружены
Креста. И перед ним простершись в прах,
Я горькими слезами долго плакал;
Но в этот миг раскаянья терзанье —
И благодарностью, невыразимой
Словами человеческими, было.
Казалось мне, что крест еще стоял
Над головой моей; что я, его
Обняв, к нему всей грудью прижимался,
Как блудный сын, коленопреклоненный,
К ногам отца, готового простить.
Дни праздника провел я одиноко
На высоте Голгофы в покаянье,
Один, отвсюду разрушеньем страшным
Земных величий и всего, что было
Моим житейским благом, окруженный.
Между обломками Ерусалима
Пробравшися и перешед Кедрон,
Достигнул я по скату Элеонской
Горы до Гефсиманских густотенных
Олив. Там, сокрушенный, долго я
Во прахе горько плакал, помышляя
О тех словах, которые он здесь —
Он, сильный бог, как человек, последних
С страданием лишенный сил – в смертельной
Тоске здесь произнес на поученье
И на подпору всем земным страдальцам.
Его божественной я не дерзнул
Молитвы повторить; моим устам
Дать выразить ее святыню я
Достоин не был. Но какое слово
Изобразит очарованье ночи,
Под сенью Гефсиманских маслин мною
В молчании всемирном проведенной!
Когда взошел на верх я Элеонской
Горы, с которой, все свершив земное,
Сын человеческий на небеса
Вознесся, предо мной явилось солнце
В неизреченном блеске на востоке;
Зажглась горы вершина; тонкий пар
Еще над сенью маслин Гефсиманских
Лежал; но вдалеке уже горела
В сиянье утреннем Голгофа. Черным
Остовом посреди их, весь еще
Покрытый тению от Элеонской
Горы, лежал Ерусалим, как будто
Сиянья воскресительного ждуший.
В последний раз с святой горы взглянул я
На град Израилев, на сокрушенный
Ерусалим; еще в его обломках
Я видел труп с знакомыми чертами,
Но скоро он и в признаках своих
Был должен умереть. Была готова
Рука, чтоб разбросать его обломки;
Был плуг готов, чтоб запахать то место,
Где некогда стоял Ерусалим;
На гробе прежнего другой был должен
Воздвигнуться, несокрушимо твердый
Одной Голгофою и вовсе чуждый
Израилю бездомному, как я.
На горькое скитанье по земле
Приговоренному до нисхожденья
От неба нового Ерусалима.
Благословив на вечную разлуку
Господний град, я от него пошел,
И с той поры я странствую. Но слушай:
Мой жребий все остался тот же, страшный,
Каким он в первое мгновенье пал
На голову преступную мою.
Как прежде, я не умирать и вечно
Скитаться здесь приговорен; всем людям
Чужой, вселяющий в сердца их ужас,
Иль отвращение, или презренье;
Нужды житейские терпящий: голод, жажду,
И зной, и непогоду; подаяньем
Питаться принужденный, принимая
С стыдом и скорбию, что́ первый встречный
С пренебреженьем мне обидным бросит.
Мне самому нет смерти, для людей же
Я мертвый: мне ни жизнь мою yтратить,
Ни безутратной жизнью дорожить
Не можно; ниоткуда мне опасность
Не угрожает на земле: разбойник
Меня зарезать не посмеет; зверь,
И голодом яримый, повстречавшись
Со мною, в страхе убежит; не схватит
Меня земля разинутой своею
В землетрясенье пастью; не задушит
Меня гора своим обвалом: море
В своих волнах не даст мне захлебнуться.
Все, все мои безумные попытки
Жизнь уничтожить были безуспешны:
Самоубийство недоступно мне;
Не смерть, а неубийственную с смертью
Борьбу напрасно мучимому телу
Могу я дать бесплодными своими
Порывами на самоистребленье:
А душу из темницы тела я
Не властен вырвать: вновь оно,
В куски изорванное, воскресает.
Так я скитаюся, и нет, ты скажешь,
Страшней моей судьбы. Но ведай: если
Моя судьба не изменилась, сам я
Уже не тот, каким был в то мгновенье,
Когда проклятье пало на меня,
Когда, своей вины не признавая,
Свирепо сам я проклинал того,
Кто приговор против меня изрек.
Я проклинал; я бешено бороться
С неодолимой силою дерзал.
О, я теперь иной!.. Тот, за меня
Поднятый к небу, мученика взгляд
И благодать, словами Богослова
В меня влиянная, переродили
Озлобленность моей ожесточенной
Души в смирение, и на Голгофе
Постигнул я все благо казни, им
Произнесенной надо мной, как мнилось
Безумцу мне, в непримиримом гневе.
О, он в тот миг, когда я им ругался,
Меня казнил, как бог: меня спасал
Погибелью моей, и мне изрек
В своем проклятии благословенье.
Каким путем его рука меня,
Бежавшего в то время от Голгофы,
Где крест еще его дымился кровью,
Обратно привела к ее подошве!
Какое дал мне воспитанье он
В училище страданий несказанных
И как цена, которою купил я
Сокровище, им избранное мне,
Пред купленным неоценимым благом —
Ничтожна! Так, перерожденный, новый,
Пошел я от Голгофы, произвольно,
С благодарением, взяв на плеча
Весь груз моей судьбы и сокрушенно
Моей вины всю глубину измерив.
О, благодать смирения! о, сладость
Целительной раскаянья печали
У ног спасителя! Какою новой
Наполнился я жизнию; какой
Во мне и вкруг меня иной открылся
Великий мир, когда, себя низвергнув
Смиреньем в прах и уничтожив
Все обаяния, все упованья
Земные, я бунтующую волю
Свою убил пред алтарем господним,
Когда один с раскаянной виною
Перед моим спасителем остался!
Блажен стократ, кто верует, не видев
Очами, а смиренной волей разум
Святыне откровенья покоряя!
Очами видел я; но вере долго
Не отворяла дверь моей души
Бунтующая воля. Наконец,
Когда я, всю мою вину постигнув,
Раскаяньем терзаемый, был брошен
К ногам обруганного мною бога,
Moeй судьбы исчезла безотрадность;
Все изменилось. Тот, кого безумно
Я отрицал, моим в пустыне жизни
Cопутником, подпорой, другом, все
3eмное заменившим, все земное
Забвению предавшим, стал;
За ним, как за отцом дитя, пошел я,
Исполненный глубоким сокрушеньем,
Koторое, мою пронзая душу,
К нему ее глубокую любовь
Питало, как елей питает пламя
В лампаде храма. И мою в него
Я веру всею силою любил,
Как утопающий ту доску любит,
Которая в волнах его спасает
Но этот мир достался мне не вдруг.
Мертвец между живыми, навсегда
К позорному прикованный столбу
Перед толпой ругательной колодник,
Я часто был тоскою одолеваем;
Тогда роптанье с уст моих срывалось;
Но каждый раз, когда такой порыв
Души, обиженной презреньем горьким
Людей, любимых ею безответно,
Меня крушил, мне явственней являлось
Чудовище моей вины, меня
Пожрать грозящее, и с обновленной
Покорностью сильней я прижимался
К окровавленному кресту Голгофы.
И наконец, по долгой, несказанной
Борьбе с неукротимым сердцем, после
Несчетных переходов от падений,
Ввергающих в отчаянье, к победам
Вновь воскрешающим, по многих, в крепкий
Металл кующих душу, испытаньях,
Я начал чувствовать в себе тот мир,
Который, всю объемля душу, в ней
Покорного терпенья тишину
Неизглаголанную водворяет.
С тех пор во мне смирилось все. Что
Желать? О чем жалеть? Чего страшиться?
На что тревожить страждущее сердце
Надеждами? Зачем скорбеть, встречая
Презрение иль злобу от людей?
Я с ним, он мой, он все, в нем все, им все;
Все от него, все одному ему.
Такое для меня знаменованье
Теперь прияла жизнь. Я казнь мою
Всем сердцем возлюбил: она моей
Души хранитель. И с людьми, меня
Отвергшими, я примирился, в сердце
Божественное поминая слово:
«Отец! прости им; что творят, не знают!»
Меж ними ближнего я не имею,
Но сердце к ним исполнено любовью.
И знай, пространства нет здесь для меня
– Так соизволил бог! – в одно мгновенье
Могу туда переноситься я,
Куда любовь меня пошлет на помощь;
На помощь – но не делом – словом, что
Могу я сделать для людей? не словом
Бродяги – нет, могущественным словом
Утехи, сострадания, надежды,
Иль укоризны, иль остереженья.
Хотя мне на любовь всегда один
Ответ: ругательство или презренье;
Но для меня в ответе нужды нет.
Мне места нет ни в чьем семействе; я
Не радуюся ничьему рожденью,
И никого родного у меня
Не похищает смерть. Все поколенья,
Одно вслед за другим, уходят в землю:
Я ни с одним из них не разлучаюсь,
И их отбытие мне незаметно.
Любовью к людям безнаградной – я
Любовь к спасителю, любовь к царю
Любви, к ее источнику, к ее
Подателю питаю. И с тex пор,
Как этот мир любви в меня проникнул,
Моя любовь к ним есть любовь к тому,
Кто первый возлюбил меня: любовь,
Которая не ищет своего,
Не превозносится, не мыслит зла,
Не знает зависти, не веселится
Неправдою, не мстит, не осуждает;
Но милосердствует, но веру емлет,
Всему, смиряется и долго терпит.
Такой любовию я близок к людям,
Хотя и розно с ними несказанной
Моею участью; в веселья их
Семейств, в народные пиры их
Я не мешаюся: но есть одно,
Что к ним меня заводит: это смерть,
Давно утраченное мною благо,
Без ропота на горькую утрату,
Я в круг людей вхожу, чтоб смертью
В ее земных явленьях насладиться.
Когда я вижу старика в последней
Борьбе с кончиною, с крестом в руках,
Сначала дышащего тяжко, вдруг
Бледного и миротворным сном
Заснувшего, и вкруг его постели
Стоит в молчании семья, и очи
Ему рука родная закрывает;
Когда я вижу бледного младенца,
Возвышенного в ангелы небес
Прикосновением безмолвной смерти;
Koгда расцветшую невесту, дочь,
Похищенную вдруг у всех житейских
Случайностей хранительною смертью,
Отец и мать кладут во гроб; когда
В тюремном мраке сладко засыпает
Последним сном измученный колодник;
Когда на поле боя, перестав
Терзаться в судорогах смертных, трупы
Окостенелые лежат спокойно —
Все эти зрелища в меня вливают
Тоску глубокую; она меня,
Как устарелого скитальца память
О стороне, где он родился, где
Провел младые дни, где был богат
Надеждами, томит; и слезы лью
Из глаз, и я завидую счастливцам,
Сокровище неоценимой смерти,
Его не зная, сохранившим. Есть
Еще одно великое мгновенье.
Когда я в кpyг людей, как их родной,
Как соискупленный их брат, вступаю:
С смирением презренье их приемля,
Как очистительное наказанье
Моей вины, я к тайне причащенья
Со страхом божиим и верой сердцем
Единым с ними приступаю. В час,
Когда небесные незримо силы
Пред божиим престолом в храме служат,
И херувимов братство христиан
Шестокрылатых тайно образует,
И, всякое земное попеченье
Забыв, дориносимого чинами
Небесными царя царей подъемлет,
В великий час, когда на всех концах
Создания в одну сливает душу
Всех христиан таинственная жертва,
Когда живые все – и царь, и нищий,
И счастливый, и скорбный, и свободный,
И узник, и все мертвые в могилах,
И в небесах святые, и пред богом
Все ангелы и херувимы, в братство
Единое совокупляся, чаше
Спасенья предстоят – о, в этот час
Я людям брат, моя судьба забыта,
Ни прошлого, ни будущего нет,
Все предо мной земное исчезает,
Я чувствую блаженное одно
Всего себя уничтоженье в божьем
Присутствии неизреченном.
О, что б я был без этой казни, всю
Мою пересоздавшей душу? Злобным
И нераскаянным богоубийцей
Сошел бы в землю… А потом? Теперь же…
О, будьте вы навек благословенны,
Уста, изрекшие мой приговор!
О ты, лицо, под тернами венца
Облитое струями крови, ты,
Печальный, на меня поднятый взор,
Ты, голос, сладостный и в изреченье
Преступнику суда – вас навсегда
Раскаянье хранит в моей душе;
Оно вас в ней своею мукой в веру,
Надежду и любовь преобратило.
Разрушив все, чем драгоценна жизнь,
И осудив меня не умирать,
Он дал в замену мне себя. За ним
Иду я через мир уединенным
Путем, чужой всему, но в круг меня
Kипит, тревожит, радует, волнует,
Tомит сомнением, терзает жаждой
Корысти, сладострастья, славы, власти.
Что нужно мне? На голод – корка хлеба,
Hoчлег – на непогоду, ветхий плат —
На покровенье наготы; во всем
Ином я независим от людей
И мира. На потребу мне одно:
Покорность и пред господом всей воли
Уничтожение. О, сколько силы,
Какая сладость в этом слове сердца:
«Твое, анемоедабудет ! » В нем
Вся человеческая жизнь; в нем наша
Свобода, наша мудрость, наши все
Надежды; с ним нет страха, нет забот
О будущем, сомнений, колебаний;
Им все нам ясно; случай исчезает
Из нашей жизни; мы своей судьбы
Властители, понеже власть тому
Над нею предали смиренно, кто
Один всесилен, все за нас, для нас
И нами строит, нам во благо Мир,
В котором я живу, который вам,
Cлепым невольникам земного, должен
Kaзаться дикою пустыней – нет,
Oн не пустыня с той поры, как я
Был силою всевышнею постигнут
И, уничтоженный, пред нею пал
Во прах, она передо мною вся
В творении господнем отразилась
Мир человеческий исчез, как призрак,
Перед господнею природой, в ней
Все выше сделалось размером, все
Прияло высшее знаменованье.
О, этот мир презрительным житейским
Заботам недоступен; он безверью
Ужасен; но тому, кто сердцем весь
Раскаянья сосуд испил до дна
И, бога угадав страданьем, в руки
К нему из сокрушительных когтей
Отчаяния убежал, тому
Природа – врач, великая беседа
Господняя, развернутая книга,
Где буква каждая благовестит
Его Евангелие. Нет, о нет,
Для выраженья той природы чудной,
Которой я, истерзанный, на грудь
Упал, которая лекарство мне
Всегда целящее дает – я слов
Не знаю. Небо голубое, утро
Безмолвное в пустыне, свет вечерний,
В последнем облаке летящий с неба,
Собор светил во глубине небес,
Глубокое молчанье леса, моря
Необозримость тихая или голос
Невыразимый в бурю; гор – потопа
Свидетелей – громады; беспредельных
Степей песчаных зыбь и зной; кипенья,
Блистанья, рев и грохот водопадов…
О, как могу изобразить творенья
Все обаяние. Среди господней
Природы я наполнен чудным чувством
Уединения, в неизреченном
Его присутствии, и чудеса
Его создания в моей душе
Блаженною становятся молитвой;
Молитвой – но не призываньем в час
Страдания на помощь, не прошеньем,
Не выраженьем страха иль надежды
A cмирным, бессловесным предстояньем
И сладостным глубоким постиженьем
Его величия, его святыни,
И благости, и беспредельной власти,
И сладостной сыновности моей,
И моего пред ним уничтоженья:
Невыразимый вздох, в котором вся
Душа к нему, горящая, стремится —
Такою пред его природой чудной
Становится моя молитва. С нею
Сливается нередко вдохновенье
Поэзии; поэзия – земная
Сестра небесныя молитвы, голос
Создателя, из глубины созданья
К нам исходящий чистым отголоском
В гармонии восторженного слова.
Величием природы вдохновенный,
Непроизвольно я пою – и мне
В моем уединенье, полном бога,
Создание внимает посреди
Своих лесов густых, своих громадных
Утесов и пустынь необозримых,
И с высоты своих холмов зеленых,
С которых видны золотые нивы,
Веселые селенья человеков,
И все движенье жизни скоротечной.
Так странствую я по земле, в глазах
Людей проклятый богом, никакому
Земному благу непричастный, злобный,
Все ненавидящий скиталец. Тайны
Моей они не постигают; путь мой
Их взорам не открыт: по высотам
Создания идет он, там, где я
Лишь небеса господние святые
Над головою вижу, а внизу,
Далеко под ногами, весь смятенный
Мир человеческий. И с высоты
Моей, с ним не делясь его судьбой,
Я, всю ее одним объемля взором,
В ее волнениях и измененьях,
Как в неизменной стройности природы,
Я вижу, слышу, чувствую лишь бога.
Из глубины уединенья, где
Он мой единый собеседник, мне
Его пути среди разнообразных
Судеб земных видней. И уж второе
Тысячелетие к концу подходит
С тех пор, как по земле я одинокой
Дорогой странствую: и в этот путь
Пошел я с той границы, на которой
Мир древний кончился, где на его
Могиле колыбель свою поставил
Новорожденный мир. За сей границей,
Как великанские, сквозь тонкий сумрак
Рассвета, смутно зримые громады
Снежноголовых гор, стоят минувших
Веков видения: остовы древних
Империй, как слои в огромном теле
Гор первобытных, слитые в одно
Великого минувшeго созданье…
Стовратные египетские Фивы
С обломками неизмеримых храмов.
Остатки насыпей и земляных
Курганов там, где были Вавилон
И Ниневия, пепел Персеполя —
Давнишнего природы обожанья
Свидетели – являются там в мертвом
Величии. И посреди сих, в ужас
Ввергающих, Востока великанов,
Меж лаврами душистыми лежат
Развалины Эллады, красотою,
Поэзией, искусством и земною
Блестящей мудростью и наслажденьем
Роскошества чаруя землю. Быстро
Времен в потоке скрылася она;
Но на ее гробнице веет гений
Неумирающий. Там, наконец,
В одну столпясь великую громаду,
И храмы Греции, и пирамиды
Египта, и сокровища Востока,
И древний весь дохристианский Запад,
Могучий Рим их груды обратил
В одну, ему подвласную могилу,
С пригорка, где немного жизни было,
Наименованный когда-то Римом,
Сам из себя он внутреннею силой
Медлительно, в течение веков,
Зерно к зерну могущества земного
Неутомимо прибавляя, вырос.
Он грозно, наконец, свое миродержавство,
Между народами рабов один
Свободный, как великий монумент
Надгробный им разрушенных держав,
Воздвигнул. Этот Pим, в то время,
Когда меня моя судьба постигла,
Принесши все Молоху государство
На жертву и все частные земные
Разрушив блага, чтоб на них построить
Публичного безжизненного блага
Темницу, – этот Рим, в то время
Владыка всех, рабом был одного,
И вся вселенная на разграбленье
Была ругательное предана
Лишь только для того, чтоб кесарь мог
Роскошничать в палатах золотых,
Чтоб чернь всегда имела хлеб и игры…
А между тем в ничтожном Вифлееме
Был в ясли положен младенец…
Рим
О нем не ведал. Но когда он был
На крест позорный вознесен, судьбины
Мировластительства его ударил час,
И в то же время был разбит и брошен
Живого бога избранный сосуд —
Израиль. Пал Ерусалим. Его
Святилище покинув, – откровенье
Всему явилось миру, и великий
Спор начался тогда меж князем мира
И царством божиим. Один скитаясь я
Между земными племенами,
Очами мог следить неизменимый
Господний путь сквозь все их измененья…
Терзая мучеников, Рим их кровью
Христову пашню для всемирной жатвы
И для своей погибели удобрил.
И возросла она…»
Спящая царевна.
Жил-был добрый царь Матвей;
Жил с царицею своей
Он в согласье много лет;
А детей все нет как нет.
Раз царица на лугу,
На зеленом берегу
Ручейка была одна;
Горько плакала она.
Вдруг, глядит, ползет к ней рак;
Он сказал царице так:
«Мне тебя, царица, жаль;
Но забудь свою печаль;
Понесешь ты в эту ночь:
У тебя родится дочь».
«Благодарствуй, добрый рак;
Не ждала тебя никак…»
Но уж рак уполз в ручей,
Не слыхав ее речей.
Он, конечно, был пророк;
Что сказал – сбылося в срок:
Дочь царица родила.
Дочь прекрасна так была,
Что ни в сказке рассказать,
Ни пером не описать.
Вот царем Матвеем пир
Знатный дан на целый мир;
И на пир веселый тот
Царь одиннадцать зовет
Чародеек молодых;
Было ж всех двенадцать их;
Но двенадцатой одной,
Хромоногой, старой, злой,
Царь на праздник не позвал.
Отчего ж так оплошал
Наш разумный царь Матвей?
Было то обидно ей.
Так, но есть причина тут:
У царя двенадцать блюд
Драгоценных, золотых
Было в царских кладовых;
Приготовили обед;
А двенадцатого нет
(Кем украдено оно,
Знать об этом не дано).
«Что ж тут делать? – царь сказал. —
Так и быть!» И не послал
Он на пир старухи звать.
Собралися пировать
Гости, званные царем;
Пили, ели, а потом,
Хлебосольного царя
За прием благодаря,
Стали дочь его дарить:
«Будешь в золоте ходить;
Будешь чудо красоты;
Будешь всем на радость ты
Благонравна и тиха;
Дам красавца жениха
Я тебе, мое дитя;
Жизнь твоя пройдет шутя
Меж знакомых и родных…»
Словом, десять молодых
Чародеек, одарив
Так дитя наперерыв,
Удалились; в свой черед
И последняя идет;
Но еще она сказать
Не успела слова – глядь!
А незваная стоит
Над царевной и ворчит:
«На пиру я не была,
Но подарок принесла:
На шестнадцатом году
Повстречаешь ты беду;
В этом возрасте своем
Руку ты веретеном
Оцарапаешь, мой свет,
И умрешь во цвете лет!»
Проворчавши так, тотчас
Ведьма скрылася из глаз;
Но оставшаяся там
Речь домолвила: «Не дам
Без пути ругаться ей
Над царевною моей;
Будет то не смерть, а сон;
Триста лет продлится он;
Срок назначенный пройдет,
И царевна оживет;
Будет долго в свете жить;
Будут внуки веселить
Вместе с нею мать, отца
До земного их конца».
Скрылась гостья. Царь грустит;
Он не ест, не пьет, не спит:
Как от смерти дочь спасти?
И, беду чтоб отвести,
Он дает такой указ:
«Запрещается от нас
В нашем царстве сеять лен,
Прясть, сучить, чтоб веретен
Духу не было в домах;
Чтоб скорей как можно прях
Всех из царства выслать вон».
Царь, издав такой закон,
Начал пить, и есть, и спать,
Начал жить да поживать,
Как дотоле, без забот.
Дни проходят; дочь растет;
Расцвела, как майский цвет;
Вот уж ей пятнадцать лет…
Что-то, что-то будет с ней!
Раз с царицею своей
Царь отправился гулять;
Но с собой царевну взять
Не случилось им; она
Вдруг соскучилась одна
В душной горнице сидеть
И на свет в окно глядеть.
«Дай, – сказала наконец, —
Осмотрю я наш дворец».
По дворцу она пошла:
Пышных комнат нет числа;
Всем любуется она;
Вот, глядит, отворена
Дверь в покой; в покое том
Вьется лестница винтом
Вкруг столба; по ступеням
Всходит вверх и видит – там
Старушоночка сидит;
Гребень под носом торчит;
Старушоночка прядет
И за пряжею поет:
«Веретенце, не ленись;
Пряжа тонкая, не рвись;
Скоро будет в добрый час
Гостья жданная у нас».
Гостья жданная вошла;
Пряха молча подала
В руки ей веретено;
Та взяла, и вмиг оно
Укололо руку ей…
Все исчезло из очей;
На нее находит сон;
Вместе с ней объемлет он
Весь огромный царский дом;
Все утихнуло кругом;
Возвращаясь во дворец,
На крыльце ее отец
Пошатнулся, и зевнул,
И с царицею заснул;
Свита вся за ними спит;
Стража царская стоит
Под ружьем в глубоком сне,
И на спящем спит коне
Перед ней хорунжий сам;
Неподвижно по стенам
Мухи сонные сидят;
У ворот собаки спят;
В стойлах, головы склонив,
Пышны гривы опустив,
Кони корму не едят,
Кони сном глубоким спят;
Повар спит перед огнем;
И огонь, объятый сном,
Не пылает, не горит,
Сонным пламенем стоит;
И не тронется над ним,
Свившись клубом, сонный дым;
И окрестность со дворцом
Вся объята мертвым сном;
И покрыл окрестность бор;
Из терновника забор
Дикий бор тот окружил;
Он навек загородил
К дому царскому пути:
Долго, долго не найти
Никому туда следа —
И приблизиться беда!
Птица там не пролетит,
Близко зверь не пробежит,
Даже облака небес
На дремучий, темный лес
Не навеет ветерок.
Вот уж полный век протек;
Словно не жил царь Матвей —
Так из памяти людей
Он изгладился давно;
Знали только то одно,
Что средь бора дом стоит,
Что царевна в доме спит,
Что проспать ей триста лет,
Что теперь к ней следу нет.
Много было смельчаков
(По сказанью стариков),
В лес брались они сходить,
Чтоб царевну разбудить;
Даже бились об заклад
И ходили – но назад
Не пришел никто. С тех пор
В неприступный, страшный бор
Ни старик, ни молодой
За царевной ни ногой.
Время ж все текло, текло;
Вот и триста лет прошло.
Что ж случилося? В один
День весенний царский сын,
Забавляясь ловлей, там
По долинам, по полям
С свитой ловчих разъезжал.
Вот от свиты он отстал;
И у бора вдруг один
Очутился царский сын.
Бор, он видит, темен, дик.
С ним встречается старик.
С стариком он в разговор:
«Расскажи про этот бор
Мне, старинушка честной!»
Покачавши головой,
Все старик тут рассказал,
Что от дедов он слыхал
О чудесном боре том:
Как богатый царский дом
В нем давным-давно стоит,
Как царевна в доме спит,
Как ее чудесен сон,
Как три века длится он,
Как во сне царевна ждет,
Что спаситель к ней придет;
Как опасны в лес пути,
Как пыталася дойти
До царевны молодежь,
Как со всяким то ж да то ж
Приключалось: попадал
В лес, да там и погибал.
Был детина удалой
Царский сын; от сказки той
Вспыхнул он, как от огня;
Шпоры втиснул он в коня;
Прянул конь от острых шпор
И стрелой помчался в бор,
И в одно мгновенье там.
Что ж явилося очам
Сына царского? Забор,
Ограждавший темный бор,
Не терновник уж густой,
Но кустарник молодой;
Блещут розы по кустам;
Перед витязем он сам
Расступился, как живой;
В лес въезжает витязь мой:
Все свежо, красно пред ним;
По цветочкам молодым
Пляшут, блещут мотыльки;
Светлой змейкой ручейки
Вьются, пенятся, журчат;
Птицы прыгают, шумят
В густоте ветвей живых;
Лес душист, прохладен, тих,
И ничто не страшно в нем.
Едет гладким он путем
Час, другой; вот наконец
Перед ним стоит дворец,
Зданье – чудо старины;
Ворота отворены;
В ворота въезжает он;
На дворе встречает он
Тьму людей, и каждый спит:
Тот как вкопанный сидит;
Тот не двигаясь идет;
Тот стоит, раскрывши рот,
Сном пресекся разговор,
И в устах молчит с тех пор
Недоконченная речь;
Тот, вздремав, когда-то лечь
Собрался, но не успел:
Сон волшебный овладел
Прежде сна простого им;
И, три века недвижим,
Не стоит он, не лежит
И, упасть готовый, спит.
Изумлен и поражен
Царский сын. Проходит он
Между сонными к дворцу;
Приближается к крыльцу:
По широким ступеням
Хочет вверх идти; но там
На ступенях царь лежит
И с царицей вместе спит.
Путь наверх загорожен.
«Как же быть? – подумал он. —
Где пробраться во дворец?»
Но решился наконец,
И, молитву сотворя,
Он шагнул через царя.
Весь дворец обходит он;
Пышно все, но всюду сон,
Гробовая тишина.
Вдруг глядит: отворена
Дверь в покой; в покое том
Вьется лестница винтом
Вкруг столба; по ступеням
Он взошел. И что же там?
Вся душа его кипит,
Перед ним царевна спит.
Как дитя, лежит она,
Распылалася от сна;
Молод цвет ее ланит,
Меж ресницами блестит
Пламя сонное очей;
Ночи темныя темней,
Заплетенные косой
Кудри черной полосой
Обвились кругом чела;
Грудь как свежий снег бела;
На воздушный, тонкий стан
Брошен легкий сарафан;
Губки алые горят;
Руки белые лежат
На трепещущих грудях;
Сжаты в легких сапожках
Ножки – чудо красотой.
Видом прелести такой
Отуманен, распален,
Неподвижно смотрит он;
Неподвижно спит она.
Что ж разрушит силу сна?
Вот, чтоб душу насладить,
Чтоб хоть мало утолить
Жадность пламенных очей,
На колени ставши, к ней
Он приблизился лицом:
Распалительным огнем
Жарко рдеющих ланит
И дыханьем уст облит,
Он души не удержал
И ее поцеловал.
Вмиг проснулася она;
И за нею вмиг от сна
Поднялося все кругом:
Царь, царица, царский дом;
Снова говор, крик, возня;
Все как было; словно дня
Не прошло с тех пор, как в сон
Весь тот край был погружен.
Царь на лестницу идет;
Нагулявшися, ведет
Он царицу в их покой;
Сзади свита вся толпой;
Стражи ружьями стучат;
Мухи стаями летят;
Приворотный лает пес;
На конюшне свой овес
Доедает добрый конь;
Повар дует на огонь,
И, треща, огонь горит,
И струею дым бежит;
Все бывалое – один
Небывалый царский сын.
Он с царевной наконец
Сходит сверху; мать, отец
Принялись их обнимать.
Что ж осталось досказать?
Свадьба, пир, и я там был
И вино на свадьбе пил;
По усам вино бежало,
В рот же капли не попало.
26 августа – 12 сентября 1831
Тюльпанное дерево
Однажды жил, не знаю где, богатый
И добрый человек. Он был женат
И всей душой любил свою жену;
Но не было у них детей; и это
Их сокрушало, и они молились,
Чтобы господь благословил их брак;
И к господу молитва их достигла.
Был сад кругом их дома; на поляне
Там дерево тюльпанное росло.
Под этим деревом однажды (это
Случилось в зимний день) жена сидела
И с яблока румяного ножом
Снимала кожу; вдруг ей острый нож
Легонько палец оцарапал; кровь
Пурпурной каплею на белый снег
Упала; тяжело вздохнув, она
Подумала: «О! если б бог нам дал
Дитя, румяное, как эта кровь,
И белое, как этот чистый снег!»
И только что она сказала это, в сердце
Ее как будто что зашевелилось,
Как будто из него утешный голос
Шепнул ей: «Сбудется». Пошла в раздумье
Домой. Проходит месяц – снег растаял;
Другой проходит – все в лугах и рощах
Зазеленело; третий месяц миновался —
Цветы покрыли землю, как ковер;
Пропал четвертый – все в лесу деревья
Срослись в один зеленый свод, и птицы
В густых ветвях запели голосисто,
И с ними весь широкий лес запел.
Когда же пятый месяц был в исходе —
Под дерево тюльпанное она
Пришла; оно так сладко, так свежо
Благоухало, что ее душа
Глубокою, неведомой тоскою
Была проникнута; когда шестой
Свершился месяц – стали наливаться
Плоды и созревать; она же стала
Задумчивей и тише; наступает
Седьмой – и часто, часто под своим
Тюльпанным деревом она одна
Сидит и плачет, и ее томит
Предчувствие тяжелое; настал
Осьмой – она в конце его больная
Слегла в постелю и сказала мужу
В слезах: «Когда умру, похорони
Меня под деревом тюльпанным»; месяц
Девятый кончился – и родился
У ней сынок, как кровь румяный, белый
Как снег; она ж обрадовалась так,
Что умерла. И муж похоронил
Ее в саду, под деревом тюльпанным.
И горько плакал он об ней; и целый
Проплакал год; и начала печаль
В нем утихать; и наконец утихла
Совсем; и он женился на другой
Жене и скоро с нею прижил дочь.
Но не была ничем жена вторая
На первую похожа; в дом его
Не принесла она с собою счастья.
Когда она на дочь свою родную
Смотрела, в ней смеялася душа;
Когда ж глаза на сироту, на сына
Другой жены, невольно обращала,
В ней сердце злилось: он как будто ей
И жить мешал; а хитрый искуситель
Против него нашептывал всечасно
Ей злые замыслы. В слезах и в горе
Сиротка рос, и ни одной минуты
Веселой в доме не было ему.
Однажды мать была в своей каморке,
И перед ней стоял сундук открытый
С тяжелой, кованной железом кровлей
И с острым нутряным замком: сундук
Был полон яблок. Тут сказала ей
Марлиночка (так называли дочь):
«Дай яблочко, родная, мне». – «Возьми», —
Ей отвечала мать. «И братцу дай», —
Прибавила Марлиночка. Сначала
Нахмурилася мать; но враг лукавый
Вдруг что-то ей шепнул; она сказала:
«Марлиночка, поди теперь отсюда;
Обоим вам по яблочку я дам,
Когда твой брат воротится домой».
(А из окна уж видела она,
Что мальчик шел, и чудилося ей,
Что будто на нее с ним вместе злое
Шло искушенье.) Кованый сундук
Закрыв, она глаза на двери дико
Уставила; когда ж их отворил
Малютка и вошел, ее лицо
Белее стало полотна; поспешно
Она ему дрожащим и глухим
Сказала голосом: «Вынь для себя
И для Марлиночки из сундука
Два яблока». При этом слове ей
Почудилось, что кто-то подле громко








