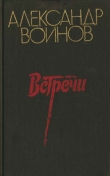Текст книги "Савелий Крамаров. Сын врага народа"
Автор книги: Варлен Стронгин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 21 страниц)
В телеинтервью советскому телевидению Олег сказал, что часто в его зарубежной жизни были и бывают минуты отчаяния, сомнений, но не в избранной кинокарьере, а в правильности и точности сыгранной роли. Иногда томит душу тоска по родине. Тогда он подходит в своем доме к окну, выходящему в дремучий лес. Глядя на эти своеобразные причудливые джунгли местного значения, забываешь о черных моментах жизни, хочется писать стихи, читать классическую поэзию. Она много раз спасала и спасает его в черные моменты жизни. И еще помогают звонки Савелия Крамарова. Встречи с ним – всегда радость. Как бы ни складывалась его жизнь, он всегда найдет силы для улыбки другу. От него исходит тепло, надежда, как от родного человека, как от родины. Он для Видова – представитель родины, но честной, доброй, справедливой, цивилизованной во всех отношениях, о какой он мечтает.
Олег, знал, что Савелию труднее устроиться в Голливуде, чем ему. Для русского комика, говорящего по-английски с акцентом, роли в Голливуде единичны, возникают скорее случайно, чем закономерно.
До меня доходят слухи, что Савелий учит в синагоге молиться приезжих евреев. Он сокрушается, что они в большинстве оторваны от религии, не знают, что всеми нашими помыслами управляет Бог, который дает жизнь и ведет по истинному пути. Для него самого этот путь оказался труднейшим. Были нервные срывы. В минуту отчаяния звонит в Москву Марку Розовскому. Среди ночи. Три часа. Самый крепкий сон. Марк, уставший за день, с трудом поднимает трубку.
– Я слушаю.
– Здорово, Марк! – раздается звонкий голос Савелия и звучит громко и четко, как будто раздается из соседней комнаты. «Кто это?!» – испуганно поднимает голову жена.
– Савелий. Я слушаю, Савелий, что стряслось?
– Все в порядке! – кричит Савелий. – Я хотел узнать, какой у тебя номер джинсов? Или советский, или американский. Я сориентируюсь!
Марк в растерянности. У него неприятности с выходом за границей сборника «Метрополь». На Марка давит первый секретарь Московского отделения Союза писателей Феликс Кузнецов, пытается выяснить, кто организатор крамольного сборника. Марк посылает телеграмму Кузнецову, в которой разрешает Союзу писателей снять из сборника свою статью о театральных российских делах, если она не нравится руководству. Нужного Кузнецову ответа не дает, и давление на Марка продолжается – закрываются постановки, запрещено печатать его произведения. А тут звонит Савелий Крамаров. Из Америки. Телефон явно прослушивается. Радисты точно фиксируют текст, возможно, принимая его за кодовое сообщение. «Черт с ними, – думает Марк, – дружба важнее».
– Как у тебя дела? – спрашивает Марк у Савелия.
– Нормально. Но ты не назвал номер джинсов. Подвертывается оказия. Я смогу переслать.
Марк наконец называет Савелию размер своих джинсов.
– За все спасибо! – заканчивает разговор Савелий, в голосе которого звучат и радость от услышанного голоса друга, и тоска, и грусть, и все-таки неиссякаемая крамаровская надежда, иногда на грани отчаяния.
Один из столпов русской литературы писатель Василий Аксенов, работающий профессором славистики в Вашингтонском университете, приезжая в Москву на каникулы, рассказывал, что в Америке он радовался, если ему звонили один-два раза в неделю. А в Москве его телефон работает не остывая. То же происходило в Штатах и с другими эмигрантами. В результате у русских эмигрантов, не живущих компактно, создается впечатление, что они никому не нужны и о них забыли. Наверное, исключением может служить только Александр Солженицын, избегавший в Вермонте встреч с земляками и журналистами. В ближайшем с его домом кафе висело объявление: «Дорогу к Солженицыну не показываем». Кроме Виктора Шульмана, Александра Лифшица, бывшего в России популярным эстрадным артистом и ставшего в Америке программистом, актера Ильи Баскина, позднее – Олега Видова, редактора газеты «Панорама» Александра Половца, поддерживавшего творчески не очень удачные первые выступления Савелия, ему даже побеседовать, посоветоваться, порою и перемолвиться словом было не с кем. Иное дело – гигант поэзии и духа нобелевский лауреат поэт Иосиф Бродский. Его мнение очень высоко ценили американские писатели, и рецензия Бродского в специальном литературном журнале открыла дорогу в Штатах многим русским, совершенно неизвестным здесь литераторам.
У Савелия Крамарова не было своего Бродского в кино. В Нью-Йорке он встретил уже популярного в Штатах художника и скульптора Михаила Шемякина. В Москве они не были знакомы, а здесь Михаил сразу узнал Савелия и по-дружески улыбнулся ему.
Шемякин, прошедший суровую школу жизни, почувствовал, что перед ним находится человек, никому не сделавший зла.
– Как дела, Савелий? – первым подошел и доброжелательно обратился он к Савелию, грустный, растерянный вид которого говорил о том, что дела его идут неважно.
– Обживаюсь, – вздохнул Савелий.
– Акклиматизируешься, – иронически, из-под очков, улыбнулся Шемякин. – Даже мне, чьи картины пришлись по вкусу американцам, поначалу было тяжеловато в Америке. Страна, в которой действуют законы, суды с присяжными заседателями, страна изобилия, – а русской радости я здесь не ощутил. Наверное, русская радость – понятие своеобразное и заключается в том, когда что-либо новое приходится пробивать и достигать неимоверным трудом, через партийные дубовые инстанции, через унижения, через взятки – финансовые и духовные, а точнее, через уступки и компромиссы, бывающие гадливее денежных подкупов, – сверкнул зрачками Шемякин. – Зато я познал там омерзительнейших людей, точнее – разглядел их маски…
Савелий покраснел, сморщился и стыдливо прикрыл лицо рукой, словно находился в тайге и закрывался от налетевшей мошкары.
– Мне присвоили звание заслуженного артиста… остались формальности – несколько начальственных подписей. Что интересно, те люди, что должны поставить свои подписи, в первую очередь поздравляют меня со званием, хлопают по плечу, моргают глазами, мол, с меня причитается, а указ не визируют. Месяц, второй, третий… И тут я понял, что с меня действительно причитается, по их неписаным законам, и отнюдь не бутылка коньяка. Я сперва возмутился, мол, на каком основании, я снялся в стольких фильмах, конечно, и не в количестве дело, но все-таки… Не бывает дыма без огня, И тут мне один словоохотливый чиновник объяснил, что если бы я сыграл секретаря парткома, председателя колхоза из «Кубанских казаков», на худой конец сталевара, то получил бы звание без промедления. Я вспомнил, какие роли играл, и… сломался. Денег, конечно, не дал, не мог, хоть тресни, но подарки приволок.
Шемякин рассмеялся от души.
– Ты так смешно рассказываешь. Я вижу все твои сомнения, страхи и как ты оставляешь подарки в кабинетах начальства, осторожно, даже незаметно, вроде мины замедленного действия. Теперь тебе было бы легче, – усмехнулся Шемякин, – особенно на телевидении.
– Почему? – вздрогнул Савелий.
– На все выступления там установлена такса. В зависимости от популярности передачи, времени пребывания на экране… Вот где назревает темка для отличного русского боевика – борьба за передел власти на телевидении. С крутейшей интригой, перестрелками, убийствами главарей или, как их называют, заведующих отделами. Я даже предвижу заголовки: «Кровавая реклама», «Убийство в музыкальной редакции», «Драма в отделе литературной драмы». Я знал в этой редакции одну супервзяточницу. Она вызывала зависть даже самых красивых теледикторш. Носила пальто, сумку и перчатки из крокодиловой кожи. Я думал, что ее прикончат первой, а ее, как рассказывают, наградили орденом Дружбы… С кем? С валютой?!
– Мне повезло, – улыбнулся Савелий, – я проскочил в то время, когда на телевидении произрастали девственные леса, а не джунгли.
– Ты прав, – согласился Шемякин, – звери вырастают в джунглях, где небо застилают зеленые облака.
– Из долларов, – догадался Савелий, и они оба рассмеялись, а потом Савелий нахмурился: – Я не гоняюсь за зелеными облаками, но в рекламных роликах сниматься приходится. Для вида долго и с неохотой думаю – дать согласие или нет. Самому противно. Но жить надо. Соглашаюсь…
– И правильно делаешь, что не скрываешь это от меня, – улыбнулся Шемякин, – ты – человек, а не маска! Таких не много на свете… Поверь мне… ты еще станешь звездой в Америке. Хватило бы на это здоровья…
– Хватит! – уверенно заявил Крамаров. – Одного боюсь, что не смогу говорить по-английски без акцента. Хорошо, что американцы в акцентах не разбираются! Я проверял! – радостно воскликнул Савелий. – Для них акцент одинаков – что русский, что немецкий, что польский… Смогу играть все роли иностранцев… Но хотелось бы не дурачиться на сцене, а играть… Надоело идиотничать дома. Мне иногда казалось, что меня перебрасывают из фильма в фильм, как подкидного дурака. Мало кто понимал меня: Евстигнеев, Вицин, Леонов… Но здесь с чего-то начинать надо, Миша?
Шемякин посуровел и надвинул защитного цвета шапочку на лоб:
– Мои картины привез в Америку деляга и здорово нажился на них. Уже вслед за картинами явился я… Бывает, я проклинаю этого человека, бывает, благодарю… Не в нем дело, а в стране, откуда мы прибыли, в нашей ситуации здесь. С чего-то начинать надо. Но так, чтобы не было стыдно за свою работу. Я иногда делаю набросок картины и по желанию заказчика дорисовываю ее.
Савелий задумался, а потом рассказал Шемякину о сюжете фильма, где есть шанс отсняться. Шемякин просил дважды рассказать о роли, которую предлагают Савелию, и сдвинул брови:
– Не стыдно, Савелий. Не Гамлет, но и далеко не Чапаев. Соглашайся, Савелий!
Они расстались, не зная, что судьба еще сведет их серьезно и соединит их имена навечно.
Я не знаю, кто проложил путь Савелию в первый его американский фильм «Москва на Гудзоне». Что, какие его качества – знаю. Искрометный, неповторимый крамаровский юмор. Но талант иногда нужно показать, помочь ему проявить себя.
Одна версия говорит, что в Голливуде существует просмотровый зал, где в течение шести минут каждый желающий может показать, на что он способен в искусстве. После этого ему дадут ответ, характеристику его способностей, если их заметят, и рекомендацию, где и как их применить в творчестве. Из этого зала вышел и вскоре завоевал Америку одессит Яков Смирнов, переделавший одесские анекдоты на английский лад. Будем откровенны: покорил он отнюдь не университетскую Америку, а простой люд, принимавший на ура грубоватые одесские анекдоты. Но вечно это своеобразное надувательство продолжаться не могло, и имя Якова Смирнова мало кто теперь помнит в Штатах. Кстати, великий одессит Леонид Осипович Утесов обожал свой город как город, но любил Одессу Веры Инбер, Катаева, Ильфа и Петрова, Ойстраха, Багрицкого и не любил Одессу артельную – жуликоватую и хамскую, в которой еще до сих пор кое-что осталось от бандитских замашек Мишки Япончика и юмора старого Привоза – центрального рынка. И если эта Одесса в своей массе ныне переместилась на Брайтон-Бич и нашла своего актерского героя в лице Бориса Сичкина, которому в интервью нашему телевидению ничего не стоило обругать Шварценеггера, как плохого актера, «блеснуть» шутками типа «Я живу в престижном районе – ни одного белого», утверждающего, что в «юморе немножко грязно должно быть», то она не смогла «прописать» там Савелия Крамарова. Он давно вырос из юмора советских комедий, и если Борис Сичкин для омоложения покрасил свои волосы в черный цвет, забыв французскую пословицу о том, что «крашеным мужчинам верить нельзя», то Савелий Крамаров, вообще уважительно относящийся к профессии актера, все мысли направил на то, чтобы прорваться в американское кино. Возможно, он показал свой ролик в просмотровом зале Голливуда и оттуда проник на съемки фильма, где требовался актер русского типа на роль кагэбэшника, сопровождающего в Штатах гастролирующих там советских музыкантов. По другой версии, его рекомендовал на съемки фильма один из его участников и друг Савелия актер Илья Баскин. Я все-таки склоняюсь ко второй версии и считаю, что поклонники нашего кино должны быть благодарны Илье Баскину. Сюжет фильма незатейлив, но современен. Советский саксофонист просит политического убежища в Штатах. Но стать музыкантом в американском джазе, даже весьма среднем, довольно трудно. По этому поводу существует забавный и взятый из жизни анекдот. Солист-саксофонист нашего эстрадного оркестра Всесоюзного радио и телевидения остался в Штатах, но на работу его никуда не брали. Тогда он в сердцах сказал директору одного из ресторанов о том, что его не берут в оркестр, потому что он русский. «Подождите меня несколько минут», – сказал директор ресторана, вышел на улицу и вернулся с негром, который сыграл на трубе небольшую импровизацию. Пораженный его блестящей игрой, наш бывший солист от удивления выпучил глаза. «Это – не музыкант, – объяснил ему директор. – Я просто попросил негра с улицы сыграть нам небольшую вещь».
В фильме герой много репетирует и совершенствует свою игру, наконец добивается успеха, к тому же влюбляется. Фильм идет по проторенному пути, но в памяти остаются не его довольно примитивные коллизии, а три сцены с участием Савелия Крамарова. Первая – с его вылезающими из орбит глазами, при обозрении массы невиданных продуктов в обычном супермаркете. Далее – он же при исполнении служебных обязанностей героя на коленях ползет за музыкантом, попросившим политического убежища, и умоляет его остаться. Карьера кагэбэшника под угрозой, но он, забыв о своей тайной миссии, выдает себя, слезы застилают его глаза. Фигура его смешна и трагична. «Останься! Что ты делаешь со мной?!» – вырывается крик из его души. И наконец блестящая точка фильма: герой идет по улице, и камера наплывает на лоточника, торгующего хот-догами. Мы видим помолодевшее, озаренное человеческой радостью лицо Савелия. Это бывший «сопровождающий» артиста.
– Куда я мог уехать без тебя?! – восклицает и улыбается он.
Зал аплодирует. И не только неожиданной развязке сюжета. Я заметил, что у каждого выдающегося комика своя улыбка: недоуменная от превратностей жизни у Фернанделя; несколько глуповатая и нервная до гротеска у Луи де Фюнеса, отражающая в комической форме зачастую далекий от здравого смысла мир; у Пьера Ришара – умная и грустноватая, идущая от души, ищущей выхода из трудных ситуаций, а наша российская жизнь, где элементарные человеческие понятия перевернуты с ног на голову, оказалось, заставляла глаза Никулина от удивления происходящим буквально лезть на лоб. У Савелия Крамарова улыбка ближе к никулинской, тоже порою с оттенком изумления, но в большей части искрящаяся оптимизмом, животворной силой, заставляющей зрителя смеяться раскованно, как и сам артист. Еще раз повторяю: юмор – обратная сторона трагедии, и советское бытие так зарядило Савелия иронией, радостью жизни как таковой, что он не только выжил в ней, но и стал популярным и любимым артистом, не позволил растоптать себя, свое достоинство и снова родился как артист в другой стране, где киноискусство не только любят, но и боготворят его. Будет возможность – еще раз посмотрите его заразительную, потрясающего воздействия улыбку в конце фильма «Москва на Гудзоне». Артист не только играет совершенно новую для себя роль, о которой даже не мог мечтать в России, где она вообще не могла возникнуть, поскольку чекисты в советских фильмах подавались только как суперпатриоты и самоотверженные герои, хотя, как-ныне показывает едва открытая чекистская статистика, немало их оставалось за рубежом и предавало родину.
Я улыбаюсь, душа моя переполняется радостью за Савелия. К этому времени более десятка советских резидентов изменили родине. Удар Крамарова в эту болевую для чекистов точку был настолько силен и ярок, что иностранный корреспондент «Литературной газеты», наверное, как и большинство наших разведчиков, работавший под журналистской «крышей», разражается на страницах газеты пасквилем на Савелия, совершенно бездоказательным, грубым, и предрекает артисту судьбу продавца сосисок. Заметьте, что сосисок, а не хот-догов, поскольку еда эта советскому читателю неизвестна и в лучшую сторону отличается от той, что ему предлагают.
Душа моя радуется: «Браво, Савелий!»
На волнах заокеанской жизни
Дефицит человеческой радости на нашей планете ощущается явно, если мы даже сравним объем драматического творчества на земле с юмористическим. Это легко объяснимо и нелегкой жизнью большинства людей, и тем, что они смертны, и, как остроумно заметил один из врачей, – смертны даже не на девяносто девять и девяносто девять сотых процента, а на все сто. Поэтому люди во всех странах мира ценят и почитают комиков, я подчеркиваю – люди, а не власти. Не будем вторгаться в тему отношений властей с творцами. Мы о ней уже немного рассказали в этой книге, тем более у творцов не всегда хватало сил и мужества сопротивляться властям, и, как заметил еще средневековый философ Эразм Роттердамский: «Иногда побеждает не лучшая часть человечества, а большая». Вспомним и еще одно мудрое высказывание, слова Антона Павловича Чехова о том, что к сорока годам человек сам делает свое лицо, разумеется, не лепит его заново или изменяет при помощи хирургического вмешательства, а отражает на нем пережитое им, даже черты уже устоявшегося характера. И не слишком много на земле людей, сохранивших до конца своих дней в душе, следовательно и на лице, доброту, честность, принципиальность… Савелий, конечно, был актером и, как вы узнаете дальше, мог сыграть даже злодея, но в обиходе сохранил свою неповторимую улыбку, идущую от доброты души. К сожалению, наша киноиндустрия почти не работала на великих комиков и, как справедливо заметил режиссер Марк Розовский, обошла она и Савелия Крамарова. Но не стоит преуменьшать значение его ролей, сыгранных в России. Ведь такие человеческие качества, отображенные им в фильмах, как жадность, трусость, глупость, раболепие перед сильными мира сего, на мой взгляд, извечны и некоторые роли Савелия могут существовать отдельно от фильмов и из них можно собрать отличный киносборник его творчества. Савелий создал себя как личность, впрочем, и прежде он не мог обмануть или предать человека и жил по гуманным религиозным заповедям, даже еще не будучи серьезно знаком с ними. И он не остановился в своем развитии, тем более находясь в свободной стране, где действуют гуманные законы, где люди живут раскованно и тяга к новизне, к эксперименту генетически заложена в них. Савелий был на концерте симфонической музыки любимца американской публики и друга Рональда Рейгана пианиста Либераче, кстати, самого высокооплачиваемого музыканта в Штатах, и поначалу был поражен его одеянием. На сцену вышел высокий обаятельный человек в немыслимой для пианиста парчовой накидке, усыпанной бриллиантами, стоимостью около миллиона, и… заиграл Первую симфонию Чайковского. Савелий заерзал на стуле, оглядываясь по сторонам, шокированный и накидкой пианиста, и тем, что пальцы его рук были унизаны драгоценными перстнями. Но не заметив на лицах зрителей удивления, а, наоборот, явное расположение к исполнителю, задумался над тем, что видит. Менялись номера, исполняемые пианистом, его накидки, а успех его у зрителей нарастал буквально с каждой минутой. Мало того – пианист позволял себе шутить между номерами, правда, шутил чаще над собой и своими одеяниями, но играл прекрасно, соблюдая чувство меры, играл популярные, доступные широкому зрителю симфонические произведения в сопровождении прекрасного симфонического оркестра. И тут Савелий понял, что Либераче решился, и удачно, на рискованнейший эксперимент: он нарушил традиционный образ классического пианиста, выходящего на сцену в строгом черном фраке, долго настраивающегося на игру с миной задумчивости и проникновения в суть исполняемого произведения, как правило, выученного наизусть и много раз отрепетированного. Он отнюдь не пародировал коллег. Он просто говорил зрителю о том, что искусство, тем более классическое, должно нести радость людям, не смотрите на меня с полными грусти или скорби лицами, сопереживайте – серьезному улыбайтесь, а иногда и радуйтесь вместе со мною, если есть чему. А мои дорогие накидки – это не похвальба богатством, а ирония над ним, я не трачу деньги на шикарные машины и виллы, а вынес их вам в виде одеяний на обозрение и для развлечения, зная, что вы интересуетесь, в какой необыкновенной накидке я появлюсь на сцене в следующем блоке номеров.
Играл Либераче замечательно и задорно и, как говорят артисты, завел до предела зал, обрушивший на него волны оваций. Захваченный непривычным для себя действом, искренне бушевал вместе с залом Савелий и уже не удивился, когда в конце представления Либераче спел нехитрую, но трогательную песенку о том, что душою он всегда вместе со зрителями, мысленно видит лицо каждого из них и будет видеть с любой высоты, даже с небес. К сожалению, Либераче через несколько лет умер от болезни, прозванной чумой двадцатого века. Савелий горевал о его гибели вместе с другими американцами.
Им понравился музыкальный эксперимент Либераче, но они буквально кричали от радости, выражая восхищение игрой традиционного классического скрипача Владимира Спивакова, на концерте которого Савелий побывал в городе Сан-Хосе. Пятитысячный зал был забит до отказа. А неподалеку, в Сан-Франциско, находился единственный в Америке театр с постоянной оперной и балетной труппой. Туда Савелий попасть не смог. Билеты были раскуплены на все спектакли сезона еще задолго до его начала.
Советский пианист Евгений Кисин, ныне пребывающий в Штатах, справедливо заметил, что в этой стране есть культура и бескультурье, но на симфонических концертах никогда не бывает пустых мест. И когда мне во время авторского вечера в Сан-Франциско один из русских эмигрантов сказал, что, по его мнению, американская доброжелательность, улыбки прохожих, неизменные благодарности за покупку и приглашение прийти еще, наигранны и неискренни, то я ответил ему, что даже если так, то мне приятнее встречать неискреннюю доброжелательность, чем искреннее хамство.
Савелия, уже после первой роли, заметили многие американские режиссеры и сетовали на его английский с европейским акцентом, на то, что не могут поэтому снимать его в своих фильмах.
Позднее, при встрече в Москве, Савелий рассказал мне, что у него свой импресарио в Голливуде, но часто, даже без его участия, он получает приглашения играть роли немцев, чехов, поляков, всех, кто говорит с европейским акцентом.
Савелий продолжал, как губка, впитывать в себя все лучшее, что видел в Америке. Но ему «опять чего-то не хватало», наверное, той популярности, что была на родине, и не массовой, а тех людей, которых он любил, к примеру, художников, по воскресеньям выставляющих свои картины в Измайловском парке. Эти в основном талантливые ребята, далекие от официального творчества, отторгнутые Союзом художников, любили Савелия. Стоило ему появиться среди деревьев парка, с прислоненными к ним картинами, как их авторы окружали его, интересовались его мнением о своих произведениях и в конце встречи фотографировались с ним на память. И это независимо от того, покупал ли он у них картины или просто смотрел их, что было чаще. Художники любили его не только за популярность, и он не был правозащитником или новатором в искусстве, что могло привлекать их в нем, а, наверное, единственным творческим человеком, который постоянно и искренне интересовался их работой. И они, сами люди ранимые и раненные тяжелой судьбой, видели в нем доброго и близкого им по духу человека. Савелий среди них чувствовал себя естественно и комфортно, не боялся высказаться откровенно, даже ошибиться в их искусстве или чего-то сразу не поняты Зато кругозор его расширялся. Он постоянно создавал себя как личность, становился увереннее в своих силах. Иначе не решился бы на поступок, круто изменивший его жизнь, не уехал бы от неимоверной популярности, притягивающей к себе цепями многих коллег и ныне готовых ради нее тусоваться где и с кем попало, лишь бы мелькнуть на телеэкране и попасть под милостивый взгляд начальства и, если сильно повезет, задружить с ним. Один из его коллег развлекал семью министра внутренних дел Щелокова, другой – внуков Брежнева, третий – министра культуры Демичева, а четвертый, несмотря на проходимость танка, все-таки выдворенный с многочисленных телепередач из-за вопиющей бездарности и пошлости, вновь возник на телеэкранах, найдя подход к прокурорскому начальнику. Савелий даже не думал о подобных делах, он был артистом кино и желал добиться успехов на своем любимом поприще, и, конечно, без какой-либо начальственной помощи. Не достигнув чего-то сам, он никогда не получил бы радости от успеха и, наверное, кем-то продвинутый и пробитый на удачную роль, сыграл бы ее без вдохновения, и мы не увидели бы на экране чудодейственной его улыбки.
Савелий стал человеком сильным, но не был, как говорят, сотворен из камня или железа. Я не уверен, что будучи, к примеру, писателем, он смог бы долгие годы, стиснув зубы и бедствуя, работать в стол, как наш великий писатель Фазиль Искандер.
Савелий, в промежутках между фильмами, снимался в рекламных роликах. Впрочем, это тоже работа.
На Западе не презирается никакая работа. Возможно, такому артисту, как Савелий Крамаров, не столь престижно сниматься в рекламе, как поначалу ездить в машине старой марки или одеваться в дешевых магазинах. Но Савелий продолжал совершенствовать свой английский. Он не отбросил цель – стать полноценным актером американского кино. А пока…
Рассказывает его брат, инженер-строитель Виктор Волчек – сын дяди Лео, о том, как случайно, находясь в гостях в Нью-Йорке, встретил в центре города, на Бродвее, Савелия, наряженного в форму полицейского. Он рекламировал какую-то кредитную карточку.
– Почему ты снимаешься так поздно? – удивился Виктор.
– Подумай! – улыбается Савелий.
– Вероятно, требуется затемнение? – предполагает Виктор.
– Сразу видно, что ты не американец, – улыбается Савелий, – ты не знаешь, что за съемки в ночное время муниципалитет берет с продюсера вдвое меньше денег, чем в дневное… трудность только для меня.
– Не любишь сниматься поздно? – говорит Виктор.
– Сниматься, да еще в хорошем фильме, могу круглые сутки, – говорит Савелий, поправляя фуражку, – даже в рекламе, пока не могу обойтись без нее. Трудность в том, что ночевать негде.
– А в гостинице? – удивляется Виктор.
Савелий мнется, но тут его зовет режиссер. Нужно отснять заключительный кадр. Савелий задирает подбородок и несет кредитную карточку, как флаг. «Смешно было очень, – вспоминает Виктор, – даже режиссер рассмеялся. Отсняли кадр и тут же стали убирать аппаратуру Спешно. Стоящий рядом полицейский хронометрирует пребывание кинематографистов на Бродвее».
– В чем же все-таки твоя трудность? – продолжает разговор Виктор.
– Снимать дешевый номер – негде. Рядом только дорогие гостиницы. А я присмотрел себе уникальный итальянский столик. Работа мастера восемнадцатого века. Американцы любят пышную и современную мебель, а я – старую, но сделанную от души, с выдумкой, вроде как для себя творил мастер, чтобы доказать себе, что он действительно способен создать что-то необычное и приятно удивить этим людей. Все, что собрал в Москве, отдал Маше. Сейчас собираю новую коллекцию. Лишних денег нет. Экономлю на чем могу.
– Можешь переночевать у меня в номере, – нерешительно произносит Виктор, боясь обидеть брата.
– Прекрасно! – восклицает Савелий.
– Но в номере одна кровать. Я с женою, – объясняет Виктор.
– А пол?! – делая вид, что его не страшит даже асфальт, громко говорит Савелий и так беспечно улыбается, что у Виктора исчезает стеснение. – Здесь в гостиницах пол покрыт кардитом. Он не жестче матрасов на русских железных дорогах! – успокаивает Виктора Савелий. – Если вы с женой выделите мне подушку, то я тут же усну, весь день был на ногах.
«Дали мы ему подушку, и он действительно тут же уснул как убитый, – вспоминает Виктор, – а рано утром поехал в Лос-Анджелес. Сниматься в «Красной жаре» со Шварценеггером. Об этом я узнал позднее. Савелий не любил говорить о том, что пока не сделал.
И встал с пола, разминаясь, довольный, словно выспался на мягком ложе. Играл удовольствие, чтобы не огорчать нас с женою.
– До встречи, Виктор! – вдруг сказал он.
– Собираешься в Москву? – спросил я.
– Или ты ко мне приедешь, или я к тебе прилечу. Времена меняются. А вернуться в Москву я собирался еще тогда, когда садился в самолет, чтобы уехать навсегда. Мне так приветливо улыбались стюардессы, что я подумал, что вернусь. Не могут без меня долго жить люди, которые так улыбаются мне. Не я сам прилечу, так фильмы с моим участием: Я и в это тогда верил. Сизов, Ермаш – это киновласть, но еще далеко не вся страна. До встречи, Виктор!»
Времена вскоре действительно стали изменяться. Холодная война измотала Россию и, несмотря на различные политические системы, сближение двух великих держав, хотя бы внешне, стало неизбежным и началось с культурного обмена. В 1986 году в Америку приехал Камерный еврейский ансамбль Шерлинга, затем – музыкальный ансамбль «Тумбалалайка» во главе с композитором Михаилом Глузом. В концертах принимал участие нынешний художественный руководитель еврейского театра «Шолом» Александр Семенович Левенбук, в прошлом, да и сейчас, отличный эстрадный актер. Он рассказывает, что три дня, пока ансамбль выступал в Лос-Анджелесе, Савелий буквально не отходил от артистов и раз за разом повторял одну и ту же фразу: «Этого не может быть!» Ему не верилось, что в России возникли еврейские театральные коллективы и их даже пускают на гастроли в Америку. Через год Александр Левенбук вместе с блестящим автором эстрады Александром Хайтом привезли в Штаты программу «Еврейский анекдот». И снова Савелий не покидал их. Однажды они зашли в магазин, где продавались щенки. Савелий тут же изобразил на лице гримасу, после чего стал похож на одну из собачек. Левенбук стал фотографировать Савелия радом со щенком, и тут в магазин зашли несколько девочек. Увидев происходящее, они громко рассмеялись. Александр Хайт, хорошо знающий английский, тактично поинтересовался у девочек, чему они смеются – наверное, сходству дяди с собачкой? «Нет, – ответили они, – мы узнали артиста по фильму «Москва на Гудзоне», мы тогда смеялись и сейчас видим, что он очень смешной».
Александр Левенбук склоняет голову:
– Савелия никогда не называли талантливым. Увы, нет пророков в своем отечестве, особенно в нашем, но, что бы ни говорили о Крамарове, его место в российском киноискусстве до сих пор вакантно. Его не отличали, наверное, и потому, что он был скромным, интеллигентным человеком. За многие годы знакомства я не слышал от него ни одного грубого слова, ни одного скверного слова о коллегах. И тогда, и в Америке он никогда не говорил плохо о народе в стране, где прошли его лучшие творческие годы. Принимал нас с Хайтом в скромной квартирке и кормил лососиной и другими яствами, которые сам, наверное, покупал только в праздники. Приезд коллег из России был для него тоже настоящим праздником. Он этого не скрывал. Однажды мы с Хайтом перебрали и в шутках о хозяине переступили меру приличия. Поняли это, только отрезвев. Но Савелий не только не сделал нам замечания, даже сделал вид, что не было с нашей стороны сказано ничего предосудительного о нем. Подперев подбородок, смотрел на нас, захмелевших, и улыбался. Религия сделала его выдержанным и терпимым к слабостям других людей. Не кичился, даже словом не обмолвился, что объездил мир, что начинал в Америке с нуля и поначалу приходилось туго. А в конце встречи спросил у нас, какие подарки мы хотели бы привезти из Америки родным. Хайт сказал Савелию, что пусть, если возможно, вместо подарков он даст им деньги, сколько сможет, а сувениры для дома они выберут сами. На следующий день Савелий принес нам тысячу долларов. Мы были потрясены его щедростью, тем более знали, что он пока снялся только в одном фильме. И мало того, перенес съемки, приходившиеся на еврейский праздник Иом Кипур, и кинопромышленникам пришлось менять сетку занятости своих рабочих, около сотни человек, что тоже отразилось на гонораре артиста. Встречи с Савелием в Штатах забыть невозможно, потому что люди такого качества единичны в нашей стране, а может, и не только в нашей.