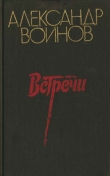Текст книги "Савелий Крамаров. Сын врага народа"
Автор книги: Варлен Стронгин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 21 страниц)
Савелий тихо прикрыл за собою дверь, а у меня екнуло сердце, я понимал, что закончилась добрая и неповторимая часть моей жизни, что от меня ушел друг, который ни разу не предал, не обманул меня, который ждал от меня добра, а я всегда старался не обмануть его ожидания.
Передо мною две фотокарточки Савелия, вышедшие массовым тиражом для поклонников кино и продававшиеся в киосках «Союзпечати». Это две разные фотографии одного человека. На первой из них фотограф уловил его мягкие и нежные интеллигентные черты, добрые, проникновенные глаза. На оборотной стороне посвящение: «Моему лучшему другу Варлену Стронгину». «Здесь я похож на Алена Делона», – с долей шутки говорил о себе Савелий. Вероятно, он должен был выглядеть таким красивым и благообразным юношей, если бы его детство сложилось нормально, если бы в кино на роли главных положительных героев требовались не так называемые «социальные типы» деревенско-пролетарского характера, зачатые родителями в революционных условиях злобы, нищеты и веры в коммунистическую утопию, сражавшиеся с природой и уничтожавшие ее, и от этого страшного сумбура их лица приобретали суровость и неправильные, но кажущиеся мужественными черты лица.
На второй фотографии Савелий ближе к типу героев, востребованных советским кино, но его вызывающий полууголовный задор смягчает улыбка, и кажется, что в нем борются человечность с грубостью, вера в доброту и социалистически оправданная нахальность, которой никто и ничто не сможет противостоять.
Каким Савелий Крамаров станет в Америке?
Век живи, век учись
Напротив метро «Баррикадная» подвыпивший писатель Юз Олешковский взасос, как говорили тогда, целует молодую привлекательную женщину, не обращая внимания на спешащих в метро людей. Для меня – это смелый поступок, на который я, даже будучи сильно влюблен и пьян, никогда не решился бы, для меня это непозволительная раскованность, граничащая с безрассудством. Юзеф Олешковский – известный детский писатель, автор знаменитой повести «Кыш и Два-Портфеля». Его книгу выбросили из плана выпуска в издательстве, где она пролежала четыре года, и он без колебаний, как кажется внешне, решил испытать свою судьбу в Америке. Он при встрече в Доме литераторов упорно зовет меня с собой.
– Сколько лет находится твоя книга в «Советском писателе»?! – наступает он.
– Пять лет, – растерянно отвечаю я.
– Ну, выйдет она на шестой-седьмой год, издашь еще одну-две книги, и, извини, жизнь закончится, – уверяет меня Олешковский. – Не дури, поедем в Штаты, Я не могу тебе ничего обещать, но там есть шанс, понимаешь, есть шанс стать человеком. Ты станешь нашим Вуди Алленом! Нашим, то есть эмигрантским, пока не научишься писать по-английски. Поедем, Варлен. Я уговариваю тебя, потому что жалею. Иосиф Дик назвал тебя в «Литературке» ведущим писателем в жанре сатиры. И он прав. Вуди Аллена печатает вся Америка, он снимает свои незамысловатые фильмы. Маленького роста, обыкновенных внешних данных еврейчик. А ты, выступая на сцене, взрываешь смехом залы! Здесь ты погибнешь!
– Не погибну, – серьезно отвечаю я.
– С голоду не умрешь, хотя кто что знает, но дорогу на телевидение тебе прикроют. Уже закрыли. Юмористическая мафия, эти бандиты, никогда не выдержат сравнения с тобой. Даже твой друг, Александр Иванов, которого ты не раз выводил из запоя, на мой вопрос, почему тебя вырезают из телепередач, сказал мне такое… Я не хочу тебя расстраивать. Поедем, Варлен!
– Не могу, – уверенно говорю я, – не могу доставить врагам такую радость. Есть еще веские причины, и их немало, поверь мне, Юзик.
Олешковский обреченно машет на меня рукой.
– Савелий Крамаров едет! На пустое место! Думаешь, его ждут в Голливуде? Смелый человек!
– Смелый, – соглашаюсь я, и Юз Олешковский отходит в сторону, чтобы возобновить атаку на меня при очередной встрече.
Я не стал ему раскрывать наши с Савелием секреты. Все лето Савелий упорно учил английский язык, не расставаясь с учебником даже на ялтинском пляже. Готовился он к переезду в неизвестную страну очень тщательно. Было ясно, что наши соцбытовские проблемы не заинтересуют даже эмигрантов, живущих в новых материальных условиях, в стране, где в почете общечеловеческие ценности и действуют законы.
– Возьми для примера рассказы Михаила Зощенко, – предложил я, – стали нормально работать бани – и рассказ о плохой бане устарел, зато его произведения, высмеивающие общечеловеческие пороки – пьянство, жадность, лицемерие, предательство, воровство, глупость и другие им подобные, – злободневны по сей день.
Развивая проблему, Савелий рассказал мне один из самых популярных в Штатах анекдотов:
«Жена звонит мужу с курорта: «Скажи, пожалуйста, как поживает наша кошечка?» – «Сдохла!» – «Ой, какой ужас, и зачем ты говоришь об этом так грубо?!» – «А как надо?» – «Нужно было бы сначала подготовить меня. К примеру, сказать, что наша кошечка сидела на крыше, случайно упала и разбилась. Кстати, как поживает наша тетя?» – «Сидит на крыше!»
Я про себя отметил блестящую юмористическую точку анекдота, но не засмеялся, так как подумал, что вряд ли смогу написать что-либо похожее для Савелия. Нас, советских эстрадных авторов, десятки лет приучали к написанию фельетонов, монологов и куплетов лишь на социальные темы, к тому же значимые с точки зрения нашей идеологии. Анекдот, рассказанный Савелием, наверное, отнесли бы к «юмору толстых».
– Смешной анекдот, – наконец признался я, – но конферансье Саша Лонгин, уехавший в Канаду, не смог там работать по специальности, хотя у нас в стране считался лучшим артистом в своем жанре.
Действительно, Александр Лонгин был разговорником от Бога, но путь на самые престижные площадки ему перекрывали действующие заодно властные коллеги – Брунов и Радов. Мастерство Лонгина было столь велико, что даже фельетон газетного толка, примитивный и набивший оскомину от лозунговости, он мог прочитать так, что его внимательно слушали зрители. Помню, как в эстрадной программе, поставленной режиссером Галем в Летнем зале Центрального парка культуры и отдыха, Александр Лонгин по прихоти режиссера едва ли не в конце программы (!) исполнял стихотворный монолог о неизбежности прихода светлого будущего. Осоловевшие от перенасыщенности концерта социалистической идеологией зрители все-таки внимали Лонгину, его убедительности и красоте чтения, а он, закончив монолог, от досады и гадливости сплюнул, прямо на сцене.
– Отличный был артист, – согласился Крамаров, – но он работал с авторами, писавшими серые произведения, точнее, то, что легко проходило инстанции, что устраивало начальство. Ему, конечно, трудно было перестроиться на русского канадского зрителя. Учтем его ошибки! – улыбнулся Савелий, чтобы поддержать меня и себя.
Мне хотелось помочь другу, я старался, очень, но каждую вторую мою репризу Савелий браковал, и весьма доказательно. Я почти не сопротивлялся, не отстаивал свой текст, на самом деле не зная, как его примут на Западе.
Вспомнил очень старый, но мало кому известный анекдот, вернее сценку приезжавшего в Москву Пражского театра миниатюр, переделанную мною в анекдот. «Шестнадцатый век. Холл древнего замка. По холлу прохаживаются маркиз и звездочет. За ними следует лакей с подносом, уставленным бокалами с шампанским. Маркиз волнуется, у него с минуты на минуту должен родиться ребенок. И он спрашивает у звездочета: «Что говорят по этому поводу звезды?» Звездочет выглядывает в окно и замечает: «Если у вас родится девочка, то вы проживете длинную жизнь, если мальчик, то немедленно умрете». Внезапно в холл вбегает служанка: «Маркиз! У вас родился ребенок!» – «Кто?!» – восклицает маркиз. «Мальчик!» – сообщает служанка, и тут же замертво падает лакей с подносом». Савелий откровенно, радостно смеется:
– Беру! Спасибо!
– Не за что, – оправдываюсь я, – это не мой анекдот.
– Зато очень смешной и наверняка неизвестный в Штатах!
Мне кажется, что я нашел ключик к тому материалу, что нужен Савелию. Отбросив все остальные заказы, тружусь только над этим фельетоном. Ведь это не только моя последняя помощь другу, но и своего рода прощальный подарок.
Работа закончена. Савелий доволен материалом. Я даже не напечатал его. Отдал текст, написанный от руки. И сейчас, по прошествии десятков лет, помню лишь одну репризу из него, и то лишь потому, что с нее начинался фельетон и мы долго работали над ней. «Я снялся в России в тридцати четырех фильмах, – тут же репетировал начало фельетона Савелий, проверяя, ложится ли текст на него, разговорен ли он, не перегружен ли лишними словами, – я играл дураков, недоумков, недотеп и подумал, что Америка страна богатая, сильная, и станет ли в ней одним дураком больше или меньше – ничего с ней не случится!»
По большому секрету Савелий рассказал мне, что у трапа самолета его встретит импресарио Виктор Шульман и во главе бригады из русских артистов-эмигрантов пошлет по Штатам, Англии, Израилю, Австралии и Новой Зеландии.
– А сколько ты получишь за эти гастроли? – задал я типичный «совковый» вопрос, который в те времена считался элементарным и даже приличным.
– Двадцать тысяч долларов, – ответил Савелий, – это много или мало? За шесть месяцев выступлений?
– Не знаю, – покачал я головой.
– Бригада вроде получается неплохая, – сказал Савелий, – конферансье Марк Горелик – бывший ведущий Красноярского мюзик-холла, певцы Жан Татлян, Лариса Мондрус, Нина Бродская и я – единственный юморист, кроме Горелика. Минут десять буду читать твой фельетон, затем показывать пантомимы…
– А потом, что будешь делать потом, после гастролей? – поинтересовался я.
Савелий ответил осторожно, но без раздумий:
– Стану перебираться поближе к Голливуду.
Я облегченно вздохнул – Савелий мечтает о кино, значит, не погрязнет в эстрадных выступлениях.
– Ты надеешься на успех в кино? – прямо посмотрел я ему в глаза.
Он молчал, раздумывал минуту, потом медленно рассказал мне, что видел, как фильм с его участием смотрели шведы. Когда он появлялся на экране, они смеялись.
– Это еще ничего не значит, – наверное, чтобы не сглазить, испуганно произнес он, – шведы не знали русского языка. И над Пуговкиным смеялись. Он – мастер юмора величайшего класса. Он учил меня естественно чувствовать себя перед киноаппаратом. Играть роль, а не юморить. «Бог подарил нам природный юмор, – говорил мне Михаил Иванович Пуговкин, – мы должны точно сыграть роль, смыслово и актерски, по возможности – вдохновенно, и ни в коем случае не жать, не переигрывать». У меня здесь были отличные учителя – Вицин, Пуговкин, Леонов, Куравлев, Гайдай… – задумался Савелий и перевел разговор в другое русло, чувствуя, что расставание с замечательными коллегами начинает разъедать его душу.
Он пришел ко мне прощаться через неделю, а еще через неделю я узнал, что ОВИР отказал Савелию Викторовичу Крамарову в разрешении ехать в Израиль на воссоединение с родным дядей.
– Дядя, даже родной, не является вашим прямым родственником, – объяснили Савелию в ОВИРе, – родители, дети – другое дело, с ними воссоединение разрешается. Поэтому извините! Мы вынуждены отказать вам в выезде в Израиль!
Савелий непонимающе оглянулся вокруг, как бы ища поддержки у здравомыслящих и добрых людей:
– Но у меня нет других родных! Более близких, чем этот дядя! Нет во всем мире!
В ответ последовало молчание. Сурово и бессмысленно глядели на него серые овировские стены.
Пугал висящий на стене черепообразный портрет Феликса Эдмундовича Дзержинского, исполненный в черном цвете.
«Где-то поблизости должен быть портрет Сталина», – подумал Савелий и не ошибся. Проходя мимо актового зала, в который была приоткрыта дверь, он увидел на сцене, за столом президиума, на специальном постаменте бюст Ленина, и над ним, на стене, портрет Вождя и Учителя, правда, небольшого размера, ненамного больше семейной фотографии.
Чиновник, разговаривающий с Савелием, нервно теребил в руках его документы. Он понимал, что ситуация необычная, что израильский родственник Крамарова действительно самый близкий ему, к тому же пенсионер, а не работник МОССАДа, фигура не опасная. Другого еврея в таком положении выпустили бы в Израиль, но только не артиста Крамарова. По соответствующей линии из Госкино в ОВИР пришло грозовое указание: ни в коем случае не выпускать Крамарова из России, даже если найдется у него в Израиле прямой родственник, и даже не один. В любом случае протянуть волокиту с выездом максимально. Сколько именно месяцев или лет – не указывалось. Значит, никогда или до особого разрешения.
Чиновник резко протянул Савелию документы, и тот машинально взял их, при этом лицо его посерело, потускнели глаза, поникла фигура, и чиновнику стало жаль любимого артиста, и если бы не обстоятельства, разделяющие их, он набрался бы смелости попросить у Савелия автограф, а сейчас мог сказать лишь то, что разрешалось правилами, но тут впервые в жизни чиновник смягчился.
– Можете снова подать документы.
– Когда?! – встрепенулся Савелий.
– Ровно через год, – ответил чиновник.
– А разве через год что-либо изменится? Мой родной дядя станет вдруг прямым родственником? – выпучил глаза Савелий, обретая уверенность в себе.
Чиновник пожал плечами и улыбнулся:
– Существует такое правило. После отказа в выезде можно снова подавать документы только через год. Я сказал все, что мог.
– Понимаю, – буркнул Савелий, не оценив доброжелательства работника ОВИРа, и вышел из его кабинета.
Он сразу позвонил и рассказал об этом Маше, мне, Ахмеду Маликову, Волиным, Розовскому…
Все мы, как могли, утешали его. Я даже хотел пошутить, сказав, что теперь у него будет время лучше выучить мой фельетон, но хватило ума сдержаться. Слишком серьезная была ситуация. Рушились надежды человека, талантливого артиста, на продолжение творчества. И тут я жалею, что не предложил ему попытаться ворваться в американское искусство на английском языке. Хотя бы перевести на английский язык рассказ Шукшина «Ванька, ты как здесь?» или другой, другие, понятные американскому зрителю. Тогда Савелий мог бы рассчитывать на успех и у эмигрантского зрителя, и у коренного американского. Возникали широкие возможности: перевести хотя бы несколько шуток на испанский язык, наконец, на идиш или иврит. Но, увы, эта мысль пришла ко мне слишком поздно, когда Савелий увлекся, и одержимо, борьбой за выезд из России. Я понимал степень его разочарования. Погиб контракт с Шульманом, уходят самые лучшие для творчества артиста годы. Причина отказа Госкино была вполне понятна. На экранах тогда еще обширнейшего Советского Союза крутились тридцать четыре фильма с участием Савелия Крамарова, а отъезд его, который в те времена приравнивался к предательству родины, слава богу – в моральном аспекте, а не в правовом – приводил к запрещению показа его фильмов. Савелия вызвал к себе один из кинодеятелей.
– Вы обиделись на то, что вам не дали туристическую путевку в ФРГ? Меня не было тогда в Москве. Я пустил бы вас куда угодно. Я дал указание выдать вам путевку в любую страну, которую вы выберете, – тут чиновник сделал паузу и осклабился, – но, конечно, перед этим заберите свои документы из ОВИРа. Желаю успеха! – умильно улыбнулся кинодеятель.
Хочу сделать уточнение – Савелию отказали не в туристической путевке в ФРГ, а в поездке в составе актерской группы поддержки наших спортсменов на Олимпийские игры в Мюнхене. Желание видеть Савелия в Мюнхене единогласно выразили все спортсмены, а отказ в поездке выглядел как факт недоверия артисту, боязни, что он останется в Германии, будучи недовешен своим положением на родине, где погубили его отца.
Савелий посчитал этот отказ оскорбительным для себя и дискриминационным, что и было на самом деле.
Савелий потом объяснил мне подвох, крывшийся в предложении кинодеятеля.
– Понимаешь, одно дело, когда я еду на воссоединение с родственником, с семьей. На это существует законодательство. Меня можно пожурить, поругать. Но в Госкино уверены, что я останусь в ФРГ или Италии, куда поеду по путевке, и тогда меня, как перебежчика, как Нуреева или Годунова, можно будет беспощадно смешивать с грязью. Я никогда не позволю себе подставиться с выгодой для них. Я, конечно, отказался от путевки! – твердо произнес Савелий.
В моем сознании едва возник вопрос – какая для него в этом будет разница, если главное – продолжать карьеру киноартиста, – возник вопрос и тут же исчез: Савелий любил своих зрителей, друзей, всех людей, знавших его как порядочнейшего человека, он даже мысленно не мог допустить, чтобы они подумали о нем как о предателе родины. Возможно, работники Госкино не заходили в своих пакостных мыслях столь далеко. Наверное, для них более важной была финансовая сторона, проблема проката фильмов с участием Крамарова. Остается он на родине – и проблема отпадает сама собой. Ведь им уже пришлось немало повозиться с первыми пятью выпусками мультфильма «Ну, погоди!», после того как один из трех его авторов – писатель Феликс Камов (Кандель) – уехал с семьей в Израиль. Они были вынуждены из титров копии каждого мультфильма, отпечатанного массовым тиражом, вычищать его фамилию. Я встретил Феликса за несколько месяцев до отъезда на улице Герцена, когда он уже находился в отказе.
– Иду забирать последние деньги из Центральной сберкассы, – со вздохом произнес он. – Жду разрешения на выезд, но когда оно будет, точно не знаю.
– В любой момент я помогу тебе, – предложил я, бывший еще в то время отчасти автором эстрады и еще зарабатывающий прилично. Помимо того, я учился с Феликсом в одной школе, в параллельных классах. Считал его эталоном честности и очень талантливым автором. Он работал в киножурнале «Фитиль», редактором по художественным сюжетам. Я дважды приносил ему свои мини-сценарии, они ему нравились, но считались по тем временам острыми и не проходили инстанцию главного режиссера «Фитиля» Столбова. Я знал, что Феликсу очень благоволит основатель сатирического киножурнала Сергей Владимирович Михалков, и был удивлен, что даже при таком положении Феликс пытается покинуть страну.
– У меня зарубили книгу в «Советском писателе», – признался он, – несмотря на предисловие Михалкова! Понимаешь?!
– Чьи были рецензии? – поинтересовался я.
– Отказали Виктор Ардов и Георгий Мунблит.
– Те же рецензенты зарубили мою книгу, – сказал я, – к тому же Мунблит сначала дал положительную рецензию, а потом отказался от нее. Директор издательства Николай Васильевич Лесючевский специально держит их рецензентами для зарубки книг не угодных ему евреев.
– Вот видишь, – сказал Феликс, – здесь для меня нет никаких перспектив. И я еще должен думать о судьбе своих детей. А ты почему не едешь?
– Работаю, болеет мама… Постараюсь пробиться, – неуверенно вымолвил я.
– Ты просто еще не созрел для отъезда! – объяснил мое состояние Феликс Камов и поспешил в сберкассу, до закрытия которой оставались минуты.
Я, правда субъективно, но считаю, что оставшись в стране, Феликс достиг бы больших успехов, чем в маленьком Израиле. Это понял артист Михаил Козаков, вернувшийся из Израиля в Россию. «И там и здесь хватает хамства, бескультурья, но Россия громадная страна, здесь больше интеллигенции и есть для кого работать», – сказал он мне. То же самое я думал о Феликсе, когда отговаривал его от отъезда. Мы расстались лучшими друзьями, и по прошествии многих лет, когда мои враги пытались в его глазах опорочить меня, он остановил их: «Стронгин был единственным человеком, который в самое трудное время предложил мне материальную помощь. Единственным!»
Для Савелия Израиль был лишь возможностью вырваться из страны, всеми своими помыслами он был в Америке, в Мекке мирового киноискусства – Голливуде. А дядю в Хайфе, старого бедного пенсионера, он хотел отблагодарить за помощь в детстве. Это тоже было его заветной мечтой.
Есть в жизни момент, положение, судьба, которые ты изменить не можешь, хотя бы в данное время. И у Савелия хватило сил отрешиться от уныния. Сегодня он изменить свое положение не может, а завтра… Завтра надо ковать сегодня. И чтобы привлечь к своему бедственному положению внимание общественности, в первую очередь иностранной прессы, телевидения, частных лиц, – Савелий создает Театр отказников. Как такового, в нашем понимании, ни театра, ни спектаклей не было. Поочередно на квартирах участников театра показывались концерты, объединенные мыслью вырваться из страны тоталитарного режима, и рефреном представления звучала фраза: «Кто последний? Я за вами…» Предприятие, как говорится, было рискованным. КГБ сразу же узнал о нем. У подъезда, в квартире которого игрался концерт, постоянно дежурили чекисты, видимо путем подслушек узнавшие место и начало представления. На пленку фиксировались все люди, заходившие в подъезд. Но по сути дела, это были любительские концерты, билеты на них не продавались, антисоветские тексты не исполнялись. Артисты хотели продемонстрировать свое мастерство с единственной целью – чтобы о них узнал мир и помог им показать свое творчество на Западе. Закрыть их КГБ не решился, понимая, об этом сообщат «голоса», к чему артисты и стремились. Чекисты побаивались и своих сограждан, могущих валом повалить в места, где выступает их любимец Савелий Крамаров, неизвестно почему не снимающийся в новых фильмах и прекративший свои выступления на эстраде.
Я не видел ни одного представления Театра, но участников его знал хорошо, прежде выступая с ними во множестве концертов. Кроме киноартиста Савелия Крамарова, в них принимали участие: артист Театра имени Евгения Вахтангова Эрик Зорин, лауреат первой премии Всероссийского конкурса артистов эстрады конферансье Альберт Писаренков, третий лауреат конкурса – певица и разговорница Люда Кравчук.
Эрик Зорин – незаурядный характерный артист, склонный к перевоплощению на сцене, уже много лет числился в Театре Вахтангова в когорте молодых, у которых еще вся жизнь впереди, и по этой причине и, вероятно, другой, связанной со своей национальностью, не получал более-менее сносных ролей. Незаслуженное забвение иногда приводило Эрика к запоям. На телевидение его тоже не пускали. Эрик Зорин видел для себя просвет в творчестве только на Западе, где в конце концов очутившись, с успехом показывал эмигрантам свои «Театральные встречи», отрывки из спектаклей и эстрадные номера. Как говорится, успел вспрыгнуть на подножку последнего вагона уходящего поезда творческой жизни.
Конферансье Альберт Писаренков – невысокого роста, более похожий на русского, чем на еврея, умело вел концерты, блестяще исполнял буриме – специфический и очень редкий жанр на эстраде. По заданным из зала рифмам составлял стихи, подражая Пушкину, Есенину, Маяковскому, Евтушенко, Вознесенскому и даже Пастернаку Номер имел потрясающий успех у зрителей, и, вероятно, Альберт, находясь в эйфории от этого успеха, стал халатно относиться к конферансным обязанностям. В результате много раз показанный на телевидении номер приелся публике, ждущей от эстрадного артиста чего-то нового и злободневного, а удивить ее Альберт ничем не мог, так как остановился в росте, что непозволительно и губительно для любого артиста. Возможно, это, вкупе с недовольством тоталитарным режимом, заставило Альберта Писаренкова повернуть свои стопы на Запад. Уже находясь в отказе, он вел концерты народного артиста СССР Муслима Магомаева, депутата Верховного Совета страны. Муслим и его жена Тамара Синявская буквально умоляли Альберта не уезжать из страны, обещали восстановить его прежнее положение на эстраде, похлопотать о присвоении ему звания, получении более благоустроенной квартиры, но все их идущие от души советы Альберт оставил без внимания. В Америке как артист он не нашел себя, да трезво рассчитывать на иное было трудно. Влиться в американское искусство он не смог, по-моему, даже не пытался, его буриме вместе с ним приехавшие в Штаты эмигранты слушали, и по многу раз, на родине. Пришлось работать тамадой на эмигрантских свадьбах. Работа есть работа, но эта – малопрестижная для артиста, не доставляла Альберту радости.
Актрису Театра отказников Людмилу Кравчук я знал лучше других, так как она часто работала номером в моих сольных концертах. Для исполнения моего монолога «Мона Лиза» она даже пошила специальное платье. Но в сольных концертах я сам исполнял этот монолог, и поэтому Люда выступала у меня как чистая вокалистка. Высокая, стройная молодая женщина, с приятными добрыми чертами лица, с красивым баритональным тембром, она за пятнадцать минут, отведенных ей на сцене, наполняла зал гаммой глубоких и самых разнообразных чувств, исполняя песни Окуджавы, русские народные песни, и даже городской романс «Две гитары» звучал в ее устах не по-кабацки вульгарно, а задорно, и был наполнен русской удалой любовью, высокочувственной, то грустной, то веселой. Ее особенно хвалили присутствовавшие на концертах отказников западные журналисты. «Фольк! Фольк! Зеер гут! О'кей!» – хвалили они ее, предсказывая успех на Западе, где народные песни любых народов принимаются хорошо. Даже предложение играть сольные концерты, что резко повышало престиж и материальный успех, не остановило ее желания ехать на Запад. Она была замужем за евреем – врачом из Вильнюса, но, как потом оказалось, этот брак был фиктивным и для Люды, украинки по национальности, он был своеобразным «пропуском» на Запад. Они доехали до Рима, где благополучно развелись. И была в этой истории детективная тайна. О ней говорили в эстрадных кругах, но насколько она была достоверна – не знаю. Впрочем, не бывает дыма без огня. У Люды был серьезный роман с гитаристом Москонцерта, цыганским бароном. Узнав об их встречах, жена барона приказала зятьям заколоть мужа, что они и сделали, а Люде угрожала смертью, если она не сделает аборт от барона и вообще не сгинет с ее глаз. Гнал ли Люду на Запад постоянный страх за свою жизнь и жизнь дочери от первого мужа или, как она говорила мне, ей надоело мотаться по Москве с гитарой за одиннадцать рублей в вечер, стоять в очередях за сосисками и не иметь возможности купить дочери даже бананы, – сейчас выяснять незачем. После долгих мытарств она прекрасно устроила свою личную жизнь, живет в Мюнхене. В первые дни после ее приезда в Мюнхен она пела в доме старейшего белого генерала – участника Гражданской войны, растрогала его до слез, и на следующий день дверь ее квартиры не закрывалась, заносили генеральские подарки: телевизор, холодильник, мебель… Но вскоре пришло грустное письмо маме:
«Дорогая мамочка! Жизнь моя сложилась чудесно, но петь на сцене я больше не буду. Только для гостей. Я не умею двигаться на сцене, а без этого артисту, тем более певице, здесь делать нечего.
Передай сердечный привет всем, кто помнит меня. Если встретишь Варлена Стронгина, кланяйся ему.
Добрейший человек и отличный артист, работающий два часа на одном дыхании! Наши концерты остались в моей памяти, как земное чудо! Интеллигентный зритель, отличные залы, теплейший прием. Лучших друзей и зрителей, чем в Союзе, я никогда уже не встречу.
Твоя Люда».
Театр отказников оправдал свое назначение – всех отказников выпустили за границу. КГБ надоело возиться с группой настырных и целеустремленных артистов, но для этого им пришлось поволноваться и потрудиться немало. Вероятно, не последнюю роль в решении КГБ сыграло письмо Крамарова президенту Америки Рональду Рейгану: «Как артиста артисту». Мысль об этом пришла Александру Левенбуку. Я лишь рассказал Савелию о встрече Рейгана с творческой общественностью столицы, происходившей в Дубовом (ресторанном) зале Центрального дома литераторов. В левом углу зала (у камина) за столиком сидели Рейган и первый секретарь Союза писателей Владимир Карпов, оба с супругами. За другими столиками расположились писатели, художники, артисты, музыканты… Рейган, помимо общих вопросов отношений двух великих держав, сказал, что немалую роль в его победе на выборах в Штатах сыграло кино и именно те образы, что он играл в фильмах, – людей добрых, справедливых и мужественных. «У нас в Штатах почитают людей, которых знают, которым доверяют, – улыбнулся Рейган, глядя в зал, – и надеюсь, сидящие передо мною писатели и артисты, хорошо и с хорошей стороны известные народу, имеют неплохие шансы на выборах любого уровня».
Вряд ли мой рассказ повлиял на содержание письма Савелия американскому президенту Уверен, что нет. Я сам его не читал, но знаю, что оно выглядело приблизительно так:
«Уважаемый господин президент Рональд Рейган! Обращается к вам популярный в Советском Союзе киноартист Савелий Крамаров. Я не переоцениваю свою известность. Стоит вам, гуляя с супругой по Москве, спросить у любого москвича, у любой старушки, даже если вам ее подставят и она окажется агентом КГБ, знает ли она Савелия Крамарова, то она обязательно откроет рот (даже будучи чекисткой) и скажет: «А как же?! Смешной артист! Много раз смотрела фильмы с его участием. Кого он только не играл! Президентов, секретарей ЦК партии, работников обкомов и вообще коммунистов. Ему такие роли не доверяли, учитывая его хулиганское и порою даже воровское кинопрошлое».
Уважаемый господин президент! Старушка, кем бы она ни была, даже министром культуры, скажет вам правду, но не всю. Действительно, зрители до сих пор смеются над героями моих фильмов, но лично мне самому сейчас не до смеха. Я не умираю с голоду, но не одним хлебом жив человек. И хотя хлеб у нас с вами разный и питаемся мы по-разному, но мы оба любим творчество и не можем жить без него. Поэтому помогите мне обрести в вашей великой стране возможность работать по специальности. Моя нынешняя великая страна, видимо, помочь мне в этом вопросе не может. Что же касается моего так называемого воровского прошлого, то это относится к героям, которых я играл в советских фильмах. А в действительности я верующий в Бога и вполне законопослушный гражданин, в чем пытаюсь убедить Америку и лично вас, если вы не откажете мне в моей просьбе. У вас масса очень важных государственных забот, но я не сомневаюсь, что в вашей груди по-прежнему бьется сердце актера, всегда готовое помочь другому актеру, оказавшемуся в беде.
С искренним уважением к вам и супруге артист Савелий Крамаров,ждущий от вас ответа: быть или не быть ему актером в Соединенных Штатах Америки, в любом из них, но желательно в Калифорнии, в Лос-Анджелесе, по вполне понятной вам причине».
Савелий несколько раз направлялся к посольству Америки и прогуливался вдоль него с почтовым конвертом в руке. Однажды его остановил работник посольства и спросил, не может ли он чем-либо помочь ему. Савелий передал ему свое письмо. Говорят, что его трижды читали по «Голосу Америки», и не исключено, что Рональд Рейган обратил на него внимание и по своим дипломатическим каналам ускорил получение визы на въезд в Америку Савелию Викторовичу Крамарову. Ну а теперь от домыслов и шутливого тона вернемся к суровой действительности. Столько сил, нервов, а порою и страха испытал Савелий за три года борьбы отказника на право выезда из страны, что не был физически и нервно готов к серьезной, продуманной подготовке для выступлений в новой для себя зрительской среде. Три года нервотрепки, сомнений, растерянности…