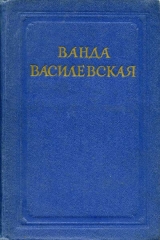
Текст книги "Реки горят"
Автор книги: Ванда Василевская
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 33 страниц)
Валас смеется! Ох, до чего же туп этот Хожиняк! В том-то все и дело, что Сикорский все это принимал всерьез, а генерал Андерс просто надул большевиков. Армию организовал? Организовал! Монету от большевиков получил? Получил! Ну и до свиданья! Хватит. Нет, генерал Андерс хитро обделал это дельце…
Кого же надул генерал Андерс? «Азиатов», – говорит Валас… Но он, Хожиняк, поляк, а его тоже надули, ох, как надули! Ведь он-то хотел драться, драться за родину… А теперь оказалось, что все это было комедией, липой, и вот приходится умирать в этой голой пустыне, неведомо за что и почему… Нет, не только «азиатов», тысячи собственных солдат надул генерал Андерс… Так уж оно, видно, должно быть, так уж оно, видно, и есть всегда, что говорится одно – делается другое… Только почему должен за это умирать Хожиняк? И другие? Мало ли их уже засыпали этим сухим, хрустящим хабанийским гравием. И сколько еще засыплют?
«Гениальные планы» Пилсудского, Рыдза, Андерса… Почему там много этих гениальных планов и почему они всегда кончались катастрофой? «Гениальный замысел марша на Киев»… Что из него вышло, кроме крови, горя, несчастья, не говоря уж о том, что поляки чуть не потеряли собственную столицу? А позже «гениальная внешняя политика» – ведь именно так о ней писали в газетах, говорили в речах, и Хожиняк верил в эту гениальную политику, завещанную Пилсудским… И что вышло из этой «гениальной» политики, из этого «гениального» плана – опираться на Германию против большевиков? Развалины и пепелища, Польша, обращенная в груду золы, руины городов, сожженные деревни, миллионы убитых, сотни тысяч поляков, рассеянных по всему миру…
И в сорок втором году тоже ведь был у Андерса свой «гениальный план» – о нем шептали друг другу на ухо под страшным секретом, но знали о нем многие. План – не идти в Иран, а вместо этого ударить самим на Кавказ, захватить Баку – нефть, к которой рвались немцы, и встретить англичан с таким козырем в руках… Только что же – немцы, если им действительно удастся побить большевиков, так и остановятся при виде польских дивизий, держащих это самое Баку, пусть даже вместе с англичанами? Об этом как-то не говорилось. Только бы захватить – и тогда встреча с английскими союзниками будет выглядеть иначе. Тогда можно будет поставить условия, требования – много получить взамен за эту нефть.
Этот «гениальный план» не был почему-то выполнен. Кто-то помешал. Может, они слишком рано ушли в Иран. А может, большевики все разузнали, – неизвестно. Но еще здесь, в лагере под Хабанией, Хожиняку случалось слышать тихие вздохи о том, что этот план не был выполнен, – «а жаль, очень жаль, гениальный был план…»
Почему он только теперь видит все так ясно, всю свою пропащую, обманутую, погибшую жизнь – теперь, когда уже поздно? Его послали в двадцатом году драться не за то, за что он думал. Его толкнули в тридцать девятом и сороковом на преступление и на горе, – мало ли он настрадался в то время, скиталец, преследуемый беглец, узник? И, наконец, отправили его сюда, умирать в этой ужасающей голой пустыне… зачем? За что? «Ведь кто же я такой? Крестьянский сын, простой крестьянин, из которого господа сделали себе слугу и игрушку…»
Грохотало в голове, грохотало в груди, гремело пространство, словно на хабанийский аэродром шли целые соединения «летающих крепостей». И среди этого гула, сквозь который он провалился куда-то вниз, Хожиняк подумал, что прав был тот высокий, которого расстреляли. Отсюда не было пути в Польшу. Отсюда был лишь один путь – к бесславной гибели, к смерти.
«Но теперь поздно», – сказал себе Хожиняк, слушая, как гул самолетов, шакалий вой пустыни и сумасшедшие удары сердца сливаются в один хор, как чужая, враждебная земля тысячами голосов поет близкие, родные слова:
Несчастлива, несчастлива та година,
Когда меня мать породила…
Несчастливы, несчастливы все дорожки,
Где ходили, где бродили мои ножки…
Он силился приподняться, но все тело словно свинцом налилось. Расплавленный свинец пульсировал в жилах, расплавленный свинец гнал обезумевшее сердце, расплавленный свинец клокотал в горле. Дорога была одна – в раскаленную добела, жестокую, пустынную смерть. Путь заканчивался. И осадник Хожиняк соскользнул с него вглубь замыкающего мир стеклянного купола как раз в тот момент, когда из-за горизонта вдруг сверкнуло огромное, яростное, беспощадное солнце и безжалостным светом залило белые, как кости, камни, консервные банки, валяющиеся вокруг людей, спящих тяжелым, лихорадочным сном у грязных палаток, и человеческие кости тут же за лагерем, вытащенные из каменных могил шакалами, и всю горестную долю лагеря у озера Хабаниа – огороженного колючей проволокой лагеря в жгучей каменной пустыне.
Глава XIIПо небу переваливаются тяжелые тучи, их гонит высокий ветер, незаметный на земле. В просветах туч, словно в глубоком колодце, вдруг покажется затуманенный, сонный месяц и белым мертвенным блеском осветит пологие холмы и черные группы берез, ольхи, обнаженные деревья с облетевшей листвой. Где-то внизу лунный свет зажигается на узкой речушке, и она одно мгновение блестит, как осколок разбитого зеркала.
Эх, речка, узкая, извилистая речка Мерея! Кому суждено тебя перейти?
Длинна октябрьская ночь. Не спится в эту ночь. Не даешь ты спать, не даешь уснуть, речка Мерея, вьющаяся по топким долинкам…
Мокрая глина окопов. Марцысь плотнее кутается в шинель. Воздух насыщен сыростью. Но в сущности трудно понять, холод ли пронизывает до костей, или это внутренняя дрожь. «Лихорадка? – дивится сам себе Марцысь. – Я ведь совсем здоров!» И все же зубы стучат от озноба, а на лбу выступает пот. Не от тебя ли веет холодом и жаром, речка Мерея? Не от тебя ли идут горячие волны и мелкая дрожь, пробегающие по телу?
Вдали взлетают трассирующие пули прямо в небо и потом падают полукругом вниз, как узенькая струйка фонтана или маленькая комета, оставляющая за собой пунктирный след.
Снова показывается месяц из-за туч. По ту сторону долины, за речкой Мереей, – крутые склоны холмов. Там прикорнули деревни, тихие, примолкшие. Лишь мимолетно, когда ветер разгоняет тучи, виднеются высокие силуэты деревьев. «Тополя, – думает Марцысь. – Да, это тополя». Мелькает воспоминание: такие тополя, как там, в совхозе. Только здесь нет аллеи, а лишь отдельные деревья, чернеющие, будто погасшие факелы. Куда же он шел по зеленой тополевой аллее в необозримой казахстанской степи? Сюда, к речке Мерее, – к новой грани, к воротам в новую жизнь.
Где-то справа за рекой – выстрел. Но, видимо, еще случайный. Трудно поверить, что это фронт, что в тех вон деревнях, по холмам, за речкой проходят фашистские позиции.
Границей пролегла речка Мерея. Где же Варшава, где Груец? Далеко на запад. Не одну еще речку, не одну долину, не одну гряду холмов придется перейти… И все же это уже не то, что было вчера. Великий путь на родину начался. Начался и его, Марцыся, путь. По сравнению с этим все остальное потеряло значение, стало не важным и мелким. Как смешно, что недавно, сидя на тракторе, распахивая поле в Казахстане, он воображал себя капитаном корабля и гордился так, что чувствовал мощные шумящие крылья за спиной! Нет, подлинная жизнь начинается только сегодня.
Она началась даже не там, над Окой, где он впервые увидел бело-красное знамя и сменил на военную форму свой вылинявший совхозный комбинезон. А ведь и тогда казалось, что вот уже начинается настоящая жизнь!.. Даже когда он получил винтовку и думал, что такого счастья, такого восторга ему уж больше не пережить, – и это было еще не то.
Самое важное в жизни началось только сегодня. Только сейчас. Когда он знает, что утром будет то, о чем говорил вчерашний приказ: «Вперед, в бой, солдаты Первой дивизии!..»
И слова, запомнившиеся, как присяга: «За вами пойдут на фронт другие польские дивизии. Но никто не отнимет у вас того, что вы – Первая дивизия. Будьте же ею не только по названию…»
А в ней, в этой дивизии, кто будет первым? Быть может, как раз он, Марцысь Роек из Груйца, тракторист-стахановец из совхоза в Казахстане… Ах, именно здесь можно, как раз здесь нужно быть первым… Теперь это уже не сон и не мечта, не детские фантазии, теперь это явь – октябрьская холодная ночь, и лунный отблеск на извилистых водах речушки Мереи, и немцы там, на пригорках. Их не видно. Они притаились по селам, укрылись в окопах. Но известно, что они здесь. Завтра – лишь завтра или собственно уже сегодня? – он столкнется с ними лицом к лицу.
Марцысь не так представлял себе фронт. Трудно поверить, что через несколько часов здесь будет бой, и грохот орудий, и крики несущихся в атаку. Тиха ночь. Изредка где-то далеко раздастся выстрел, как бы не настоящий, как бы данный по ошибке… На пригорках подозрительно сверкает. Таится в ночи неизвестное. Тщетно стараются глаза уловить сквозь полумрак какое-то определенное очертание там, на противоположной стороне. Может, именно сейчас там, в окопе, так же не спит враг и так же всматривается в темноту, обманчивую, клубящуюся, как тучи на небе, освещаемую призрачным светом то появляющегося, то исчезающего месяца?.. Может, смотрит прямо на Марцыся?
Немцы знают, кто стоит против них. Недаром они вчера бросили листовки, совершенно дурацкие, нелепые листовки, воображая, что могут кого-то переманить или напугать. Но откуда они так быстро узнали, что против них стоят поляки? Как это дошло до них в тот же день, когда дивизия прибыла на этот участок фронта?
Марцысь беспокойно оглянулся. Возможно ли, чтобы здесь, среди людей, которые плакали, как дети, получая оружие, и целовали орлов на своих шапках, – возможно ли, чтобы среди них был кто-то, кто дает вести врагам, кто высокими словами прикрывает подлую измену? Быть может, он сейчас крадется туда…
Но в окопах тихо. Люди молчат, дремлют или, так же как он, закутавшись в шинели, стоят, прильнув к холодной глине окопа, всматриваясь в предательскую тьму того берега.
Впрочем, пусть враг знает, кто перед ним. О, пусть знает! Завтра он узнает еще лучше. Он снова увидит орлов на шапках и бело-красное знамя и услышит польские слова… Но на этот раз все будет иначе, чем тогда, в тридцать девятом!
Марцысь ласково гладит ствол винтовки, вспоминая старую песню: «Мои возлюбленные – винтовка и сабли отточенной лезвие».
Ну, сабля – это уж романтическая старина. Но винтовка – другое дело… Эх, и покажет он им! За ту польскую дорогу, по которой он уходил с сердцем, пылающим от ненависти и стыда, за ту дорогу, наводненную бегущими женщинами и детьми, забитую безнадежно бредущими солдатами разбитых частей, солдатами без сапог, без оружия, без офицеров… Тогда он бежал от гитлеровцев. Теперь он, Марцысь Роек из Груйца, заставит их бежать…
Сравняться с теми, которые стоят с правого и левого флангов, с солдатами, сражавшимися под Москвой, с героями Сталинграда, с солдатами Красной Армии! Доказать, что поляки умеют не только дезертировать в Иран, что есть еще польская отвага! Пусть и друзья и враги увидят, как поляки ходят в атаку! Так неужели вот эта речка, эта извилистая, болотистая речушка будет им преградой? На крыльях перелетят они ее, возьмут ее одним прыжком!
За речкой вражеские окопы. Боевое задание – форсировать речку, захватить окопы, прорвать линию обороны, овладеть деревней.
Только бы скорей, только бы не дожидаться больше… Там, за речкой Мереей, – Варшава. Ничего, что до нее еще сотни километров. Самое главное – взять этот рубеж, отделяющий вчерашний день от завтрашнего, от того дня, когда начнется новая, настоящая, стремительная жизнь. За этим рубежом – прямая дорога до самого дома. Теперь уж ничто не остановит поляков, ничто не заставит их свернуть с пути.
Может быть, сам он погибнет… Но нет, не может быть! Если погибнешь, все для тебя кончится. А ведь этот бой – лишь начало…
– Светает вроде, – слышится рядом чей-то сонный голос.
И правда, ночь, видно, кончилась, хотя стало еще темнее. Подул холодный, влажный ветерок. Луна исчезла, и из ночных теней медленно стала вырисовываться долина. Мрачная, серая. Чернел реденький березнячок и более густые, приземистые заросли ольхи. Уже виднелись крыши домов на той стороне. Густой белый туман, растрепанный, как грязная вата, стлался внизу, где извивалась речка Мерея. Казалось, будто клубы туч, что ночью бродили по небу, теперь осели, прилегли на глинистые склоны, на серое топкое дно долинки.
Где-то далеко в стороне раздался стонущий гул.
– Артиллерия, – снова шепнул кто-то.
Но почему здесь так тихо, почему здесь ничего не происходит? Пальцы закоченели на холодном стволе винтовки. Закоченели ноги в сапогах. Серое, мокрое осеннее утро пронизывает холодом. Долго ли еще стоять?
И вдруг, будто над самым ухом, неожиданно четко и ясно раздалась русская команда:
– За свободную, независимую Польшу – огонь!
И тотчас, словно эхо, – по-польски:
– Za wolną, niepodlegĩą Polskę – ognia!
С головы до ног обдает горячая волна крови. Бьют орудия, советские и польские. Бьют по склонам холмов, по противоположному берегу речки Мереи. Усиливается грохот. Кто это командует по-русски: «За свободную, независимую Польшу!»? Снова с головы до ног обдает горячая волна. Это – правда, это, наконец, – братство оружия, совместный бой!
Но почему их заставляют еще торчать в окопе, бездеятельно стоять на месте, когда уже началось?
Дрожит, стонет, гудит земля. Гремит ураганный огонь по фашистским позициям. Вдруг над головами вой и свист, грохот и шум, и сотни светящихся мин пролетают над окопами.
– Катюши, катюши! – радостно кричит кто-то, но голос едва слышен, хотя Марцысь видит широко раскрытый рот и блеск удивительно белых зубов.
Бьют, бьют орудия. Теперь уже не видно ни холмов, ни деревенских крыш, ни стройных тополей. Одна сплошная стена дыма и пыли с вкрапленными в нее языками огня. Внезапно с шипением, с треском взлетает в воздух ракета.
И вдруг:
– Вперед! В атаку!
Марцысь уже не понимает, подал ли поручик команду, или это ему померещилось в черном грохочущем смерче? Но все вылезают, выскакивают из окопов. Сапоги скользят по обмякшей, мокрой от утреннего тумана глине.
Вперед, вперед, к этой высокой черной стене, сверкающей языками пламени!
Ноги путаются в высоко срезанной стерне, задевают комья глины.
– Вперед, вперед!
Дальше, вниз, к речке Мерее… Стерня кончилась. Ноги вязнут в раскопанном грязном поле, где раньше росла картошка. Глина налипает на сапоги. Откуда-то стреляют, по-видимому по ним, – рядом с Марцысем кто-то упал. Вот и другой. Но он знает лишь одно: вперед, вперед! К речке Мерее, к этой черной стене дыма – скорей, скорей!
Под ногами хлюпнуло – это уже заболоченный берег. С кваканьем рвется мина. Снаряды роют в топкой почве глубокие воронки; кажется, что взрывается внутренность земли, выбрасывая высокие черные фонтаны.
Что это? Вода?
Как обманчива Мерея: издали казалась узеньким ручейком, но теперь видно – ее не перескочишь. Так в воду! Только бы поскорей!
Вода по колена, вода по пояс – холодная или теплая, Марцысь не чувствует. Только бы не замочить винтовку, не растерять патроны. Вперед! Вперед!
Вот и противоположный берег, вот перед глазами высокая черная стена, стена дыма с кровавыми языками пламени. Так это и есть огневой вал?.. Скорей, скорей за этой ревущей стихией, за брызгами земли, за стеной черного дыма, вперед! Прижиматься к артиллерийскому огню, – так говорили на учениях.
Боже, боже, на учениях все было совсем иначе… Люди падают…
Что это с ним? Почему он спрыгнул куда-то вниз, в разверзшуюся под ногами яму? Нет, это не яма, это вражеские окопы. Куда теперь, что теперь?
– Поручик убит! – кричит кто-то. Смятение. Но из дыма вдруг появляется советский офицер.
– Товарищи поляки! За свободную, независимую Польшу! Вперед!
Скорей, за ним!
Артиллерия перенесла огонь дальше. Перебежать еще двести метров. Нет, не кланяться, не падать, не прижиматься к земле… Прямо, прямо, бегом! Ноги путаются в низких спиралях проволоки. Но вот и зеленоватые мундиры – это бегут фашисты. Они убегают!.. Так скорей же, вперед, за советским офицером, который бежит с пистолетом в руке…
…И это все? Ошеломленный, словно внезапно разбуженный, Марцысь останавливается на деревенской улице. Противника нет. Где он? Куда девался?
– Чудак! Мы взяли деревню, – кричит ему кто-то прямо в лицо.
Марцысь отирает рукавом мокрый лоб. Шатается, как пьяный. Как? И это все? Так захватывают деревни?
Ствол винтовки еще горячий. У Марцыся не осталось ни одного патрона. Значит, он стрелял. В кого и как? Он не помнит. Неужели бой окончен? Но ведь все вокруг еще гудит и грохочет, взлетают черные фонтаны земли, а на краю деревни ясным пламенем горит изба. В ноздрях запах гари. Что же теперь? Где остальные товарищи? Кругом незнакомые лица – видно, батальоны смешались.
– Беги в штаб, доложи, что деревня занята, что наш левый фланг открыт и не хватает боеприпасов! – кричит ему незнакомый капитан. В штаб? Где он? Но спрашивать некого – капитан уже ушел, а приказ есть приказ.
Это еще что? Немецкий налет. Низко над головой рокочут самолеты. Грохнула бомба, засыпав Марцыся песком… Скорей в штаб! Кто-нибудь его укажет.
Вот штаб, но нет, это танкисты. У радиоаппарата безумствует Антек Хобот.
– Где танки? Где танки? – волнуется командир танкового полка.
– Искра, Искра, я Варшава, отзовись, Искра! – кричит охрипший Хобот. – Пять машин, где пять машин?
Всего за несколько минут до этого они сообщили, что пройдены немецкие окопы. Всего минуту тому назад они донесли: «Деревня занята, идем вперед!»
И Хобот радостно докладывал:
– Гражданин капитан, деревня занята, они пошли дальше.
А потом тишина. Долгая тишина.
– Искра, Искра, – кричит Хобот. – Не отзываются, гражданин капитан, – докладывает он взволнованно.
– Вызывай, пока не отзовутся!
– Искра, Искра, я Варшава, где вы, Искра, Искра?
Гремит и воет поле боя. «Они прошли окопы. Прошли деревню…» Хобот сжимает пальцы: «Ах, танки, чудо-машины. Какой был праздник, когда они прибыли туда, на Оку! Как они шли, с ходу преодолевая пригорки, валя березы. И вот теперь пошли прямо на врага… Прошли, как таран, сквозь деревню, давя и рассеивая фашистов… Где же они? Почему молчат?»
– Искра, Искра! Отвечай, Искра! Искра, я Варшава!
Зовет, зовет Варшава… Нет, это не Антек Хобот в землянке штаба. Далекая Варшава зовет танки, которые ринулись на неприятельские позиции, прошли неприятельские окопы, прорвали линию обороны, ворвались в неприятельские тылы и ринулись, как буря, громя врага. Зовет, зовет Варшава экипажи танков, катящихся лавиной. Вперед, вперед! Мощные крылья у ненависти, мощные крылья у любви. Вперед, на запад, в неудержимом порыве, в упоении борьбой! Зовет, зовет далекая Варшава, изнывающая под фашистским ярмом, Варшава в крови и слезах, – слышите, танкисты?..
– Не отвечают, гражданин капитан! – докладывает Антон Хобот.
– Зови еще! – слышит он приказ. И охрипшим, усталым голосом, уже полным отчаяния, Антон Хобот упрямо, монотонно зовет:
– Искра, Искра, отвечай, я Варшава, я Варшава! Искра, где ты?
Молчат танки. Их поглотил боевой день. Они больше не отзовутся.
Быть может, в эти октябрьские туманы, в темные октябрьские ночи на запад идут танки-призраки с мертвыми экипажами, устремившими глаза в смотровые щели? Быть может, они движутся, туманные и таинственные, сквозь белорусские леса, сквозь деревни и болота, на запад, на запад, куда их зовет Варшава, город в слезах и крови? Быть может, на рассвете, в утренних сумерках, они возникают из мглы перед испуганными глазами врага, далеко за линией фронта? Быть может, в ужасе кинется бежать фашист, встретив лицом к лицу за сотни километров от фронта странный призрак – пять танков с мертвыми экипажами, идущих на зов Варшавы по захваченной врагом земле?..
– Искра, Искра, Искра! – хрипло зовет Антек Хобот. Он ничего не слышит. Вдруг закачалась землянка – небо черно от вражеских самолетов, они идут на польские позиции по тридцать, сорок машин, волна за волной, чтобы забросать их, уничтожить лавиной огня. Дыбом становится земля, вскапываемая разрывами бомб. Рыжие фонтаны глины, желтые фонтаны песка взметаются в воздух. Пронзительный воющий свист и вой отдельных бомб сливаются в протяжный рев. Бьют пулеметы с машин, летящих на бреющем полете.
Бомба, еще бомба. Вздымается столб пламени – это загорелся автомобиль.
– Документы, штабные документы! – страшным голосом кричит кто-то. И в пылающую машину бросается автоматчица. Раскаленное железо обжигает ее руки. Над ее головой бушует пламя. Ничего, только бы бумаги, бумаги… Вот они!.. Почему же так черно перед глазами? Это дым, он душит горло… Ничего, только бы выбросить наружу документы! Что еще осталось? Пальцы ее немеют.
Еще одна – прямо в машину. В штабной машине горит девушка-автоматчица. Пылает огнем крестьянская дочь, огненный факел на пути в Польшу.
Немцы контратакуют.
– Вперед, мстители Варшавы! – кричит майор.
До Варшавы еще сотни километров. Но до родного дома майора – рукой подать, всего семь километров. За семь километров отсюда родной дом в белорусской деревушке. «Недолго вам ждать, родные мои, мы идем вперед, идем вперед. Еще прежде чем придется освобождать Варшаву, я освобожу родную деревню, обниму светлые головки детей… Ох, знакомые, до чего ж знакомые места – речка Мерея, холмы над рекой, стерня колхозных полей… Березовые рощи, весной мерцающие майской зеленью, сыплющие золотом в осеннюю пору, обнаженные и гнущиеся от ветра в мокрый октябрьский день. Дороги, дорожки, сотни раз измеренные ногами. Отсюда уже рукой подать, еще немного – и вот она, родная деревня».
И вдруг – удар прямо в сердце. У самого порога родного дома падает майор. Поляк, выросший на белорусской земле, падает на белорусскую, родную землю.
Кого еще несут на носилках? Марцысь узнает: это поручик, его поручик. Тот самый, что был раньше у Андерса. Бывший польский жандарм. Но он не бежал в Иран, а остался здесь, сражался под деревней Ленино, в первом бою Первой дивизии. С носилок каплет кровь. Поручик спрашивает лишь одно:
– Где знамя, где командующий?
– Все в порядке. Командующий жив, знамя цело.
И поручик снова падает на носилки. Лицо его проясняется. Он отчетливо говорит:
– Значит, могу умереть спокойно…
Дальше, дальше! Не задерживаться ни возле поручика, ни у обугленной машины, где сгорела крестьянка в военной форме. Скорей в штаб, доложить: «Левый фланг открыт, не хватает боеприпасов». Надо быстрей перебегать от воронки к воронке, ползти по изрытой земле, перескакивать через трупы. «Ложись!» – кричит кто-то. Некогда ложиться, когда левый фланг открыт и нет патронов… Он бежит все быстрей, прыжками. В ушах свистит ветер. Нет, это не ветер, это воет бомба – и вот еще новая воронка, совсем близко перед ним. В лицо бьет волна горячего воздуха.
Что это? Конец света? Пламя, крики, гул авиационных моторов… Но скорей, скорей вперед – ведь теперь он уже знает, где штаб. Пусть помогут, пусть поскорей помогут…
И вдруг оказывается, что все это не нужно: к левому флангу поляков уже подошли советские части.
Марцысь сидит в землянке и тупыми от усталости глазами смотрит на пустые нары. Что же он в сущности сделал? Ничего. Бежал как сумасшедший, это правда. Но, во-первых, это было легче, чем отбивать врага, во-вторых, это было ненужно. Никто не напишет в донесении: «Марцель Роек, своевременно передав донесение, спас…» Ничего и никого он не спас! Казался себе героем, а между тем просто бегал по полю боя и радовался, что бежит так быстро, когда левый фланг уже твердо и уверенно поддержало братское плечо красноармейцев.
– А ты слышал, когда мы шли в атаку, как советские кричали: «Молодцы поляки»?
Действительно, он, как сквозь сон, припоминает, что, кажется, так и было. Но что с того? Ведь шли все, и оказалось, это не так трудно, как он ожидал, потому что бежишь, ничего не видя, не понимая, как в безумии. А тут, когда он, именно он, Марцысь Роек, получил задание, – вышло, что все ни к чему!
Можно было задержаться возле поручика и признаться, что сперва ему не доверял, и не столько из-за Андерса – ведь от Андерса тот сбежал, – сколько из-за прошлой службы в жандармерии… А теперь оказалось… Впрочем, очень интересно поручику знать, что о нем думает Марцель Роек!..
В сущности этот первый день боев пропал для Марцыся совершенно зря… А утром он мечтал…
Он тяжело поднялся.
– Куда ты? – спросил его капитан.
– Надо возвращаться в часть.
– Сиди, раз тебя не посылают. Еле на ногах держишься. Сколько лет?
Марцысь нахмурился.
– Лет?
– Вот именно, лет.
– Лет мне… семнадцатый.
– Шестнадцать, значит?
– Семнадцатый.
– Ну ладно, пусть будет семнадцатый. Отдохни немного.
– Да мне надо…
– Ты что? Дискуссию открывать собираешься? Сиди, слышал? У нас телефониста осколком убило. Захотелось ему, идиоту, вылезть посмотреть на «мессершмитты», вместо того чтобы смотреть за своим аппаратом… Подежуришь у телефона. Ясно?
– Есть дежурить у телефона, гражданин капитан.
– Ну вот! Там лежит кусок колбасы. Бери и ешь. И чтоб ты мне присох у телефона, слышишь? Я на минуту к соседям. Пленных видел?
– Видел.
– Ну, то-то. Хлеб тоже есть. Черствый, да авось сгрызешь.
Марцысь принялся за колбасу. Оказалось, что он очень голоден. Голова кружилась, совершенно как в лагере дивизии, когда ему предложили водки и он глотнул, чтобы показать, что уже не маленький, а это оказался спирт.
Ладно, он посидит у телефона, раз так нужно… Может, хоть в этом окажется какой-нибудь смысл. Видно, не так-то легко стать героем. Впрочем, не все еще потеряно, ведь это только начало…
Снаружи утихло – советские зенитки отогнали фашистские самолеты.
Он проснулся, когда в землянку вошел капитан. Испуганно вскочил.
– Ничего, брат, ничего. Наверно, всю ночь не спал? Немного отдохнул? Теперь можешь идти искать своих. Все перемешалось, такая каша, надо навести порядок. Немцы маленько поутихли, только, верно, ненадолго…
Уже смеркалось. Было тихо, но запах гари все еще стоял в воздухе. Справа невдалеке догорал пожар.
Своих Марцысь нашел лишь через несколько часов.
– Ты где шатался? – спросил его Малевский. – Мы уж думали, что тебе капут.
– Ходил с донесением.
– А мы тут насилу собрались. Беспорядок черт его знает какой! Приказано почистить и проверить оружие, а эти… – он грубо выругался, – солдаты называются – загадили все, будто год воевали…
Марцысь проворчал что-то и взялся за чистку своей винтовки, которая действительно оказалась очень грязной. Даже в ствол набился песок. «Еще бы, когда целые фонтаны земли поднимались!» – подумал он. И еще подумал, что Малевскому, хотя тот и получил за что-то сержантские нашивки, совершенно нечего тут мудрить над солдатами. В конце концов кто он такой? Какой-то темный тип… Чего он только в Казахстане не выделывал, не говорил!.. Черт его знает, откуда и зачем он тут взялся? Хотя… Марцысь вспомнил убитого поручика. Но нет, поручик другое дело – тот не бродяга, не лодырь, тот в андерсовскую армию сразу пошел, а когда те уходили в Иран, от них сбежал… А этот к Андерсу идти не хотел, хотя на словах был такой завзятый андерсовец и Союз польских патриотов ругал на все корки, про новую польскую дивизию сплетни распускал. А теперь ни с того ни с сего – сержант! Да еще таким воякой притворяется… А в общем черт с ним!
Оружие вычистили, взвод собрался. Было уже известно, кто погиб. И Малевский снова разглагольствовал:
– Вы смотрите – как будто специально в коммунистов целились.
– А может, это потому, что коммунисты шли в первых рядах? – возразил ему пожилой коренастый солдат.
– Может быть… – неохотно согласился Малевский и оборвал разговор. Не хватало еще, чтобы кто-нибудь сообразил, чего ему стоит признание, что те действительно шли в первых рядах…
Худшие предположения Малевского оправдывались. К авторитету коммунистов, завоеванному знаниями и организованностью, прибавится теперь еще авторитет героизма. Слава погибших озарит и оставшихся в живых. Он-то понимал, что теперь уж не помогут никакие сплетни и слухи о «большевистских комиссарах», которые якобы с револьверами в руках гонят людей в бой, а сами остаются сзади. Солдаты видели, как бежали в атаку коммунисты, как выручали они других солдат, как бросались в самые опасные места. В этом бою они добились того, что навсегда снискали солдатскую любовь, солдатское доверие.
Нет, почва ускользает из-под ног Малевского и его друзей, дальше тут делать нечего. Хороши и немцы! Вообразили, что чего-то достигнут этими своими листовками. А только и вышло, что солдаты над ними посмеялись и еще больше возгордились: вот, мол, какие мы важные, специально для нас враг листовки печатал… И вдобавок в листовках полно было ошибок, будто эти геббельсовские чиновники не могли найти человека, грамотно пишущего по-польски. Впрочем, какое это теперь имеет значение?
Глухая, бессильная злоба охватила Малевского. Зря он рисковал собой столько месяцев. Еще угробят его в бою или прикончат какой-нибудь случайной бомбой…
Не так он представлял себе все это! Да, наконец, он просто боится, боится такой глупой смерти. Ведь достаточно одной пули, чтобы он попал в списки героев… Нет, пусть ищут других дураков, довольно он намучился – и в сущности ради чего? Вечно ему достается самая грязная работа, вечно он получает задания, которые оказываются невыполнимыми. Какая-то бессмысленная авантюра, в которой ничего невозможно предусмотреть. Другие как-то умеют устраиваться, а он всегда попадает как кур во щи. Всегда он рассчитывал, что ему, наконец, повезет, что начальство его оценит, но, видно, для этого надо действовать как-то иначе. Правда, он и сам сглупил – передал сведения, которые оказались ложными. Но откуда он мог знать, что эта дивизия вздумает разыгрывать героев? Одно дело бахвальство – он был уверен, что это бахвальство, – а они взяли да и выполнили все свои хвастливые обещания! За это его, конечно, не похвалят. Если бы он сам был там, на той стороне, и объяснил, почему этого никто не мог предвидеть, ему было бы все-таки лучше. А то ведь может еще получиться и такая история, что немецкие разведчики подумают, будто он ведет двойную игру. Он даже похолодел при этой мысли: тогда-то уж наверняка пиши пропало. Ведь, наверно, на них и кроме него кто-то здесь работает, так что расправиться с ним не трудно. Шальная пуля, выстрел в темноте – что в этом удивительного здесь, где постоянно стреляют, – и точка! Уж он-то знает, как такие дела делаются… Нет, надо поскорей смываться. Вдобавок, после того как поляки взяли деревню, он опять потерял контакт. Можно, конечно, подождать, пока немцы сами его разыщут. Нет, рискованно! Черт их знает, с какой целью они будут его искать? Лучше опередить события.







