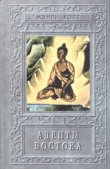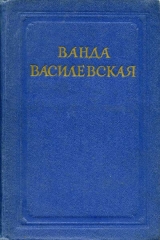
Текст книги "Реки горят"
Автор книги: Ванда Василевская
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 33 страниц)
Постановлением
Совета Министров Союза ССР
ВАСИЛЕВСКОЙ
ВАНДЕ ЛЬВОВНЕ
за трилогию «Песнь над водами»
(«Пламя на болотах»,
«Звезды в озере», «Реки горят»)
присуждена
СТАЛИНСКАЯ ПРЕМИЯ
второй степени
за 1951 г.
Ванда Василевская
ПЕСНЬ НАД ВОДАМИ
Трилогия
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
РЕКИ ГОРЯТ
Глава IЯдвига с трудом протискивалась сквозь толпу, забившую вокзал. За путями, на пустырях, под заборами, в закоулках между железнодорожными строениями раскинулся огромный бивуак. Люди сидели на узлах и чемоданах, метались во все стороны, таскали откуда-то щепки, уголь, и в воздух взвивались дымы костров. «Маня! Маня!» – то ближе, то дальше кричал отчаянный женский голос, словно ножом разрезая слитный гул стоголосой толпы.
Ядвига кутала в шаль своего сына. День был теплый, но ребенок, видно, совсем расхворался. Он тяжело висел у нее на руках. Руки деревенели, – казалось, ребенок выскользнет из них. Но Ядвига боялась даже поправить его – при каждом движении помутившиеся, невидящие детские глаза болезненно жмурились, а из запекшихся губ вырывался слабый дрожащий стон и отдавался в сердце Ядвиги, как внезапный удар. Она старалась ступать осторожно, тщательно сторонилась людей и со страхом думала, что ее могут задеть, толкнуть и тогда опять протяжно застонет ребенок.
Да, ему становилось все хуже. Еще вчера утром он играл и смеялся и только к вечеру начал плакать, отказываясь от еды. А теперь он весь горит и как будто совсем перестал узнавать ее. Она нашептывала ему нежные слова, уговаривала, что все будет хорошо, найдется врач, посоветует, поможет. Но этим шепотом она утешала только себя, идя в толпе, которая выносила ее из тесного вокзала на широкую улицу.
Расспрашивать о дороге не пришлось – все торопились в одном направлении, к польскому посольству. Улица выглядела так, словно по ней двигалась огромная процессия, хотя в ней был самый разный и случайный люд, бредущий с вещами, идущий налегке. Где-то тут же рядом с Ядвигой одноногий человек упрямо стучал костылем по выщербленным плитам узкого тротуара. Многие шли прямо по грязной мостовой.
– Поезда уже сформированы, – сказал кто-то.
– Не знаю только, кто в них попадет, – ответил ему сердитый, нетерпеливый голос. – Видел, что на вокзале делается?
– Черт бы их побрал с их порядками…
Ядвига, как сквозь туман, слышала обрывки разговоров, проклятия, внезапные взрывы смеха, плач девочки, не поспевающей за матерью.
– Осторожней! – почти крикнула Ядвига, когда какой-то усатый субъект бесцеремонно толкнул ее плечом.
Он возмутился:
– Скажите, принцесса какая! И чего вы прете с ребенком? Вот народ – прямо как бараны… Поезда стоят, так нет того, чтобы подождать, пока придут и разместят по вагонам, все лезут в посольство, будто там золотые часы раздавать будут…
– Хоть бы хлеба дали, – откликнулась какая-то дамочка в калошах на босу ногу. – А уж без часов как-нибудь обойдемся.
– Хлеба… Уж союзнички похлопочут, чтобы хлеба не было… Уморят они нас голодом в дороге, вот увидите.
– Что же вы сами-то на вокзале не дожидаетесь, а тоже в посольство прете? – насмешливо спросил мрачного усача тощий верзила в фуражке со сломанным козырьком.
Усач покраснел.
– Стало быть, дело есть.
– У каждого дело есть, – вмешалась дама, шлепая калошами, на каждом шагу спадающими с ее босых ног. Слух Ядвиги ловил это мерное шлепанье калош. Она не понимала, не слушала, что говорят. Все проходило мимо сознания, и невольно она ждала лишь очередного чавканья калош. Этот звук стал казаться признаком, что она идет, куда надо, – ведь дама в калошах сказала, что у нее дело в посольстве. Нужно было только прислушиваться к ее шагам, не терять их звука среди говора толпы, назойливо звучавшего вокруг.
Только бы добраться до посольства…
Но это оказалось не так-то легко. Перед зданием посольства стояла толпа. Лестница тоже была забита людьми. Кипели ссоры и пререканья.
– Куда вы лезете, мадам?
– Какого черта за два часа очередь с места не сдвинулась?
– А с чего ей двигаться? Никого не принимают.
– Как так, не принимают! Это еще что за порядки? Люди ждут…
– Ну да, и господин посол тоже только и ждет, когда вы, мадам, к нему явитесь.
– А чем ему тут еще заниматься?
– Вот именно!
Откуда-то сверху, с лестничной площадки, вдруг раздался голос. По-видимому, что-то объявили.
– Тише!
– Сам потише!
– Да успокойтесь же, черти драповые, там что-то говорят.
– Кто это черти, позвольте спросить?
– Ах, как мы нежно воспитаны!
– Еще бы! Ясновельможное панство в поселках хорошему тону обучалось, теперь к нему без палки и не подходи!
– Прошу пропустить меня, мне нужно немедленно! – кричала дама в шляпке.
– Уборная внизу, во дворе, к вашему сведению, раз вам так срочно.
– Хам!
– Ого-го-го!
Дама в шляпке бесцеремонно работала локтями. Вдруг она пронзительно вскрикнула:
– Послушайте, дорогой мой, я не могу пробиться!
Сверху раздался повелительный голос:
– Господа, будьте любезны пропустить эту даму.
На лестнице зашумели:
– Это еще почему? Все ждут.
– Не пускать ее, и все тут!
– Что это, надо в шляпке быть, чтобы туда попасть?
– Стоп, стоп, сударыня, не так бойко, – преграждал дорогу все тот же худой верзила в рваной фуражке.
Но сверху уже проталкивался молодой человек с черными, гладко прилизанными на прямой пробор волосами. Дама в шляпке ухватилась за его рукав.
– Ах, дорогой мой, что это за люди, что за люди!
– Глядите-ка, люди ей не нравятся…
– А как же, в шляпке…
– Ясновельможная пани!
– Большевистские порядки хотят завести! – отчаянно пискнула дама в шляпке, буксируемая сильной рукой прилизанного юнца.
– Это мы-то большевистские порядки заводим? А вы, мадамочка, где были, когда мы по тюрьмам гнили?
– Там небось шляпок с перышками не выдавали.
Ядвигу притиснули к стене у дверей, приоткрытых в какую-то переднюю. В эти двери никого не пропускали, прорвалась только дама с перышком. Ребенок как будто спал. Ядвига боялась его выронить, ее ноги подгибались, – пожалуй, даже лучше, что такая давка, а то бы она, наверно, упала. Голова кружилась, грязную лестничную клетку словно затянуло туманом.
– Не курите, господа, выдержать невозможно от этой махорки…
– А вы, сударыня, угостите «Египетскими», тогда мы махорку бросим.
– Уж так нежно воспитаны, говорю тебе, Франек, так нежно воспитаны! Не где-нибудь, а в поселках, на кизяках. Они там к таким ароматам привыкли, что теперь – ну никак…
– И зачем только вас, мама, понесло ехать? – ворчал в сторонке срывающийся юношеский голос. – Могли бы спокойно сидеть на месте, подождать, пока вся эта толкотня прекратится.
– Молчи, Марцысь, – отвечал женский голос. – Ведь все едут.
– Сперва вы поднимали крик, что надо готовиться к зиме, а когда мы все приготовили, тут вас и понесло куда-то…
– Господи, господи, с вами вечно… Владек там тоже, наверное, не смотрит за вещами, а где-нибудь шатается.
– Да бросьте волноваться, мама. И так нас со всеми вещами в поезд не пустят, вот увидите.
– Что ты болтаешь? Как это «не пустят»? Уж я им скажу… Что это такое? Голые, босые должны ехать, что ли?
– Ну уж, голые, босые…
– Перестань, Марцысь, говорю тебе… Боже, боже, вечно у меня с вами…
– Тише!
Снова раздался голос молодого чиновника.
На этот раз Ядвига услышала:
– Господа, прошу не толпиться, прошу успокоиться… И вообще стоять здесь незачем. Господин посол занят, никого не принимает и принять не может. Господин секретарь тоже занят. Поезда есть, ступайте на вокзал, мы всех по очереди отправим.
– То-то и есть, что «по очереди»! А когда очередь придет?
– Три дня женщины с детьми под открытым небом дожидаются!
– Есть нечего!
– Господа, продукты выдают только на вокзале. Все вопросы разрешаются на месте, на вокзале. На вокзале работает представитель посольства…
– Да ведь мы с вокзала и идем, никакого представителя там нет.
– Где он, этот представитель?
– Господа, повторяю еще раз, прошу не толпиться! – вышел из себя молодой щеголь, и прядка лоснящихся черных волос отделилась от прилизанной прически, смешно подрагивая над темными бровями. – Здесь вы, господа, ничего не выстоите. Прошу возвратиться на вокзал и терпеливо ожидать.
– Вам-то хорошо говорить «терпеливо»!..
– Смотрите на него, какой…
– Чего ожидать?
– Я уже сто раз вам говорил: поезда отправляются один за другим. Здесь вы можете дождаться только того, что поезд отойдет без вас. Прошу идти на вокзал.
– Идемте, мама, я ведь говорил вам…
– Боже, боже, какие дети! Вечно с вами что-нибудь… Ну что ж, идти так идти… – Женщина, слишком укутанная для теплого осеннего дня, стала медленно выбираться из толпы. – Не толкай меня, Марцысь.
– Да я вас вовсе не толкаю. Вы вот зря здесь толкались, мама.
– Ну никакого уважения к матери нет.
На лестнице стало просторнее. Бормоча под нос или громко ругая неведомо кого, люди один за другим спускались вниз. Толпа вокруг вылощенного юнца поредела. Ядвига робко тронула его за рукав.
– В чем дело? Я же сказал…
– Ребенок, ребенок заболел… Доктора бы…
– Я сто раз говорил – на вокзале! В поезде. И врач, и все. – Он уже хотел отвернуться, но что-то во взгляде Ядвиги остановило его. Темные глаза умоляюще смотрели с исхудавшего, изможденного лица. Он нехотя бросил взгляд на ребенка. Дитя как будто спало, но веки были сомкнуты неплотно, и сквозь них виднелась мутно-синяя, словно расплывшаяся во весь белок радужная оболочка.
– Ну что ж, я дам вам записку, чтобы вас посадили в первый же эшелон. Только поторопитесь, он должен часа через два отойти.
Он вытащил блокнот и авторучку и тут же нацарапал несколько слов, скрепив их подписью с энергичным росчерком.
– Там и врач и все необходимое. Вы поедете сразу, без всякой задержки.
Она медленно шла обратно. Разве дело в записке? Как поедет она с больным ребенком? Ведь малыш и вчера стонал при каждом толчке, при каждой остановке поезда. Вот если бы можно было уложить его спокойно, развернуть, снять с него все эти платки и шали, не бояться все время, что вот-вот он опять застонет… Надо было объяснить все это тому элегантному молодому человеку – может, он сжалился бы над ребенком. И возможно ли, чтобы там вовсе не было врача? Пусть бы по крайней мере сказал, что это за болезнь… Что могло вдруг случиться с ребенком? Ведь он был совсем здоров, когда они выезжали. И вообще до сих пор никогда не болел. Только раз у него заболело ушко. Но тогда ей дали подводу, она съездила в районный центр, там осмотрели, вычистили, дали лекарство – и ребенок скоро выздоровел. А теперь? Надо было добиваться, чтобы ей разрешили не ехать, остаться на время с ребенком где-нибудь в городе, дожидаться улучшения.
Вернуться разве? Но она отошла уже довольно далеко и не в силах была столько пройти.
Теперь уже двигались две толпы по двум направлениям – от вокзала к посольству и от посольства к вокзалу.
– Что это за река? – спросил мальчик, одетый в нарядную матроску, но босой и в рваных штанишках. Идущая с ним женщина не знала.
– Да ведь это и есть ихняя Волга, – объяснил кто-то.
Ядвига невольно подняла глаза и взглянула налево. Улицы в эту сторону понижались, спускались вниз, а там широко разливалась огромная, величественная река. За ней тонула даль в лиловой мгле, в голубом тумане, в серебристо-серой тени. Оттуда веяло сонной тишиной, кроткой улыбкой осеннего солнечного дня. Ах, не толкаться бы в толпе, забившей вокзал, не трясти малыша в грохочущей и шаткой теплушке, а пойти с ним в эту лиловую ласковую и кроткую даль, в этот тихий мир, прозрачный, как далекая детская сказка, когда-то слышанная и давно забытая.
Но лиловая даль была недостижима, она раскинулась за широкой, мощной рекой, равнодушно катящей свои сверкающие волны. А вскоре и река и необозримые просторы по ту сторону ее скрылись за рядами домов. Перед Ядвигой снова был вокзал, и уже издали до нее доносился нестройный звук голосов, сливающихся в один сплошной шум.
Представитель посольства и вправду был на вокзале. Он перебегал с платформы на платформу, что-то кричал охрипшим голосом и отчаянно вырывался из рук, которые хватались за полы его светлого демисезонного пальто. Он яростно отмахнулся от Ядвиги. И только советский железнодорожник указал ей, куда надо идти.
– Прямо, прямо, а потом направо. Скоро и посадка начнется.
Вагоны были еще заперты. Ядвига бессильно присела на какие-то железные балки или рельсы, лежащие между путями. В глазах мелькали разноцветные пятна. Она осторожно положила ребенка на колени. Спит, слава богу, спит… И вдруг ее охватил леденящий страх: а если не спит, а если он вдруг?.. Нет, нет, нельзя даже думать об этом, чтобы не накликать беды.
Маленькая головка беспомощно перекатилась вбок – и ребенка вырвало. Без усилий, словно грудного, срыгивающего излишек пищи. Ядвига тщательно обтерла платком запекшиеся губки сына. Наверно, он чем-то отравился. Может быть, молоко, которое она с таким трудом вчера достала, было не такое свежее, каким казалось. Может, даже хорошо, что его вырвало, – желудок очистился, ему станет лучше.
– Прошу вас, господа, не толкаться! Стать в очередь, листки держать в руках!..
Она вскочила. Ребенок снова застонал.
– Не надо, сыночек, не надо, сейчас будем в вагоне, уложу тебя, дам чайку, – шептала она, словно малыш, который опять засыпал, только и ждал холодного чаю из бутылки, которую она несла в узелке.
У вагона сразу же начался скандал.
– Куда вы лезете? Листок, я сказал! Листок с номером эшелона! Где у вас листок?
– Какой еще ко всем чертям листок?
– Да ведь выдавали листки, на вокзале выдавали! Чего вы стали на дороге? Посторонитесь!
– Сами, мадам, посторонитесь! Поезд для всех.
– Все в один не влезут, на то и очередь.
– Прошу отойти. Я буду впускать только тех, у кого есть листки с номером эшелона. С номером пять.
– А где было взять листок?
– Да не мешайте же! Люди с утра в очереди стояли, получали листки, а этот пришел на готовое! Эй вы, господин, хватит нянчиться с ним, он тут всех задерживает.
Высокого субъекта без листка оттолкнули в сторону от дверей. Сзади толпа так напирала, что плотная женщина в ватной кофте – та, что спорила с сыном в посольстве, – едва не рухнула с приставной деревянной лесенки.
– Спокойней, прошу вас, спокойней, по очереди!
Оказалось, что в вагоне уже есть пассажиры, несмотря на то, что он был заперт. В углу, поближе к железной печке с изогнутой ржавой трубой, уже устроилось на грудах узлов несколько человек.
– Ого, да тут уже сидят…
– Это каким же чудом?
Стоявший в дверях представитель посольства грозно обернулся:
– Это никого не касается. Раз сидят, значит имеют право. Следующий, пожалуйста!
– Не касается… Опять какая-нибудь протекция?..
– А вы когда-нибудь видели, чтобы обходилось без протекции?
– Попрошу без замечаний! – заорал опять контролер. – А это еще что? Где номерок?
– У меня записка, записка из посольства… – робко сказала Ядвига.
– Ага, записочки из посольства… – язвительно заметил кто-то. – Значит, не обязательно номерок, годится и записочка?
– Ну, разумеется, одни с утра должны стоять в очереди, а другие…
Но Ядвига словно не слышала этих попреков. В вагоне было еще довольно просторно, она быстро нашла место на охапке соломы, опустилась на нее и только тогда почувствовала, как невероятно устала. Рука, на которой лежал ребенок, с трудом разгибалась. Узелок, который она с собой таскала, натер ей другую руку, оставив на ней широкую синюю с кровоподтеками полосу.
Она хотела напоить ребенка, но это не удалось. Холодный бледный чай вылился из угла рта, – малыш даже глаз не открыл. Между неплотно сомкнутыми веками виднелась стеклянная полоска белка и краешек мутно-синей радужной оболочки. Ядвига прислонилась головой к стене теплушки. Вокруг нее шумели, толпились, искали мест все прибывающие пассажиры.
– К черту с этим барахлом, – волновался кто-то. – Завалили весь вагон. И откуда столько набрали? Как, еще корзина? Вам бы надо отдельный вагон себе заказать.
– Вот видите, мама, – услышала Ядвига уже знакомый голос.
– Ставь, ставь чемодан, – послышался ответ. – Здесь будет удобнее. Владек, да побойся ты бога, где же тот узел, что в одеяле?
– Какой еще узел?
– Ну, не горе ли с этими мальчишками?.. Который в сером одеяле. Оставил? Выскочи-ка поскорей… Боже, боже, наверно уже украли…
– Да чего вы, мама, мечетесь? Вот он лежит, ваш узел…
– Мой? Почему мой? Такой же твой, как и мой.
– Нет уж, мне вы этого барахла не навязывайте. Говорил я, не тащите всякой рухляди, а вы…
– Ох, уж эти дети… – застонала женщина и стала разматывать черный вязаный платок. – А жара, не дай бог!
– Еще бы не жара! Ведь вы, мама, сто одежек напялили, будто на Северный полюс собрались.
– Марцысь, Марцысь… Неужто же еще один узел надо было связывать? Лучше на себя надеть. А то бы вы с Владеком опять набросились…
– Уж так мы и набрасываемся!
В сторонке кто-то тягуче рассказывал:
– Ну вот, мы это сейчас собрались, и на станцию… Три дня, милая вы моя, на этой подводе… Я уж думала, не доеду, всю душу из меня вытрясет… А пыль! Так на зубах и скрипит, легкие у меня и сейчас, наверно, черные, не откашляешься. Лошаденка какая-то замученная, а уж эта подвода, прости господи… Но я уж так себе сказала: раз надо так надо…
В углу капризно хныкала чья-то девочка.
– Тихо, тихо, золотко мое, сейчас поедем, вот сейчас, сейчас и поедем… На, возьми яблочко, скушай…
– Не хочу яблочка…
– А пирожка? Может, пирожка? Скушай, золотко, скушай хоть кусочек…
– Не хочу пирожка…
– А воды с соком?
– С каким соком?
– С малиновым, золотко, с малиновым.
– С малиновым не хочу…
– А по заднице хочешь? – ворвался в эту семейную идиллию грубый голос. Девочка окаменела, открыв рот. Мать, как львица, кинулась на ее защиту.
– А вам что? Как вы смеете? Хамство какое…
– Заткнитесь, дамочка. Ишь, глядите на нее, хамами обзывает… Вы бы лучше своего ублюдка успокоили, и без него шума хватает…
– Кто это ублюдок? Мое дитя ублюдок? Мое дитя?
Девчонка, пользуясь случаем, издала пронзительный визг. Мать схватила ее в объятия.
– Тихо, мое солнышко, тихо, мое золотко… Как она, бедняжка, перепугалась! И не стыдно так пугать ребенка? Что за люди пошли, что за люди!..
У дверей опять началась сутолока.
– Как, вы еще впускаете? На головы друг другу сесть прикажете, что ли?
– Напихали барахла, вот для людей и нет места.
– Ну послушайте только, какой-нибудь несчастный чемодан уже всем глаза колет… У самого нет, так он другим завидует.
– Подвиньтесь, пожалуйста.
– Куда я подвинусь? На потолок? Взбесились, что ли? Что ж нам, как скоту ехать?
– Ну, ну, не орите, дамочка. А ну, подвиньтесь!
– Не пускать больше никого, не пускать!
– Вот какой народ пошел… Сам влез, так уж другому не надо, – возмутилась маленькая худощавая женщина, ловко взбираясь по лестнице. Но, едва очутившись в вагоне, она тотчас присоединилась к хору протестующих: – И так нас, как сельдей в бочку, напихали! Куда еще втискивать! Есть ведь и другие вагоны…
– Ага, какая умная… А в другие вагоны прямо так и приглашают, скучно им одним ехать, компании ищут…
– Пойдут же следующие эшелоны.
– Пойдут, как же! Вот вы их, господин хороший, и подождали бы, если угодно, следующих эшелонов. Какой умник нашелся…
– Одного понять не могу, – повернулась вдруг к Ядвиге обладательница двух строптивых сыновей и груды вещей. – Откуда это столько мужчин набралось? Толкаются, отнимают место у женщин и детей, вместо того чтобы идти в армию… Роек моя фамилия, – представилась она, энергично подавая руку. – Вон, глядите, здоровые молодые мужики. В Бузулук бы ехали, в лагеря, а не шатались по свету…
– Ишь, какая боевая! – вознегодовал молодой человек, почти не видный за грудой узлов.
– А что ж… Раз война, место мужчины на фронте.
– Нам-то небось сами запретили? – ворчливо напомнил Марцысь.
Госпожа Роек так стремительно обернулась к нему, что солома зашуршала.
– О мужчинах разговор, а не о детях!
– Хороши детки! – неприязненно отозвался юноша из-за груды узлов.
Роек вздохнула и обратилась к Ядвиге.
– Вечная беда с этими детьми… Рослые такие, поглядишь – и в самом деле взрослый парень… Вон Марцыся уж раз и комендантский патруль останавливал, воинские документы спрашивал… А ему в июле только пятнадцать исполнилось – как раз когда после договора с Сикорским амнистия вышла… А Владек на год моложе… Вот только в головах у них сейчас все вверх ногами перевернулось. К матери – никакого уважения, к старшим – никакого уважения! В армию им, да и все!.. Говорю им, объясняю: куда вам, вы же еще дети, мать одну-одинешеньку бросите…
– Ну, уж кто-кто, а вы, мама, как-нибудь и одна справитесь.
– А как бы ты думал? Разумеется, справлюсь. Всюду можно как-нибудь устроиться… Муж, покойник, царство ему небесное, такая размазня был, что, хочешь не хочешь, приходилось самой справляться, хотя я и женщина… А если бы не это…
Ядвига не слушала. Ребенок лежал у нее на руках и прерывисто дышал. А в посольстве ее обманули. Никакого врача в поезде не было. Ей смеялись в глаза, когда она о нем спрашивала. Только и всего, что дали баночку сгущенного молока да проводница принесла кипятку, чтобы распустить его в бутылке. Ядвига наклонила жестяную кружку к запекшимся от жара губам ребенка и хотела было поднять его головку, но голова была закинута назад, не поддавалась, и ребенок лежал неподвижно, вытянувшись. Шея не сгибалась под ее рукой.
– Что это с вашим сыночком? – сочувственно спросила госпожа Роек.
– Не знаю. Простудился, видно, что ли…
– Придумают тоже, с больным ребенком в вагон лезут, – резко сказала мать капризной девочки. – Еще другие дети заразятся.
Ядвига не ответила. Действительно, был ли смысл садиться с малышом в вагон? Да и вообще, в чем тут был смысл?
«Зачем я собственно еду?» – вдруг удивилась она. И только теперь, словно в лихорадочном сне, припомнила письмо Хожиняка, мужа. Как он ее разыскал? Откуда вдруг взялся? Ведь он исчез тогда, зимой тридцать девятого, сказал, что идет за румынскую границу. И потом – ни слова, ни признака жизни. И вдруг два года спустя, когда она думала, что он уже где-то далеко… Нет, неправда, этого она не думала, она просто никогда о нем не думала… И вдруг письмо. Короткое извещение, что он находится в армии Андерса. И чтобы она, Ядвига, ехала на юг вместе со всеми.
Некоторые, правда, оставались. Но она, словно не могла не подчиниться велению этого письма. Собралась и поехала.
Значит, Хожиняк где-то здесь. Может, даже в этом Бузулуке. Может, даже в самом Куйбышеве, откуда, пыхтя и скрежеща, двигался поезд. Кто знает? Он не дал адреса, ничего не написал о себе. Хожиняк – ее муж. Только она никогда не думала о нем ни «муж», ни «Владислав», а всегда «Хожиняк». Как прежде, в самом начале, когда он только еще приехал в Полесье и стал заходить в их дом над рекой.
Нет, о доме над рекой ни за что, ни за что нельзя думать. О журчании воды, о ее зеленоватом полумраке под тенью верб, о шелесте высоких тростников, о калине, покрытой белыми гроздьями цветов или взрывающейся пучками пламенных ягод, – обо всем этом думать нельзя. Это было, это прошло, миновало – и конец. Та страница перевернулась навсегда, к ней не надо возвращаться. Под шорохом верб, под зеленым шатром ветвей, в плеске озера, в шуме реки, укрытая где-то глубоко внизу, притаилась жгучая, горькая боль. Боль тяжкая, невыносимая, ее надо во что бы то ни стало избегать, до нее нельзя докапываться, не то она бросится на сердце, вопьется в него железными когтями, отнимет остатки сил. А силы нужны для сыночка, для сыночка…
– Это какая-то заразная болезнь. Я протестую! У него сыпь; смотрите, какие красные пятна! – вдруг запищала мамаша капризной девочки. Ядвига помертвела: и правда, на лице малыша появились красные пятна. Откуда? Ведь еще минуту назад их не было, наверняка не было, ведь она все время смотрела на маленькое личико, как же она могла бы не заметить? И все же пятна были – та, другая, чужая мать тотчас их увидела.
– Это безобразие! Он всех детей заразит! – металась дама с девочкой.
Госпожа Роек вступилась за Ядвигу:
– Так что же делать женщине? Вылезть с ребенком в чистом поле, что ли?
– А зачем она садилась в поезд? Что она, не видела, что ребенок болен? Зосенька, сиди на месте, не шевелись! Натащили сюда заразы, еще заболеешь! Ни на шаг не смей от меня отходить… Вот на тебе конфетку, золотко мое бедное, только не шевелись, мама тебя умоляет, сиди возле мамы…
– Вы бы сами лучше спокойно сидели, – негодовала Роек. – Померещилось вам что-то, вот вы и видите сыпь… Конечно, ребенок болен, но никакой сыпи на нем нет…
– Как это нет, слепая я, что ли?
Действительно, красные пятна исчезли, словно их и не бывало. Ядвига наклонилась к ребенку. Лицо его было изжелта бледно, красных пятен и следа не осталось.
– Слепая-то вы, может, и не слепая, а только у страха глаза велики, – успокаивала госпожа Роек.
– Конечно, вам-то бояться нечего, ваши верзилы не заразятся…
– Ну, ну, пожалуйста! Только уж верзилами не обзывайте.
– Да оставьте вы ее в покое, мама, – пробормотал Марцысь. И на этот раз мать тотчас с ним согласилась:
– А и вправду, дитя мое. Стоит ли бог знает с кем связываться? Никакого смысла нет.
Из-за груды узлов доносился сначала тихий, потом все более громкий разговор. Высокий молодой мужчина разъяснял другому, который сидел перед ним на корточках:
– Долго все это не протянется. Бьют их, только пух и перья летят. Минск взят. Киев взят. Вы думаете, это изменится? Куда там! Скоро немцы до Москвы дойдут. Видели в Куйбышеве – уже некоторые учреждения туда эвакуированы. Вот потому-то нам и надо на юг, как можно дальше на юг. Сюда немцы тоже дойдут. Я вам говорю – дойдут, и скорее, чем некоторые думают. Еще бы! Этакая армия… А там, куда мы едем, граница близко – мы и ходу!
– А… как же наши войска?
Высокий наклонился к собеседнику.
– Вы что думаете, Сикорский сумасшедший? Вот увидите, как этих азиатов надуют, уж я вам говорю…
– А договор?
– Какой там договор? Послушайте, меня не обманешь! Договор договором, а рассудок рассудком… Наша армия еще пригодится. Вы думаете, нас и вправду бросят на немцев? Ну не-ет. Хватит с нас, уже довольно нашей крови пролилось… Пусть теперь большевики попробуют…
– И что же из всего этого может выйти?
– Ну как вы не понимаете, это ребенку ясно… И большевики и немцы обессилеют, истекут кровью – и тогда мы с готовой армией наведем порядки.
Собеседник вздохнул.
– Так-то оно так… Только Сикорский другое говорит.
– Сикорский… К счастью, у нас не один только Сикорский, знаете ли… Да и что там Сикорский? Андерс, вот это вождь, я вам доложу!
В другом углу вагона уже некоторое время продолжался приглушенный спор, который в конце концов превратился в шумную ссору.
– Что это такое, я вас спрашиваю? Всем дали сгущенное молоко, а нам нет? Что это за порядки, я вас спрашиваю?
– Нет больше молока.
– Как это – нет? Целый вагон продуктов прицеплен, мы же видели. Что же, выходит мои дети не дети, что ли?
– Заткнитесь, мадам, нечего тут квакать, как лягушка!
– Что это за шутки? Мне не шутки нужны. Я спрашиваю: где молоко для моих детей? Взрослые получили, а дети не получили?
– Перестань, Малка, оставь, – потихоньку успокаивал ее муж.
– Что значит – перестань? Я спрашиваю, что это за порядки?
– Станем мы еще евреев молоком кормить! – ядовито заметил верзила в фуражке со сломанным козырьком. – Мало они сами везут…
– Кто везет? Я везу? У меня ничего нет! Откуда это я могу везти?
– Хватит орать, баба. Кончилось ваше еврейское царство.
– Ты только посмотри, Абрам, ты только посмотри! Ведь молоко от «Джойнта»! Вон, смотри, на ящике написано!
– Ну и что с того, Малка, что от «Джойнта»?
– Что за «Джойнт» такой? – заинтересовался кто-то.
– Это ихняя еврейская организация в Америке, – объяснил другой.
– Ну и что с того?
– Ты, Малка, сиди тихо. Пусть они на здоровье съедят это еврейское молоко. А то хуже будет, еще эти хулиганы тебя из вагона выкинут.
– Это кто хулиган? – грозно приподнялся верзила в рваной фуражке.
– Никто не хулиган… Разве я что говорю? Я ничего не говорю… Тише, Малка, тише…
До Ядвиги этот говор в вагоне доносился как бы издалека. Ребенка снова рвало. Напряженно закинутая назад головка позволяла еще яснее увидеть в прорезе век мутные закатившиеся глаза. То тут, то там опять появлялись красные пятна и снова исчезали. Ребенок, казалось, спал, но его, видимо, мучил даже скудный свет, падающий из окошка под потолком. Ядвига осторожно прикрыла ему личико платком.
И вдруг ее охватил леденящий страх. А что, если…
И едва она успела подумать это, стало ясно: ее маленький умирает. Он умрет.
– Это потому, что я не хотела тебя, – шепнула она, словно это была тайна, которую знали они двое.
Да, именно потому он будет у нее отнят. Потому, что она когда-то с таким ужасом убедилась в своей беременности – еще там, в доме на пригорке. И с таким отчаянием думала о том, что носит в себе чужого ребенка – ребенка Хожиняка. Даже во время родов она думала о нем, таком крохотном и беспомощном, с холодной ненавистью. Нет, не с радостью, не с улыбкой, не с растроганной дрожью в сердце ожидала она его рождения. И лишь первый крик, первый неумелый, слабый плач малыша внезапно пробудил и страстную любовь к нему, и жалость, и страх за его жизнь.
Но, видно, это не могло искупить злых, темных чувств, которые таились в ней прежде. И вот теперь ее ждет кара. Дитя будет у нее отнято, и она останется одна в потемках жизни. Уже не протянутся к ней маленькие ручки, уже не почувствует она на лице прикосновения крохотных пальчиков, не взглянут на нее темно-голубые, почти синие, круглые глаза, не скажет он: мама! А ведь он уже лепетал, тоненький голосок то и дело произносил какое-нибудь слово-загадку, слово-ласку, которое, быть может, совсем ничего не значило, но в которое она столько вкладывала… И он уже ходил. Маленькие ножки неутомимо семенили за ней, с трудом, с увлечением.
Когда ребенок родился там, на севере, когда он лежал возле нее, завернутый в подаренные пеленки, ей думалось, что все дурное в ее жизни уже кончилось. Что за все, за все, что получилось не так, что пошло вкривь и вкось в ее жизни, ей дано теперь это дитя. Нет, это не был ребенок Хожиняка – это было ее, ее собственное, ее родное дитя. Она его выносила, она его родила, она его воспитает. Она сумеет прокормить, одеть, воспитать его, своего сына, что бы ни случилось. Никакого Хожиняка не было, он исчез, рассеялся, как туман, миновал, как дурной сон. Теперь у нее был только маленький сыночек, круглая головка, поросшая смешным темным пушком, трогательные, забавные ручки, крохотные ножонки и тельце, словно из шелка и бархата, невиданное чудо, ребеночек.
Это ради него она работала на рубке леса – и работа не была ей тяжела, потому что после нее она бежала домой, где ожидал маленький сыночек, ясное солнышко, счастье ее жизни… Она работала на молоко для него, на кашку для него, на рубашонку и штанишки. И там совсем не было грустно, в этом дремучем лесу. Улыбка ребенка будто пронизывала светом весь лес до глубины, до самой темной чащи.