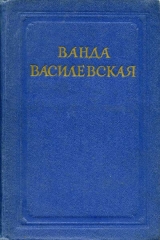
Текст книги "Реки горят"
Автор книги: Ванда Василевская
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 33 страниц)
Дует ветер, теплый и стремительный, раскачивая кроны сосен. Откуда он несется, этот ветер, шумный, радостный, буйный?
Шумят, гудят сосны. Не та ли это сосна, что густо растет в лесах под Варшавой или поднимается над мазовецкими песчаными равнинами, – зеленая, смолистая, благоухающая сосна?
Закрой глаза, и покажется, что ты в сосновом лесу под Анином, под Рембертовом, в Милосьне, в Мендзышине. Вот-вот послышится знакомый гул – это мчится электрический поезд из Варшавы. Из вагонов высыплет публика – женщины, дети, молодежь, и по сосновому лесу раздастся веселый смех, пение.
Зеленый сосновый лес пахнет смолой, горячей хвоей, ветром. Родиной пахнет сосновый лес…
Можно даже и не закрывать глаз. Взгляни – колышется, шумит с детства знакомый зеленый сосновый лес. Сосны мягко расступаются, открывая широкую поляну. По краям поляна поросла высоким, перистым, нарядным папоротником – тем самым, что высоко, по самое плечо, вырастает под Варшавой в лесу. И здесь он высок, хотя и не до плеча. Но, может быть, я сам вырос за прошедшие годы, а этот папоротник не ниже того, польского?.. Листки черники, густые кудрявые кустики и кое-где лиловый колокольчик – тоже точь-в-точь как там. А дальше река. Как зовут тебя, река, такая похожая на Вислу, река, шумящая по ночам тем же шумом, сверкающая тем же блеском, что Висла в июньский солнечный зной?..
Кто придумал, кто мог придумать для их лагеря место, где все, как на родине? Ничто здесь не чуждо поляку, ничто не отличается от его родных мест. Вислинской волной переливается Ока, варшавскими соснами шумит прибрежный лес. Привет тебе, русская река, похожая на Вислу, советская река. Привет вам, русские сосны, родные сестры анинских, рембертовских сосен!
Рядовой Марцель Роек стоит, вытянувшись, по команде «смирно». Да, он с первого же дня видел, что это так, – на этом клочке земли они нашли образ родных краев. Это замечали все, и это с первой минуты хватало за сердце – еще прежде, чем в глаза бросалась надпись на арке у входа в лагерь: «Привет, вчерашний скиталец, ныне солдат!»
Сегодня, сейчас это чувствуется особенно остро. Польские сосны над польской рекой. Вот выйдешь из этого леса, пройдешь по песчаной дороге – и перед тобой окажется не село на Оке, а прикорнувшая у лесочка польская деревня. По улице пойдут польские девушки в сборчатых юбках и передниках, в ярких платочках на голове, запоют о розмарине, о Ясе, что ушел воевать.
Нет здесь узких полосок, изрезанных межами, где пахнет богородицыной травой и чебрецом, не пестрит нива синими васильками, красными маками. Здесь чистые, как море, расстилаются широкие поля и, сколько хватает глаз, ровно колосится хлеб без единого сорняка. И девушки здесь одеты иначе, и другие песни звенят по вечерам над деревней. А все же можно вообразить, что за лесом раскинулась именно польская деревня. Горбатая, вся изогнувшаяся от ветра сосна – разве не похожа она точь-в-точь на ту сосну под Груйцем? Сквозь сеть ветвей, колеблемых стремительным теплым ветром, сверкает вода – не Висла ли это?..
Пальцы крепко сжимают винтовку. Нет, это уже не полусонная мечта, нашептываемая самому себе в длинные вечера, когда сон смежает веки. Не фантазия, взлелеянная горячим желанием. О, если бы его мог увидеть Илья – в настоящей военной форме, с новенькой винтовкой в руках… Если бы его мог теперь увидеть старик Егор…
Какой ветер! Какой радостный, упоительный. Он проносится над этой лесной поляной, открытой ласковым лучам солнца, насыщенной запахом смолы, теплым благоуханием трав.
На поляне, от края и до края – длинные ровные ряды солдат. Ветер развевает флаги на трибуне. Полыхает щедро расшитое золотом, серебром, шелками знамя дивизии.
Днем и ночью вышивали знамя умелыми руками московские работницы. Подбирали нитки, в тысячный раз сверялись с образцом, вышивали незнакомые буквы, польские слова: «Честь и Отчизна», и лозунг: «За нашу и вашу свободу».
Жесткая, негибкая нить. Трудно вышить лицо Костюшки, чье имя носит дивизия. Трудно вышить серебряного орла. Одно за другим возникали на знамени перышки, складываясь в широкие крылья, в крылья пястовского орла. Над ним изгибается лавровый венец. Кому суждены эти лавры, кто будет ими увенчан?
Днем и ночью вышивали жены красноармейцев, сестры красноармейцев золотое и серебряное знамя для солдат братской дивизии. Нашлись в сокровищнице нитки золота и серебра, не мишура – червонное золото высокой пробы, серебро, добытое в далеких рудниках умелыми руками советских рабочих. Короток срок – быстро летят летние дни и коротки московские летние ночи. Черными листами завешены окна – война. За этими затемненными окнами сидят жены, матери и сестры красноармейцев – московские работницы.
Здесь не смотрят на висящие на стене круглые часы, равнодушно отмеряющие время. Чай, подогретый на электрической плитке, ломтик хлеба, принесенный из дому. Не рука вышивает знамя – любовь его вышивает.
Трудный, запутанный узор. Насколько легче вышить знамена, под которыми идут в бой их мужья, сыновья, братья! Насколько меньше требуют они работы. Но ничего, ничего… Тех дивизий много, тех дивизий сотни, и они сражаются уже два года. А эта – одна-единственная, и она впервые двинется в бой. Не жаль отказаться от сна, вышивая знамя пришельцам из соседней страны: им предстоит еще дальний и тяжкий путь на родину. Пусть же позолотит им этот путь сердце московских работниц, пусть посеребрит им его сестринская улыбка, пусть облегчат их солдатскую жизнь пожелания доброго пути.
Колышется на ветру знамя Первой дивизии. Ветер с трудом вздымает отягощенную золотом ткань. Знамя такое же, как было раньше… Но нет, не такое! Лозунг отцов, забытый, заброшенный политиками междувоенной Польши, лозунг, покрывшийся вековой пылью, сверкает на багрянце знамени, взывает: «За нашу и вашу свободу». Кто понесет тебя в бой, завет отцов наших? Тысячи рук вздымаются вверх. И тысячи уст медленно, торжественно повторяют слова присяги.
– «Присягаю польской земле…» Слышишь, далекая? Тебе говорю я эти слова, перед тобой склоняюсь, о тебе эти слезы.
Это ты здесь со мной, родная, своя, собственная земля, а в эту минуту настолько близкая, что – кажется – рукой достанешь. Нет, нет, давно ведь было известно, – не река Ока течет за полотном палатки, это река Висла течет за стеной палатки, река Висла, омывающая пролеты моста Кербедзя, река Висла, плывущая под мостом Понятовского. То не рязанский песок скрипит под ногами, когда идешь по тропинке в лес, то подваршавский, мазовецкий песочек, некогда дочиста промытый водой, сыпучий, легкий, ускользающий из-под ног, засасывающий ноги… А если даже так не было вчера, то так наверное, наверное стало сегодня… Слышишь, польская земля? Тебе присягаю, тебе.
– «Присягаю польскому народу…» Слышите вы, борющиеся с врагом? Слышите за своими железными решетками, за колючими проволоками концентрационных лагерей, непокоренные, родные, свои? «Польский народ»… Никогда еще эти слова не звучали так сильно, как теперь, как здесь, далеко от родины, в этом военном лагере на Оке, где тебя посвящают в рыцари польского народа…
– «Присягаю на союзническую верность Советскому Союзу». – Марцысь поднимает глаза, пытаясь рассмотреть на трибуне представителей советского командования. Верность Советскому Союзу… Огромная прекрасная земля, она дала мне приют в дни горя и ужаса… Она научила меня труду и открыла перед глазами широкие горизонты, пути в будущее… Она дала мне оружие для борьбы с врагом и солдатскую форму, которая из скитальца и изгнанника сделала меня бойцом. Она посвятила меня в рыцари польского народа, в рыцари свободы – великая советская земля!.. Армия, что идет на запад, армия, что несет освобождение, овеянная славой Советская Армия – тебе присягаю на братство оружия, братство на веки веков.
Гремят голоса. Словно заговорила вся поляна, словно произносит солдатскую присягу сама земля, лежащая по берегам Оки, близ сердца России – Москвы.
Откуда вы, солдаты, стоящие здесь? Из Казахстана, из морозных лесов Коми, с Енисея, с бурного, мчащегося по скалам Иртыша, из долин Ферганы? Нет, нет. Из Варшавы, из Радома, Кракова и Груйца люди польской земли, идущие в польскую землю…
Рядовой Новацкий вместе с другими повторяет слова присяги. Он не старается постичь их точный смысл. Дело не в словах! Главное – что наконец-то у него в руках винтовка, что он снова в армии и она оказалась настоящей армией.
Новацкий ехал сюда готовый на все: пусть его обманули, будто возрождается польское войско, пусть это будут просто советские части, в которых разрешено служить полякам, пусть так! Хватит с него этих четырех лет, когда он был бездомным бродягой. Он разглядывал надписи, знамена, транспаранты. Они обращались к нему на польском языке. Только орел немного другой. Пястовский, говорят, республиканский, без короны, старинный польский. Возможно. Новацкий все равно знает, что где-то, за всеми этими польскими надписями, таится коварство. Но ему до этого нет дела.
И все-таки, где это коварство? В чем оно состоит? Утром и вечером поют «Клятву» [1]1
Польский военный гимн на слова Марии Конопницкой.
[Закрыть], и поют ее поляки, а не русские, – здесь все в порядке. А вот что такое «культурно-просветительный офицер»?.. Этой должности в польской армии никогда не было. Ага, вот это, наверно, и есть большевистский комиссар. Однако в первый же день Новацкому пришлось поговорить с таким офицером. И он оказался не более русским, чем сам Новацкий. Бывший студент из Варшавы, это несомненно.
Правда, здесь введены какие-то новые порядки – кто их знает, на что это надо! Но, как бы то ни было, это польская армия.
А главное – это настоящая армия. Постепенно Новацкий убеждался, что гораздо более настоящая, чем та, в которой он служил в тридцать девятом году.
Присягу они тоже переделали. Но что в ней плохого? Он мог и хотел присягать польской земле и польскому народу. Союзническая верность. Пусть и это. А кому еще верить, кому присягать в союзнической верности, если не Советской стране? Он помнил тот день в Варшаве, когда он бегал вместе с другими к английскому и французскому посольству кричать «ура» в честь союзников, которые объявили войну немцам. И он кричал «ура», забывая, что уже рушились дома в предместье Окентье и на улице Новый Свет, что уже сыпались бомбы на аэродромы и никакие союзники не защищали гибнущую Варшаву, хотя обещали, обещали… Не помогли в первый день, и потом, после этих восторженных демонстраций – ничего, ничего в течение долгих трех недель! Чем платили нам за верность те союзники? Одними словами, патетическими словами, патетическими речами о героизме варшавян. Слова, – а нужны были самолеты, и ведь их обещали дать тотчас, обещали в первый же день войны ударить на гитлеровцев с запада…
Ни Англия, ни Франция, ни Америка не сделали для Польши ничего. Они не оттянули, не приняли на себя ни одной из семидесяти обрушившихся на Польшу вооруженных до зубов дивизий, ни одного фашистского солдата. Там, на западе, почти не было немецких войск, Гитлер собрал и бросил на восток все, что мог. Видно, был уверен, видно знал, что никакой помощи полякам, кроме громких слов, с запада не будет.
Нет, это был слишком горький опыт, чтобы Новацкий мог по-прежнему верить в западных союзников, предавших, покинувших поляков в страшный час.
Они предавали не только тогда. И не только Польшу. Ведь и теперь считается, что они воюют, а разве это война? Почему они не наступают с запада, когда все немецкие силы ринулись сюда, на этот тысячекилометровый фронт? Они обещают, болтают, как будто хотят оплатить кровь героических советских солдат речами об их героизме… Слова и слова… Союзники! А где их Одесса, где их Севастополь, где, черт возьми, их Сталинград? Если же они не хотели помогать большевикам, – зачем заключали договора, зачем обещали, зачем брали на себя обязательства? Союзники… Одно только давали нам – консервы, которые уже, видно, там, у них, в горло никому не лезли… Но сражаться – нет уж! Они бахвалились Норвегией, но кто там в конце концов сражался? Поляки, а не они. Такой шум подняли вокруг Африки, бог мой! И снова толкали вперед поляков, отважные вояки… И эта Африка, о которой они так шумят, – что это по сравнению с тем, что происходит здесь? Новацкий собственными глазами видел окрашенные в цвет африканских песков немецкие танки, переброшенные сюда, в Россию, из Африки. Видно, здесь немцам жарче, чем в Африке.
А большевики, какие они там ни будь, дерутся уже два года. И дали полякам оружие, ох, какое оружие! Уж если можно было кричать «ура» в честь тех, то тем более можно идти с этими. Не важно, что будет дальше. Пусть будет что угодно. Он не политик, а солдат. Ему дали возможность снова быть солдатом, и за эту цену он готов присягнуть в союзнической верности кому угодно. Тем более что русские солдаты – прекрасные солдаты. Что-что, а это они уже доказали и доказывают ежедневно.
Издеваясь над самим собой, он вспоминал брехню того – как была фамилия этого толстого помещика? – о «фанерных танках», о «липовой армии», весь вздор, которому он столько лет верил. Теперь русские показали свои «фанерные» танки, показали, какая она «липовая», их армия! Их можно ненавидеть, можно не верить им, но факт останется фактом – это армия героев. Они сражаются – сражаются с врагом, который был прежде всего врагом Польши, и они бьют этого врага. И благодаря им, а не кому другому, Новацкий тоже получил, наконец, возможность драться. И он, и столько других, которые до сих пор пропадали зря, – люди без правительства, без государства, без армии и полководца.
Он не видел лиц своих товарищей, кроме двух ближайших соседей справа и слева. Один был совсем молодой паренек, веснушчатый, со щеткой светлых волос. Второй был пожилой – видимо, рабочий. Их лица были мокры от слез. Внятно, отчетливо они повторяли слова присяги и плакали. Слезы быстро высыхали на теплом ветру, овевающем лица, и снова, и снова ручьями лились из глаз.
Сам он не плакал. В нем не было энтузиазма, была лишь холодная решимость, холодная и чуточку враждебная. Он перебирал в памяти долгие дни, прошедшие с тех пор, как он носил мундир. И свои прошлые дела, о которых никто не знал. И свою настоящую фамилию и настоящее звание, о которых тоже никто не знал. Но все это неважно. Важно то, что он выполнит присягу. Он будет честно драться, а больше от него ничего не требуется.
Он слышит всхлипыванье и позади себя. Плачут. Пусть плачут. Он тоже плакал когда-то, в тридцать девятом году – плакал от злобы, гнева, отчаяния. Сейчас нечего разжалобливаться. Он добился своего, он в армии, и в руках у него оружие. Им обещали, что не будут долго держать в учебном лагере, пошлют на фронт. Это основное.
В чем они могут обмануть его? Быть может, все разговоры о независимости Польши – лишь приманка? А потом они займут страну – и все. Именно при помощи этой польской дивизии, одной и второй. Но как все это еще далеко… Во всяком случае что-то изменится. А так – ведь все равно все пропало. Польша лежит в руинах под фашистским сапогом. А западные союзники? О, над ними не каплет! Что им в Лондоне, в Нью-Йорке до этой земли над Вислой? Вчера они отдали ее Гитлеру, завтра готовы отдать ее хотя бы Москве.
Но до всего этого еще далеко, сейчас незачем забивать себе голову – он всего лишь рядовой, ему остается только выполнять приказы. Да ведь может, наконец, случиться и так, что он погибнет в первом же бою, и ничего этого не увидит.
«Чтобы я мог жить и умереть, – повторяет он слова присяги, – как доблестный солдат Польши». Да, это лучше всего – умереть в бою! Но в бою, «как доблестный солдат Польши», а не в придорожной канаве, как бездомный бродяга. Не в тюрьме, как преступник.
Жить не хотелось. Какой смысл имела эта разбитая в сентябре тридцать девятого жизнь? Смысл имела только борьба, и только через смерть, именно через смерть его жизнь могла приобрести какой-то смысл. Только бы не носить в сердце этот сентябрь, навсегда отравивший каждую мысль и каждое чувство. Собственной кровью вытравить его из памяти, зачеркнуть этот сентябрь, чем угодно – пусть даже ценой службы большевикам…
Правда, из Лондона предупреждали, что, кто пойдет в эту дивизию, тот потеряет польское гражданство так же, как несколько лет назад потеряли его те, что пошли сражаться за республиканскую Испанию. Губы его искривились горькой усмешкой. Разве он давно уже не потерял этого гражданства? Гражданином какой страны он был, когда без командования, без приказов брел по сентябрьским дорогам, а в стране не было правительства? Гражданином какой страны он был, когда скитался с места на место, никому не нужный бродяга? Они, убежавшие за границу, бросившие на произвол судьбы Польшу в те дни, когда солдаты еще дрались, – они имеют право на польское гражданство. Так пусть же забирают себе это свое гражданство, немногого оно стоит. Пустое слово! Чтобы быть гражданином какой-нибудь страны, надо прежде всего, чтобы эта страна существовала, чтобы в ней были правительство и законы. Где оно, это правительство? Его нет. Тех господ в Лондоне правительством считать нельзя. Это просто трусы, сбежавшие при первых выстрелах, при первых бомбах. Дезертиры. Грязными дезертирами были, ими и остались. А он? – он снова солдат, без них и вопреки им. И вот он присягает. Да. И будет верен своей присяге. Он-то никогда не был и не будет дезертиром, тем более что теперь в этом мифическом Лондоне уже не с кем и считаться. Единственный человек, которого там можно было уважать, погиб. Всего несколько дней тому назад поступили сообщения об этом. Они были неясными, сбивчивыми. Но ясно было одно: командующий польской армией и премьер-министр эмигрантского польского правительства, генерал Сикорский, погиб во время авиационной катастрофы где-то поблизости от Гибралтара.
– Ясно, сами они его и угробили, – выразил общее мнение один из унтер-офицеров.
Что-то темное, неизвестное происходило там, в Лондоне, кому-то понадобилось устранить командующего. Это был единственный из них, на кого не падала ответственность за тридцать девятый год. Его еще раньше выгнали из армии, и он был частным лицом, когда на Польшу обрушились первые бомбы. Он не имел ничего общего ни с правительством, ни с генералитетом в то время, когда те заигрывали с гитлеровской Германией, когда потихоньку сговаривались с ней. Он не был с ними, когда они кричали о мощи польской армии, формируя кавалерийские полки вместо бронетанковых бригад. Он не был виновен в отсутствии оружия, отсутствии планов, во всем этом безумии, которое до сих пор неутолимой горечью наполняло измученные польские сердца. И именно его-то и не стало. Его просто убрали.
Рядовой Новацкий сразу поверил в это, даже и не слишком раздумывая. Сикорский был единственным человеком из всех лондонских политиков, на кого не распространялась жгучая ненависть Новацкого за сентябрьские дни. Не удивительно, что в конце концов для Сикорского не оказалось места среди них. И рядовой Новацкий включил эту смерть в свой счет к бывшим правителям Польши.
А все же не умел он, видно, справиться с этими господами, генерал Сикорский! Нянчился с ними, считался с их мнением, действовал с оглядкой на них. Не умел поставить на своем, пойти напролом. И вот позволил им вывести в Иран ту первую армию, которая здесь сформировалась. Допустил в сущности повторение того, что было проделано в тридцать девятом. Попросту говоря – дезертирство, причем и тогда и теперь перед лицом того же самого врага – гитлеризма. Но теперь еще сюда припутывают какую-то «высокую политику». Да, политиканствовать они не отвыкли, хотя Польше от этого не поздоровилось. Кто его знает? – может, не стоит так уж сожалеть о генерале Сикорском? Может, его честность была лишь еще одной из многих польских легенд, рассыпавшихся в прах при первом соприкосновении с действительностью?
Но если даже так, все равно. Пусть дезертирует кто хочет, он-то, рядовой Новацкий, дезертиром не будет. Вопреки им всем он будет верен присяге. Ох, если бы они могли его видеть – не рядового Новацкого, а того, кем он был раньше. Если бы они могли видеть его поднятую руку, слышать, как он, польский офицер, четко и внятно выговаривает слова этой присяги перед ненавистной для них трибуной, в этой ненавистной им стране! Польское гражданство… Плевать ему на это их гражданство, вместе с которым он был продан, брошен в жертву безумию сентябрьских дней. Теперь – пусть! Пусть! Не только перед польским знаменем, на котором парит, сверкая на солнце, польский орел, – нет, если бы они могли это увидеть, он был бы готов присягнуть перед красным знаменем любого советского полка. И что могли бы сказать ему, солдату, те – дезертиры?
Так с холодной яростью думал он, громко и отчетливо повторяя слова присяги.
Пусть это будет какая угодно дивизия, ясно одно – снова началась жизнь, которой будто и не было в течение долгих страшных четырех лет. И эти молодчики еще смеют считать себя лучше большевиков! В чем? В чем? Не большевики оставили Польшу без защиты, без оружия, не большевики бежали, как только началась война. Не большевики спасали свои чемоданы, забыв спасти свой родной народ. А теперь эти большевики показали, на что они способны. Показали под Сталинградом, показали в Ленинграде, показали на всем огромном тысячекилометровом фронте. Их правительство не покинуло поставленную под угрозу столицу, их полководцы не бросили армию на произвол судьбы, они умели вместе со своей армией сражаться, стоять насмерть и побеждать. С кем вздумали равняться эти польские щеголи, не имеющие понятия о современной войне, эти идиоты, предназначенные только для парадов, эти шуты, притворяющиеся военными, эти опереточные «вожди».
Рядовой Новацкий чувствовал, что его душит злоба при мысли о тех, и всю свою злобу он вкладывал в слова присяги. Он произносил эту присягу, как клятву мести не только врагам, против которых пойдет сражаться. Как клятву мести и тем, в первую голову – тем, в Лондоне.
Присягал и Малевский. В этот день он изо всех сил старался быть замеченным. Утром он с преувеличенным усердием бегал от одного солдата к другому, никем не прошенный проверял оружие, пуговицы, пояса, шапки.
– Чтобы все горело, как золото! – говорил он, заглядывая в стволы винтовок.
– Тебе-то что? – осадил его кто-то.
– Как – что? Ты знаешь, что такое присяга?
– Не хуже тебя знаю.
– Не хуже меня, а пуговица еле держится. Солдат!.. Заметят – всему взводу позор.
Во время присяги Малевскому повезло. Он стоял в первом ряду, почти против трибуны. Громко, чтобы никто не усомнился, выговаривал он слова присяги и в то же время краешком глаза наблюдал за своим соседом справа. Он заметил, что тот, правда, поднял по уставу три пальца, но молчит.
«Надо будет им заняться, – отметил Малевский, глядя в упор на трибуну. Пусть видят, как усердно, с каким энтузиазмом он присягает, смеясь над ними в душе. – Выдумают тоже! Присяга в союзнической верности… Посмотрим еще, как оно будет с этой верностью…»
Однако настроение у Малевского, признаться, было неважное. Лагерь дивизии его горько разочаровал. Здешние организаторы оказались умнее, чем он думал. Они знали, как можно увлечь людей. Ну, ясно, эти коммунисты, пообтершиеся по всем польским тюрьмам, научились, как к кому подойти… Они опьянили патриотизмом этих людей, измученных тоской по родине. Даже ксендза им откуда-то достали. Малевский долго присматривался к нему, не веря своим глазам: переодетый, что ли? Нет, ксендз оказался настоящим ксендзом, военнослужащие могли посещать богослужения, бывать у исповеди, принимать причастие – все по всем правилам. Утром и вечером в ротах пели «Клятву», и всякий раз люди неудержимо плакали при этом.
Малевский, как ястреб, накидывался на группы вновь прибывающих – некоторые приходили хмурые, озлобленные, уже успевшие побывать в местах заключения, черт знает где. Казалось бы – золото, а не материал. Кому же сильнее ненавидеть большевиков и все, что от них исходит? Но постепенно, и в недолгое время, даже их недоверие рассеивалось, перешептывания по углам умолкали. А когда было, наконец, получено оружие, Малевский окончательно почувствовал, что вся его работа разваливается. Нечего было и мечтать о том, что он задумывал сперва, на основе сведений, оказавшихся большей частью ложью. Оставалось только выискивать недовольных, у которых есть особые счеты с большевиками, находить людей, не могущих устоять перед соблазном наживы. Но и с деньгами у него было туговато: не легко было договориться о них, не легко и пересылать. Впрочем, он сам просил, чтобы с ним сносились как можно реже. Здесь это было далеко не безопасно. Вся его жизнь – день и ночь у всех на виду. Приходилось немало раздумывать, как отлучиться на назначенное свидание, не вызывая подозрений. Ближняя деревня была слишком мелким пунктом, и там сразу замечали всякого незнакомого. О том, чтобы связаться по радио, и думать было нечего. Малевский лишь вздыхал, вспоминая о временах, когда под крылышком польского посольства он мог разъезжать по всей стране.
Вдобавок ко всему он еще не ориентировался в обстановке. Ему, например, ничего не было известно о группе, которая вдруг тихо и незаметно была арестована властями.
Ничего не скажешь, чисто сработано! Наряд на разгрузку продуктов с барж. Кто мог заподозрить что-либо? Продовольствие часто получалось по реке, разгрузка барж была обычной работой. И только на третий день этот хлыщ из третьего батальона, на которого ему указали, как на помощника – и помощничек же, господи прости! – осторожно прошептал ему:
– А тех, которые пошли разгружать баржу, уже нет.
– То есть как так нет?
– А так. Фюить – и крышка!
– Неужели сбежали?
– Как бы не так, сбежали! Всех взяли с баржи, только их и видели. Сейчас, наверно, уже допрашивают.
– Кто там был?
– Черт их знает! Шестнадцать человек, все из разных частей. Как тут станешь допытываться?
Да, допытываться было, разумеется, небезопасно.
Вот так штука! Шестнадцать человек, без шума, без крика, исчезли, как сквозь землю провалились. Видимо, эти здешние знали больше, чем могло казаться, и умели присматриваться. Шестнадцать человек… Вероятно, организация, раз их взяли из разных частей. А они, наверно, и не замечали слежки, ведь скрыться отсюда было бы не так уж трудно. Взята ли вся организация, или только часть ее? Шестнадцать… Что это были за люди?
Здесь, на пространстве нескольких квадратных километров, скрещивались тайные нити, тянущиеся со всех сторон. Никакого координирующего центра не было, и каждый действовал на свой риск и страх. Нет, его руководители были уж слишком осторожны – ведь вот и ему они не пожелали назвать всех фамилий, и он все время ступал, как по топкому болоту, которое ежеминутно может расступиться под ногами и затянуть его на дно.
Надежд Малевского не оправдывали даже люди, на которых он рассчитывал наверняка. У них тоже закружились головы от этих патриотических песен, от этого оружия, от атмосферы непрерывного подъема. Ни с кем уже нельзя было говорить спокойно – часто люди не желали слушать самой осторожной критики, возмущались при выражении малейшего сомнения. И откуда их столько берется? Они шли, ехали, брели сюда пешком неведомо откуда.
Кампания, которую думали повести против советских инструкторов, тоже провалилась. Они знали свое дело, умели показать, объяснить, обучить – им не мешало даже слабое знание польского языка или полное незнание его: солдаты хотели учиться, хотели овладеть оружием, которое было им дано. Малевский и оглянуться не успел, как оказалось, что руководство группы советских офицеров в деле боевой и технической подготовки перестало кого-либо смущать; наоборот, наличие советских инструкторов солдаты рассматривали как еще одно доказательство доброй воли большевиков.
Глухая злоба кипела в Малевском. На кого же в конце концов можно рассчитывать? Люди приезжали с Енисея, из-за Уральского хребта, из северных лесов – и в течение нескольких дней менялись до неузнаваемости. Словно, бросая истрепанный штатский костюм, переставали быть беженцами, эмигрантами, жертвами войны, военнопленными и, надевая военный мундир, становились обыкновенными, полноправными людьми, становились просто солдатами.
А с солдатом, просто солдатом, разговаривать было трудно. У него были свои аргументы – орел на шапке, польский мундир и новое, совершенное, великолепное оружие. И эти аргументы были сильнее всего, что мог сказать Малевский. Даже такие козыри, как Львов и Вильно, не имели прежнего действия. Кое-кто отвечал на них Гданском, морским побережьем или Силезией, кое-кто с насмешкой спрашивал, не считает ли он, что Варшава и Краков стоят Львова и Вильно. Но бывали и такие – притом вовсе не коммунисты, – которые открыто заявляли, что нечего лезть к украинцам и литовцам, что из этого и раньше никогда ничего хорошего не выходило. Выплыла и старая история с Желиговским и его якобы самовольным захватом Вильно, вспоминали и об усмирениях крестьян на Волыни. Но, главное, большинство солдат и вовсе не хотело думать об этих вопросах. «Теперь, когда вся Польша занята немцами, не время об этом рассуждать, – говорили они. – Побьем Гитлера, тогда успеем договориться».
Конечно, были и такие, с которыми можно было столковаться. Но Малевский слишком хорошо понимал, что охотно слушающие его люди – прежде всего трусы, которые хотели в этой дивизии только приодеться и наесться и которым совсем не нравились постоянно повторяемые командованием обещания скоро отправить часть на фронт. Потом – спекулянты, привезшие под беженскими лохмотьями большие тысячи и пытающиеся пустить их здесь в оборот, – всевозможный сброд, держащийся где-то на грани уголовщины и готовый продать и купить всякого, кто вступил бы с ним в какие-нибудь отношения. С такими поговорить можно, но какой толк? Ни на какой риск никто из них не пойдет. Попытки организовать их были бы бесполезной потерей времени, притом сопряженной с опасностью провала.
Надо было искать иные способы, других людей. Ведь наверняка и здесь где-то растут неудовлетворенные амбиции, наполеоновские мечты и замашки, которые можно использовать. Но это длительная – быть может, очень длительная работа. И тоже весьма не легкая. Прежде всего – как пробраться в высшие сферы дивизии, где, быть может, и удалось бы что-нибудь сделать? На это нужны были полномочия из Лондона, а их у него не было. Там не подумали, что можно действовать и по этой линии, или считали, что для такой работы нужен другой человек. Что же касается гитлеровской разведки, которая тоже пользовалась его услугами, то о таких сложных приемах там и понятия не имели. У них если пропаганда, то как дубиной по башке! Если ложные сообщения, то излишне подробные, с явно сомнительными цифрами, фактами и со всеми данными. Он было пытался объяснить, что работать здесь не так-то просто. Они не понимали или не хотели понимать. Впрочем, сначала, несмотря на его предупреждения, они не верили, что с новой польской дивизией выйдет что-нибудь серьезное. В Лондоне до тех пор кричали, что «все это липа», пока сами в это не поверили, да и немецкую разведку убедили. А теперь поздно. И подумать только, что его же попрекали плохой информацией! Как их еще информировать, когда они воображают, что сами все лучше знают, когда у них всегда свои сведения, которые впоследствии оказываются вздорными? В сущности никто ему не помогал, а только мешали работать. Да и откуда им знать, как здесь работается? «Им неоткуда взять офицеров», «все ненавидят большевиков», «в Советском Союзе не осталось поляков, годных к военной службе», «это необученные солдаты» и прочее. Послушаешь – просто идиллия… а потом – таращат глаза и ничего не понимают. Да еще предъявляют претензии… Попробовали бы сами! Им-то хорошо сидеть в безопасности и мудрить, а ведь здесь каждый шаг, каждое слово – риск. На каждом шагу торчит и сверлит глазами «просветительный офицер», этакий большевистский прихвостень, которому, видите ли, охота «спасать мир». И ведь соблюдает эту «программу», как евангелие, и «подает пример», а как же! И в самом деле подает пример. И притом такой офицер доступен, солдат может ему все рассказать, во всем довериться, попросить у него совета. И на все вопросы у такого офицера готов ответ. И не так-то просто зачеркнуть его авторитет одним словом «коммунист» или там «еврейский дядька», «большевистский подголосок» – этому перестали верить. Одна надежда, что эти интеллигентишки будут молодцами, пока дивизия формируется на Оке, в глубоком тылу, а как дело дойдет до драки, начнут труса праздновать. Но и то… Черт их знает! Глаза у этакого горят, как у волка, – видно, сам верит в то, что говорит. Чем черт не шутит? Пожалуй, и на фронте начнет героя разыгрывать, а тогда уж пиши пропало!







