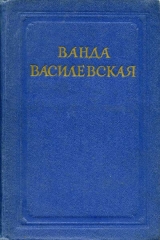
Текст книги "Реки горят"
Автор книги: Ванда Василевская
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 33 страниц)
– Ну, вот и все наше хозяйство, – сообщил усач, когда из соломы, один за другим, вылезли пятеро детей и, отряхиваясь, исподлобья, с опаской уставились на присутствующих.
– Сколько же вас тут?
– Пять, – ответил тоненький голосок.
– Ну хорошо, выходите, выходите на солнышко. Сядем вот тут на бревнах и поболтаем, – пригласила Ядвига и, перехватив быстрый взгляд, брошенный одним из мальчиков на директоршу, прибавила: – А госпожа директорша пойдет вон туда, подальше, посидит там на скамеечке под деревцом, подождет, пока мы поговорим.
Та хотела было возразить, но, встретив взгляд Ядвиги, подчинилась.
– А Леону тоже уйти или пусть останется с нами? – спросила Ядвига.
Один из мальчиков как бы невольно улыбнулся усачу.
– Можно Леону остаться? – спросил сам надзиратель. – Леона цыплята не боятся, правда?
Быстрые улыбочки промелькнули на лицах и моментально исчезли. Ядвига поняла, что усача можно не опасаться.
– Ну вот, – начала Ядвига. – Я из попечительства о детях. Из настоящего попечительства. А эта дама – из советского детского дома. Из такого дома, где у детей своя столовая, спальные комнаты и где они спят в белых, чистых кроватях. И у них есть игрушки…
Она вдруг остановилась, заметив, что детские лица, с самого начала недоверчивые, сейчас стали враждебными. Из-под всклокоченных волос на нее искоса смотрели насмешливые глаза. Худенький черненький мальчик усмехнулся иронической усмешкой взрослого. И эта усмешка, словно в зеркале, отразилась на личиках остальных. Они глумливо улыбались недетской, коварной улыбкой.
Нет, нет, не надо обращать на это внимания, не надо, чтобы заметили, что она видела эти улыбки. Ядвига почувствовала, как дрожат ее руки. Она не испугалась пьяных, наглых прохвостов, которые рассматривали ее, обмениваясь какими-то грязными замечаниями. А теперь она испугалась – испугалась этих детей, всего, что таилось за их мрачными улыбками. Собрав все силы, она преодолела дрожь в руках и повторила:
– У них есть игрушки. И мячи, и куклы, и качели во дворе. И книжки с картинками… У вас есть книжки?
Они переглянулись. Маленькая блондиночка, – видимо, самая храбрая из всех, – наконец, решилась:
– Нет, была одна, но без картинок… Только она давно уже потерялась…
– Ну, вот видишь… А я из комитета по попечительству о польских детях Мы пришли посмотреть, как вам живется в этом доме, и забрать вас, если вам плохо.
– В советский детский дом? – спросил хмурый худой мальчик, расцарапывая струп на локте.
– Нет. Может, временно и возьмем в советский, но потом в польский. Только уже в другой, настоящий детский дом.
– А то, если в советский, так я не хочу, – заявил мальчик.
– Почему же?
– Там запрещают разговаривать по-польски.
– Кто это тебе сказал?
– Директорша. И там зимой поливают детей водой и выбрасывают на мороз.
– И это тоже директорша тебе сказала?
– Когда он разбил стекло, – вмешалась девочка, чистившая раньше картошку, – директорша сказала, что если он и дальше будет так плохо вести себя, его отправят в советский дом, а там уж ему покажут!
– Там бьют железными прутьями по рукам.
– А здесь вас били? – спросила вдруг Кузнецова.
Дети замолкли, неуверенно поглядывая друг на друга.
– Ну что уж там, цыплята! Говорить так говорить. Ну, карты на стол! – добродушно подбадривал Леон.
– Били, – неохотно признался замурзанный косой мальчик. – Только не железными палками.
– И тарелок там не дают, из одной миски с собаками едят!
– Это тоже директорша сказала?
– И она и пан Чеслав. Они говорили, что отправят нас туда, если мы будем плохо себя вести.
– Ну вот, теперь сам посмотришь и убедишься, правда ли это. А здесь вам было хорошо?
Никто не ответил.
– Вы что же, всегда в этом сарае живете?
– Нет, зимой мы в кухне.
– И так целый день и сидите в сарае?
– Нет! – выскочила опять белокурая девчушка. – Только когда кто приезжает, мы сейчас же в сарай!
– Чтобы никто не увидел, – объяснил усач. – А посетителям говорят, что дети, мол, ушли на прогулку. Да кто сюда и заглядывал? Я вам правду скажу, дамочка, что если бы не я, так этих цыплят тут бы давно голодом заморили… Детский дом! Бардак, извиняюсь, они тут себе устроили, бардак, а не детский дом. Пьяны с утра до вечера, жрут, танцуют, патефон заводят, и так почти до утра… Зато спят потом до полудня, – так я тут хоть цыплят успею покормить чем бог послал. Так вот и бедуем…
– И вы никуда не жаловались, не сообщали?
– Э, кому жаловаться? Выгнали бы меня, только и всего. А что же с этими бедняжками будет? Так что, уж как придется… А если правду говорить, так просто крадешь, бывало, для них, что удастся, и все!
– Ведь посольство доставляло продукты?
– Доставляло, как же, доставляло… И Советы тоже давали, как же! Только разве на тридцать взрослых хулиганов напасешься? Да и то сказать, из посольства все больше вино и водку привозили, а нашим лучшего и не надо. Вон поглядите на ребят, в каких лохмотьях… Что было из одежи, они все на базаре меняли на всякую всячину. Оно и выходило, что разве я что раздобуду для детишек, а не то и перемерли бы. Потому у меня дома двое таких осталось, вот и жалко их. Взрослый мучится, так хоть может понять, что и как, а эти цыплята – за что? Вы только смотрите, как бы вас не обманули. Книг там, правда, никаких нет, а все-таки на складе еще кое-что осталось, не растащили бы напоследок. Пригодится малышам. – Он наклонился к Ядвиге и спросил полушепотом: – Правда это, дамочка, что их всех прогонят и другие порядки наведут?
– Правда.
– Вот и они то же самое говорили – ругались, страх! Ну, а мы не очень верили. Какие там другие порядки, думаем. Вон, когда вместо Лужняка Фиалковского назначили, тоже говорили, что все по-другому будет, а как было, так и осталось… Потому, надо вам знать, что эта наша директорша этому самому унтеру Лужняку сестрица будет. Как же, как же, родная сестра. Перед войной-то она, знаете, на легкий хлеб польстилась, ну, короче говоря, по рукам ходила, так что некоторые здесь ее и знать не хотели… Ну а теперь, когда вышло, что Лужняк, так сказать, жертва большевизма, так уж о ней этот адвокат Фиалковский позаботился, сюда ее устроил. Они тут все больше из полиции.
– Из полиции?
– Ну да… Довоенные полицейские. И ихние барышни, одному там она сестра, другому – еще что, а в общем своя компания. Цыплята мои столько от них натерпелись, что и сказать трудно. И боязно, конечно, как бы они совсем тут не пропали.
Дети, сбившись в кучку, жались друг к другу. Ноги их были босы, все в струпьях и царапинах. Ядвига увидела черную треснувшую пятку девчушки. Она знала эти глубокие болезненные трещины на пятках. Кожа лопается от грязи и не заживает, в черной щели видно живое мясо. Глаза у всех впалые, руки худенькие, хрупкие, с въевшейся под ногти грязью. Ей вспомнились дети из Ольшин в трудные летние месяцы перед новым урожаем, дети вдовы Паручихи… Только здесь не было даже молодого тростника, чтобы обмануть голод. Одежда в лохмотьях. Но не это самое страшное – детишек можно вымыть, одеть, откормить. Но сколько времени, сколько усилий понадобится, чтобы изменился взгляд их глаз – недоверчивый, враждебный, чтобы исчезли эти недетские, коварные улыбочки, это старческое выражение лиц…
Усач придвинулся ближе.
– Я так соображаю, вы из наших – полька, значит… А та, другая, – только вы не обижайтесь, – она что, советская?
– Да.
– Я насчет того… Если их в советский дом берут, – вы вон сами сказали так, – что же, из них и вправду русских сделают, из цыплят-то?
– Почему? Мы теперь открываем новые польские дома, берем в свои руки прежние. Может, пока они и побудут в русском детском доме, но с польской воспитательницей. А потом поедут в польский дом, под Москвой открывается.
Усач вздохнул.
– Раз уж вы так говорите – может, и я бы в этом детском доме на что-нибудь пригодился? Потому что, я вам скажу, давно уж бросил бы все это, кабы этих цыплят жалко не было.
«Грязные пальчики, черные от грязи ноги. Чьи же это дети? – думала Ядвига. – Маленький сынок на далеком кладбище в песках… Детские ручонки. Темные, широко раскрытые, прямо в сердце глядящие глаза… Чьи же это дети? Неизвестных, умерших родителей, затерявшихся в военной вьюге отцов и матерей, или мои, мои собственные?»
– Моего папу большевики за шпионаж расстреляли, – похвастался вдруг худой брюнетик.
– А у меня больше всех вшей, – не желая уступить первенства, заявила блондиночка.
Кузнецова записывала что-то в толстую тетрадь. Директорша беспокойно поглядывала на нее и на Ядвигу.
– Ну, как? Долго я буду тут сидеть? Арестована я, что ли?
– Мы уже кончили.
– Слава тебе господи! Все точно записали?
– Нет, еще не все. Вы еще будете любезны показать нам склад, потом составим опись инвентаря. Мы должны расписаться в приеме.
– Боже, сколько церемоний!.. Мне никакие расписки не нужны. Господин Фиалковский мне и на слово поверит, я не из таких, он меня знает…
– Оставьте вы в покое своего Фиалковского, он вами больше заниматься не будет. Не так-то скоро его выпустят.
– Да на что он мне? Подумаешь! Как-нибудь устроюсь. Очень мне нужен этот детский дом… Сколько я тут намучилась, нахлопоталась, да еще такие неприятности.
Склад был почти пуст. Полотняные простыни, грязные, сваленные в кучу, гнили у сырой стены, никогда не стиранные, ни разу не проветренные. Детского платья не было совсем. Зато в комнате директорши чемоданы лопались от шелкового белья.
– До этого никому нет дела. Это мое собственное белье.
– А откуда вы его взяли?
– Как это – откуда взяла? Не украла. Вот и все. Что это, уж приличной рубашки нельзя человеку иметь? Не всякая готова в большевистских лохмотьях ходить, – добавила она, окинув насмешливым взглядом выцветшее ситцевое платье Ядвиги и ее парусиновые туфли. – Впрочем, если кто привык… Но я приучена к другому.
Все обитатели дома теснились в дверях, наблюдая действия комиссии. Мужчины подталкивали друг друга локтями, вполголоса обменивались замечаниями. Кузнецова, наконец, оглянулась на них.
– А вам, господа, придется немедленно покинуть помещение.
Толпа взволновалась.
– Хорошие порядки! Куда же нам деваться прикажете?
– В канаве нам, что ли, ночевать?
– Пока что можете ночевать в сарае. Вот в том сарае, который вы предоставили в распоряжение детей.
– Я протестую, – вдруг выступил вперед молодой человек в стоптанных ночных туфлях. – Нет такого закона, чтобы можно было выбрасывать людей на улицу. Даже у большевиков нет.
– А на каком основании вы здесь живете? Прописаны? – тихо спросила Кузнецова.
Тот смутился и поспешно спрятался за других.
– Прописан? Зачем ему советская прописка? Ведь это наш, польский дом! – обозлилась директорша.
– Что ж из этого? Экстерриториальным было только посольство, а уж ни в коем случае не детский дом…
– Что же, и нам тоже отправляться на улицу? – пискливым, срывающимся голосом спросила Пенчковская, обнаруживая все признаки приближающегося истерического припадка.
– Восемь человек из персонала могут пока остаться. Детей мы сегодня забираем. Но завтра начнется ремонт и уборка дома. Так что советую заблаговременно поискать себе приют. Неквалифицированный персонал мы дольше держать не можем.
– Да что это, все персонал да персонал! А мы? – опять вмешался кто-то из молодых людей.
– О вас нам ничего неизвестно, и мы даже не понимаем, как вы сюда попали. Ваш возраст как будто для воспитанников сиротского дома не совсем подходит.
– А я как раз и есть сирота, – издевался верзила в расшлепанных ночных туфлях. – Ни папы, ни мамы – пожалели бы меня, дамочка!
– Я вижу, вам очень весело? – сухо спросила Ядвига.
– А почему бы нет? Плакать мне, что ли? Такая хорошенькая женщина авось сжалится над нами… Чем мы не кавалеры! Куда же нам деваться?
– Работать идите. Любой колхоз охотно примет, и крыша над головой найдется…
– Тю! Колхоз!.. Нет, этого от меня не дождутся… Казашки, наверно, бараньими тулупами пропахли – ни к ней притулиться, ни приласкаться…
– Вы в таком веселом настроении, что, пожалуй, нам лучше уйти.
– Лучше, чернобровая, куда лучше!
– Только сперва уйдете вы. Прошу немедленно взять личные вещи, но на этот раз исключительно свои. Понятно? Собственные! И уйти. Понятно?
– А если мы не уйдем?
– Тогда вас милиция попросит.
– Смотрите-ка, смотрите! Какие у нее связи с милицией…
– Что ж ты хочешь? На безрыбье… Без мужчины, оно тяжко. Ну, так хоть милиционер.
Кузнецова посмотрела на часы.
– Даю вам пятнадцать минут.
Притихнув, они разбрелись по комнатам, тащили какие-то гитары, мандолины, высокие сапоги. Все это сопровождалось непрерывной бранью и ссорами. Женщины всхлипывали, укладывая в чемоданы пестрые тряпки. Директорша мрачно восседала на проваленном диване.
– Будьте любезны, подпишите протокол, – обратилась к ней Кузнецова. – Здесь записано все, что мы от вас приняли, что у вас нашли на складе.
– А если я не подпишу?
– Можете не подписывать, – вмешалась Ядвига. – Вот гражданин Леон за вас подпишет, в качестве понятого.
– Могу, отчего же, – согласился усач. – Все точно записано, могу засвидетельствовать.
– И пока не явится новый человек, вы тут за все отвечаете.
– Я? То есть как это?
– Вы же сами просили какую-нибудь работу?
– Ага, так… Ну, тогда спасибо вам, дамочка. Здесь подписаться?
– Прочтите сперва.
– А я уже прочитал. Все в акурат верно. Сколько они добра запропастили, прямо сердце надрывается.
Директорша ломала руки.
– Значит, я, я буду под начальством Леона?
– Нет, вы пока останетесь в своей комнате, а завтра выяснится, как с вами быть.
– Что ж, мне сидеть в комнате, как арестованной?
– Удивительно, как часто вы упоминаете об аресте!
– А вы думаете, я боюсь? Известно, если человек порядочный, так большевики его обязательно в тюрьму посадят. Уж они не дадут приличному человеку гулять на свободе. Да еще с мандатами… знаю я таких!
Ядвига вышла из дома вслед за группой его непрошенных обитателей. Она чувствовала, что ноги у нее дрожат от усталости. Леон вызвался проводить детей, и те шли, цепляясь за него со всех сторон, как стайка вспугнутых и все же любопытных воробышков. Их радовала эта прогулка, столь редкая в их жизни, ограниченной прямоугольником двора. Увидев, что Ядвига хочет попрощаться с ними, они испугались.
– Не надо бояться. У меня еще много дел в городе, а вечером я непременно загляну к вам. Леон вас проводит, а там вас ожидает панна Люся.
– А она будет говорить с нами по-польски?
– Разумеется.
– А то я и по-русски умею, – похвалился чернявый мальчонка.
– Вот видишь, какой ты умница. Но там вас и по-польски поймут.
Она постояла еще с минуту, глядя на удаляющихся детей, и повернула к домику, где помещалось местное правление Союза польских патриотов, – это был тот самый домик, где раньше была канцелярия посольского уполномоченного. Вот лесенка, по которой она поднималась тогда, чтобы предстать перед надменной барышней в локонах. Боже, как давно это было, вся жизнь изменилась. Нет больше Лужняка, нет его заместителя, этого гнусного адвоката с выпученными рыбьими глазами, нет всего этого аппарата, как выяснилось – целых ста человек. Сто человек, получавших жалованье, продовольственные пайки, одежду, сто человек, утопавших в довольстве среди моря польской нищеты! И вот теперь этот дом…
Госпожа Роек встретила ее шумными возгласами:
– Что так долго? Я уж хотела звонить, узнавать… И на что ты похожа? Как с креста снята! Протокол есть?
– Есть.
– Сколько детей?
– Пятеро.
– Сколько?
– Пятеро детей. И тридцать человек взрослых.
Роек схватилась за голову.
– Ну, знаешь, дитя мое, если бы мне раньше такое рассказали, я бы и не поверила. Стася, Стася, – позвала она секретаршу, – садись за машинку, Ядвига тебе продиктует. Надо послать отчет в Москву.
Ядвига прислонилась к стене, пальцы Стаси забегали по клавишам. Как хорошо в этой маленькой комнате, какое милое лицо у госпожи Роек. И эта Стася, с первого взгляда такая невзрачная, маленькая, а присмотришься – и видишь, какое тонкое, даже красивое у нее лицо. Со вздохом облегчения Ядвига принимается диктовать. Перед глазами так и стоит этот злополучный детский дом, наглые морды полицейских, кривляющаяся директорша.
Но с этим покончено раз навсегда. Сейчас этих пятерых детишек купают, моют, вычесывают, сейчас они уже своими глазами убедились, что в советском доме детей и вправду укладывают в чистые белые кроватки, кормят и никто никого не бьет железными прутьями.
– Кончишь диктовать, пошла бы отдохнуть, – замечает госпожа Роек. – Ужас как ты выглядишь!
– Нет, я не устала. Если бы можно было достать машину, я бы съездила еще во второй дом. Лучше не откладывать.
Да, откладывать нельзя. Ведь и там тоже есть какие-то дети – вероятно, горстка детей среди шайки взрослых пьяниц. И вдобавок там может не быть и Леона, даже этого единственного Леона.
«А между тем и здесь есть немало дел, – думала Ядвига, – вот хотя бы недавно прибывший и еще запломбированный вагон с продовольствием, ожидающий разгрузки. Нет, когда тут отдыхать!»
Словно угадав ее мысли, госпожа Роек припомнила:
– Ах да! Продовольствие? Его уже регистрирует Жулавская.
Чудесно! Значит, одной заботой меньше. Жулавская со своим вечно кислым лицом, с поджатыми губами, сидит и записывает, следя глазами василиска за всеми, кто разгружает вагон, за всяким, кто касается мешков и ящиков. У нее-то не пропадет ни крошки, она не допустит ошибки ни на один грамм. И самое странное, что эта Жулавская – работающая Жулавская – ни на иоту не изменилась, осталась точь-в-точь такой, какой была. Когда она заявила, что хочет работать, это всех изумило. Да и само это заявление было сделано в ее обычном тоне, словно она решалась принять мученический венец. И вдруг Жулавская оказалась незаменимым работником. Она была несносной, капризной по-прежнему, а все же приходилось признать, что это незаменимый работник. Она смотрела всем на руки, словно была единственным честным человеком в мире, не доверяла никому. Но после распущенности, к которой люди привыкли во времена польской делегатуры и хозяйничанья уполномоченного, это было как раз то, что нужно. И что только творилось у нее в голове? Почему она вдруг взялась за работу? Это было так же непонятно, как и то, что она ни с того ни с сего подписала тогда телеграмму в Москву. Во всем этом было что-то подчеркнутое, демонстративное, чувствовался какой-то протест. Против кого? Против зятя, который сбежал, обокрав ее дочь? Против бывшего уполномоченного и его чиновников, которые принудили ее уехать в совхоз? Или против всего польского лондонского правительства, которое не проявляло никаких забот о ней, а теперь окончательно бросило «на произвол большевиков»? Никто не мог бы ответить на эти вопросы, никто с ней не говорил об этом, и она никому не исповедовалась. Но она работала, а это было главное, – и работала прямо-таки с ожесточением.
Вот и сейчас – как она взялась за этот вагон с продовольствием, который уже несколько дней мучил Ядвигу!.. Теперь, слава богу, об этом вагоне можно не тревожиться. Но есть, кажется, еще что-то… Ах да, обувь, присланная для распределения. Но главное – это дети, все эти дети, которых необходимо разыскать, отогреть, накормить, которыми необходимо заняться.
Маленькие беспомощные ручонки, крохотные ножки… Резкая боль пронизывает сердце. Неподалеку, в соседнем городке, где тоже есть польский детский дом, быть может и сейчас какие-нибудь детишки сидят в сарайчике и гложут жалкие объедки со стола директорши.
– Милая моя, золотая, позвоните, попросите, чтобы дали хоть грузовик. Непременно надо поехать сегодня же!
– А с Кузнецовой ты говорила?
– Она поедет, я знаю, что поедет! Вот только бы машину!
Грузовик нашелся. Ядвига, не слушая возражений Кузнецовой, усадила ее в кабинку шофера, а сама села в кузов. И вот уже исчезли городские домишки, промелькнула тополевая аллея. Вокруг без конца без края раскинулась широкая степь. Точь-в-точь как там, в совхозе. Но совхозная жизнь для нее, Ядвиги, кончилась. Какой тихой и спокойной она кажется теперь по сравнению с водоворотом, в котором Ядвига сейчас закружилась. Что они поделывают сейчас там, в совхозе? Близок вечер, люди возвращаются с полей, скоро будут доить коров… Как там Матренин ребенок? Непременно надо написать Матрене хоть открыточку. Может, она за это время получила известие от мужа. Не приходится рассчитывать на то, что Ядвиге удастся туда съездить. Интересно, кто теперь живет в комнате, где обитали они с госпожой Роек и Олесем? Вся жизнь Ядвиги стремительным потоком рванулась вперед. И это она, Ядвига? «Деятельница», – писал о ней Шувара в письме. Нечего сказать, хороша деятельница! Хотя… Разве раньше она выдержала бы разговоры, какие сейчас ей приходится вести ежедневно? Разве нашла бы нужные слова? Ей вспомнилось пьяное, опухшее лицо этого наглеца, который сегодня, час назад, бросал ей в лицо гнусные оскорбления. Раньше она бы, наверно, сквозь землю провалилась, а теперь спокойно смотрела в эту пьяную морду полицейского, обкрадывавшего детей, – и он испугался, притих под ее взглядом. Неужели человек может так меняться? Или же он неожиданно открывает в себе то, что в нем было и раньше, но таилось где-то на дне? Нет, это не так. Того, что есть в ней сейчас, наверняка не было в Ядвиге, которая когда-то переносила воркотню матери, не знала, куда себя девать, что с собой делать, в Ядвиге, которая была, как лист на ветру. Казалось бы, именно теперь она похожа на лист на ветру – никогда не знает, что принесет следующий день, не знает, где очутится завтра. Но зато она знает одно: что идет по верному, ясно определенному пути, и идет по собственной воле и решению. Сама помогает прокладывать этот путь. Сейчас те пятеро запуганных детишек уже знают, что им нечего опасаться. Она не уберегла своего маленького сына. Но она убережет, сохранит, приведет в родные дома в далекой Польше сотни и сотни польских детей, рассеянных по советской земле, тысячи детей, о которых до сих пор столько кричали, но по-настоящему заботились только эти большевики. Собственные соотечественники лишь обкрадывали их и обрекали на гибель. Но она, Ядвига, будет среди тех, кто с помощью русских спасет их и вернет родным домам, родной стране.
И это страстное, непреодолимое стремление – немедленно уничтожить обнаруженное зло – тоже было новым для Ядвиги.
Ей вспомнилась маленькая Авдотья, внучка Петручихи, вспомнилась и вся ольшинская трудная жизнь, горькая доля ольшинских крестьян. Да, конечно, Ядвига и тогда жалела всех. Она плакала, когда Петручиха мучилась без врача с больной ногой, когда она умерла без медицинской помощи. Плакала, когда пришло сообщение, что умер в тюрьме Сашко, брат Ольги. Плакала, когда летом, перед новым урожаем, умирали с голоду дети. Плакала – и только. Ей казалось, что так всегда будет, что иначе и не может быть. То, что крестьянские дети ходят в лохмотьях, что знахарство заменяет медицинскую помощь, что каждую весну в избы заглядывает голод и что всю жизнь люди в сущности никогда не бывают сыты, – все это казалось ей непреодолимым, как сила природы. Можно лишь немного и в отдельных случаях облегчить зло.
– Куда девался хлеб? – строго спрашивала мать. – Опять снесла в деревню? Что ж, ты думаешь всю деревню накормить, что ли?
В ней закипал гнев. Разумеется, ей не накормить всю деревню. Но хоть одного или двух детей.
Однако, когда она давала кусок хлеба одному голодному ребенку, на нее жадно смотрели десятки. И она возвращалась домой опечаленная, еще больше уверенная, что ничего не поделаешь и что, хотя мать не права, в ее словах есть какая-то доля истины. Только эту истину Ядвига не могла принять, не могла с ней примириться.
– Так было, так будет, так уж устроен мир, – говорила госпожа Плонская. И Ядвига могла возразить только одно:
– Это несправедливое устройство.
Но как его изменить, она не знала.
Между тем, оказывается, средства есть. Ведь уже за первые месяцы после прихода Красной Армии в Ольшины, еще до высылки Ядвиги, вся жизнь деревни, весь этот веками установленный и якобы нерушимый порядок вещей совершенно изменился.
И так же, как в Ольшинах, он мог измениться повсюду. Сейчас трудно даже понять, как она раньше могла не знать этого, почему ей все казалось таким безнадежным и мрачным. Теперь словно отыскались и распахнулись двери в высокой, глухой стене, открылись широкие пути, ведущие в светлую даль, в цветущие сады, в настоящую жизнь, радостно улыбающуюся всем.
«Вот так будет и в Польше, – думалось Ядвиге под свист теплого степного ветра. – Не будет голодных детей, не будет Карвовских, обманывающих крестьян, не будет безграмотных женщин, не будет безработных – и не будет людей, которые попадают в тюрьму за то, что стремятся к всеобщему благу. Такой должна быть Польша, куда мы заберем отсюда всех этих детей, выкинутых из родных гнезд, обиженных, оставленных без присмотра, брошенных на произвол преступников и проституток. И нужно, чтобы, прежде чем наступит время возвращения на родину, дети уже знали, что и сами они не должны никого обижать, что в стране, куда они поедут, будет работа для всех и возможность учиться для всех и что они будут расти среди такой же всеобщей любви и заботы, среди какой растут дети в Советской стране».
Как странно – ведь еще совсем недавно ей и в голову не приходило, что на ее долю выпадет изменять жизнь, строить заново жизнь – такую, какой она должна быть… Страшно хотелось заняться не только детскими домами этого района. Хотелось знать, как обстоит дело и в других местах, всюду ли уже сделано все, что следует. Попасть в польский детский дом под Москвой, куда она должна поехать, когда закончит дела здесь. Но дело не в одном этом доме, пусть даже образцовом. Она попросит, чтобы ей поручили заботу о всех детских домах, о всех сиротах. А когда уже можно будет ехать домой на родину, в Польшу, она поедет вместе с ними.
Теперь уже иначе выговаривалось в мыслях Ядвиги это слово: Польша. Иначе выговаривалось слово: родина. И сама Ядвига не была больше как лист на ветру. Она знала свое место сейчас и видела свое место в будущем. Дети! Это будут счастливые дети, растущие в счастливой стране, где никто не будет умирать с голоду, где будет врач для каждого ребенка, и белые кроватки в больницах, и светлые классы в школах, и сады, и парки…
Шумел, свистел теплый ветер. Машина тряслась и подскакивала на ухабах. Но Ядвига была рада, что села не в кабину, а в кузов. Кругом раскинулась широкая степь, и из кабинки шофера она не охватила бы взглядом всего этого раздолья.
Солнце медленно катилось вниз. Они успеют доехать еще засветло, теперь уже недалеко. Она не боялась больше. Что ж, еще какая-нибудь директорша или какой-нибудь директор, еще какие-нибудь незаконные жильцы… Но кто может ей помешать делать то, что она делает, – спасать детей от нищеты, горя, заброшенности, спасать детей для новой родины? Она чувствовала себя ответственной за эту новую родину, – и была огромная радость в мысли, что она, Ядвига, вместе с другими строит здесь, на гостеприимной братской земле, фундамент новой жизни.
Пусть это только дети, птенчики, выброшенные военным ураганом из гнезд. Но из них вырастет новое поколение новой родины. Они в недалеком будущем встанут на место Ядвиги и других. И надо передать им, влить в их сердца все уважение к приютившей их стране, всю любовь к ее людям, все то новое, к чему она, Ядвига, здесь пришла, что так поздно она поняла, – все великое и прекрасное, заключающееся в слове «Родина».
Нет, теперь она уже не могла бы, не сумела бы жить, как раньше, в том маленьком, тесном мирке, который столько лет казался ей единственным существующим миром. Что ж, пожалуй, она и в самом деле становится деятельницей, как сказал Шувара.
Перед ее глазами вдруг вынырнули верхушки тополей, и грузовик стал спускаться в долину, где поблескивала серебром сеть арыков и виднелись заросшие виноградом домики соседнего городка.
Где-то здесь, среди этих домиков, расположен и детский дом, который надо принять. Но даже сейчас, соскакивая с машины, Ядвига все еще видела перед собой другой дом – дом своей мечты, светлый, прекрасный дом для всех детей, дом, полный смеха, радости и счастья, далекую, но уже видимую, уже достижимую родину.







