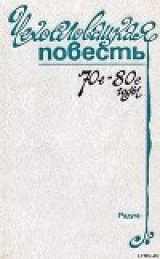
Текст книги "Скальпель, пожалуйста!"
Автор книги: Валя Стиблова
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 15 страниц)
Вечером того дня, когда оперировали студентку Яну, мы с Иткой пошли на концерт «Пражской весны». В фойе встретили Кртека и Зиту. На нем была безупречная черная тройка, Зита, в длинной бархатной юбке, держала его под руку. С тех пор как у него умерла дочь, я никогда не видел его таким веселым и элегантным. Выходит, все-таки я не ошибся, перехватив сегодня тот многозначительный взгляд!
При виде нас они немного смутились. Мы предложили после концерта зайти куда-нибудь в кафе. Там они нам сообщили, что хотят быть вместе – но в клинике еще никто не знает, – и попросили быть у них свидетелями.
Зита вдруг взглянула на меня с какой-то неуверенной, виноватой улыбкой – и я еще раз искренне и горячо заверил, как рад их счастью. Каким наивным ей, наверно, должен был казаться тот обет, который принесла она когда-то! Вдвоем они были счастливы. Кртек всегда говорил отрывисто, насмешливо – теперь у него в голосе звучало умиление влюбленного. Итка не отводила изумленных глаз от его головы. Вечно нечесаная седая шевелюра была приглажена щеткой и напомажена.
Пили вино и понемногу привыкали к сенсационной новости. Кртек будет уже не один. Я думал об этом с удовольствием. И все-таки стало немного жаль, что вместе с Зитой уходит безвозвратно в прошлое то давнее романтическое воспоминанье, не отделимое от моей молодости в клинике.
5
Еще об одной травме я вспоминаю. Несчастный случай с благополучным завершением. Произошло это много лет назад. В нашей семье по сей день хранится о нем память: цирковой фургон.
Дети тогда были еще маленькие. По воскресеньям мы их брали на природу. Нам было безразлично, куда ехать. Еще теперь встают в моем воображении прогретые солнцем вырубки в брдийских лесах, запах хвои. Итка с добела выгоревшими волосами, дети, забавными зверятами крутящиеся возле нас.
А потом тетка нам отписала участок. Кусок заброшенной земли, где рос только одичавший кустарник, две-три елочки и березы, огромный, законом охраняемый дуб и всевозможные лесные и полевые цветы. Тетка все собиралась построить там дачу, но так и не собралась.
Дети участок страшно полюбили. Пришлось купить им палатку, и они там стали «устраивать резиденцию». Итку это сердило. Ей не хотелось ездить постоянно в ту же местность. Она стала нас упрекать, что у нас собственнические наклонности.
– Надо его продать, – говорила она. – Дачи нам все равно не построить, к чему тогда этот кусок земли?
– Разве что фургон поставить, – сорвалось у меня с языка.
Дети оживились. Фургон? Вот это да! В нем можно будет готовить еду, укрыться от дождя, а то и ночевать!
– Ты правда бы его купил? – приставали они.
– Да он не продается, – отмахивался я. – А если бы и продавался, все равно не хватит денег.
Мы обо всем этом давно забыли, когда произошел тот случай с цирковой наездницей. Ее привезли к нам в клинику прямо с манежа – хрупкую, красивую девушку, едва достигшую совершеннолетия. На ней еще был костюм, в котором она выступала: коротенькая расшитая блестками юбка, серебряная кофточка в обтяжку и сверкающая диадема в темных волосах. Правая рука бессильно свисала с носилок. Наездница не удержалась в седле, и конь на всем скаку проволок ее несколько кругов по арене. Она хотела высвободиться, но вожжа обмоталась вокруг запястья. В какой-то миг конь резко дернул головой, и острая боль пронзила руку – она безжизненно повисла.
В клинике в то воскресенье дежурил я, тогда еще сравнительно молодой ассистент. Увидев парализованную руку, я решил, что произошел разрыв плечевого сплетения с повреждением спинномозговых корешков. Подобные травмы мы знали. Они случались у мотоциклистов, попавших в аварию; у лыжников, зацепившихся палкой за дерево… Операция в таких случаях не давала практически никаких результатов..
В коридоре ждал отец потерпевшей. Я вкратце объяснил ему положение дел. Не стал скрывать, что пострадало плечевое сплетение. Придется смириться с тем, что рукой она владеть не будет. Он чуть не бросился передо мной на колени. Умолял сделать все, что только в наших силах. Как сейчас вижу его – щупленького, с фигуркой жокея, с беспокойной птичьей головкой, заламывающего в тоске руки.
Со мной дежурил Ружичка. Мы опять пришли к девушке и начали тщательный осмотр. Выяснили, что плечо невероятно болезненно и отечно. Контуры его казались измененными. Может, это обыкновенный вывих плечевого сустава, который просто давит на плечевое сплетение? Мы тут же сделали рентген. Наше предположение подтвердилось.
Мы вправили вывих. Боль утихла, больная жаловалась только на сильное онемение в конечности. Впервые ей удалось едва заметно шевельнуть пальцами. Меня это страшно обрадовало, но отцу ее, ждавшему в коридоре, я пока не отважился ничего обещать. С большим трудом мне удалось уговорить его идти домой и подождать до завтра. Утром мы показали потерпевшую профессору. Руку она не подняла, но оказалась в состоянии слегка сжать наши пальцы. Профессор тоже находил, что степень повреждения нервов легкая. Дальнейшие обследования это подтвердили.
Восстановление двигательных функций шло полным ходом. Отец буквально плакал от счастья и на каждом шагу засыпал меня изъявлениями благодарности. Не хотел понять, что заслуга моя, в общем, невелика. Окажись поврежденным сплетение, мы едва ли смогли бы помочь, – просто ей повезло. Счастливо отделалась. Вскоре ее перевели в отделение реабилитации. Пробыла она там недолго. Выписалась, и мы потеряли ее из виду.
Прошло несколько месяцев, и в квартире у нас неожиданно появился ее отец. Он опять в Праге, и хочет сообщить, что дочь вернулась на арену. Просит нас прийти на представление с детьми, если таковые имеются. Я позвал детей. Они запрыгали от восторга. Потом, правда, оказалось, что мы их только отвезли и после представления забрали. Не смогли остаться.
Вернувшись, все трое взахлеб делились впечатлениями. Рассказали, что ездили потом на пустыре на пони, что пан Митерна, оказывается, укротитель и вместе с братом именуется дуо Митернас…
Уж и не помню всего, что они тогда говорили, – одно только тактично обошли молчанием: что выпросили у Митернов цирковой фургон.
Как все это произошло, мы не без некоторых усилий выяснили позднее. Началось с того, что Митерны спросили их, что бы они хотели взять: кошечку, обезьянку или дрессированную собачку. Они устояли перед всеми соблазнами. Дело повел Милан. Спросил, не продается ли где-нибудь цирковой фургон – может, они случайно слышали.
Пан Митерна почесал затылок.
– Вы хотели бы цирковой фургон? Но ведь вам некуда его поставить!
Все трое с жаром стали объяснять, что у нас есть участок. Дачи на нем мы выстроить не можем, потому что на это нет денег. Папа сам сказал: «разве что фургон поставить». Боится только, что он очень дорогой.
Дуо Митернас долго совещались за дверью. Потом вошли и стали расспрашивать, где наш участок. Если детям так хочется, можно фургон уступить. Убедили их ничего нам заранее не рассказывать, чтобы получился сюрприз.
Митерна был старый плут. После операции дочери не раз делал попытку всучить мне деньги. Ничего не добившись, задумал, видимо, сделать подношение в таком виде.
Милан сказал ему, что у него скоплено шестьдесят крон. Крон двадцать пять было у Ондры. Братья Митерны заверили, что этого хватит, потому что фургон старый. Потом назначили детям свидание. Те отвертелись от занятий, передав через школьных товарищей, что им надо помочь дома при переезде (тут они, в общем-то, не солгали), сели с Митернами в фургон и откатили его на участок.
Несколько дней потом все трое ходили как заговорщики. Мы видели: творится что-то необычное. Но ломать голову над этим было недосуг. В воскресенье отправились, как всегда, на участок. Всю дорогу сыновья были невероятно возбуждены, и мы никак не могли догадаться, в чем дело. Милан был красный и потный. Ондра, наоборот, – бледный, словно ему нездоровилось. Эвочка прыгала вокруг, лопотала какими-то загадками, с трудом удерживаясь от прямых намеков, но каждый раз один из братьев предупреждающе давал ей тычка.
Уже когда открывали калитку, мне показалось, из-за деревьев что-то просвечивает. Я не фиксировал на этом внимания, но, когда в ту же сторону начала всматриваться и жена, меня вдруг охватило неприятное предчувствие. Сделали несколько шагов – и тут увидели его. Он стоял справа, под деревьями, красиво выкрашенный в желтый цвет, с зелеными ставнями и лесенкой, на окне занавесочки, а на двери тяжелый висячий замок. Мы с Иткой остолбенели.
Как очутился здесь этот фургон? Его вам дал пан Митерна? Но с какой стати он его дал? Вы же прекрасно знаете: без денег ни от кого ничего брать нельзя!
Милан затрепетал, но сумел сохранить присутствие духа.
– Никто нам ничего без денег не давал, – сдавленно произнес он. – Мы купили его за пятьдесят крон. У нас есть бумага.
Я думал, меня хватит кондрашка.
– Ах, вы его купили? За пятьдесят крон? А вы не понимаете, что такая вещь пятьдесят крон стоить не может?
– Может. Пан Митерна сказал, фургон старый и по дороге может у них развалиться. Они бы все равно его где-нибудь оставили, у них теперь другой. Они рады-радешеньки избавиться от старого.
– Вы спятили! – кричал я на них. – Он дал его, да будет вам известно, из-за того, что я лечил его дочь. Вы знаете, как это называется? Мзда! Мне он не смог ничего всучить – так провернул это дело с вами. Мы таких подношений принимать не можем! Сейчас же еду за ним и возвращаю фургон.
– Они уже уехали, – ухмыльнулась Эвочка. – Он сказал, они уезжают, а возвратятся через год.
Я был взбешен.
– Тогда я обращусь в службу безопасности, я не хочу сесть из-за вас в тюрьму!
Сыновья на ступеньках злосчастного фургона были тише воды, ниже травы. Итка смотрела, смотрела на них, прикусила губу и неожиданно залилась хохотом.
– Так вы, значит… приобрели фургон? – вся красная, еле произнесла она, давясь от смеха. – Купили за пятьдесят крон фургончик, а папа вас еще ругает!..
Я растерянно посмотрел на нее. Уж не случился ли с ней истерический припадок от этой истории – она изнемогала от хохота.
– Наши детушки… предприимчивые… Шутка ли, такой фургон! В нем можно готовить еду, можно и ночевать…
– Видишь, папа, и мама то же говорит… – пробормотал Милан, загораясь надеждой.
– Оставим его, – упрашивали все трое, – его ведь можно через год вернуть, когда Митерны опять приедут…
Итка, прослезившись от смеха, вытирала глаза:
– Ну что тут можно возразить? Через год вернем. Попробуйте-ка возвратить его теперь, когда дуо Митернас и след простыл! Детки наши мало сказать предприимчивые – они у нас продувные бестии…
Поняв, что дело выиграно, дети схватились за руки и стали возле нас скакать.
– А где эта бумага, Милан? – вспомнил я.
Он тут же протянул ее мне. Бумаг, собственно, было две. Одна была письмо. В нем старый Митерна снова благодарил меня и извинялся, что предпринял этот шаг на свой страх и риск. «Вашим детям так этого хотелось, а вы, конечно, не пошли бы у них на поводу…» – писал он. Другая была – заявление, где значилось, что он, Митерна, оставляет, согласно устной договоренности со мной, у нас на участке фургон, который ему негде хранить, и разрешает им пользоваться, пока его не востребует. Было ли это правильно с точки зрения юридической? Честное слово, не знаю, но меня эта бумага успокоила.
Милан вытащил ключ. Внутри был столик, стул, две койки, на стене – полка с двумя-тремя плошками, в углу – умывальник. Эва не расставалась всю дорогу с рюкзаком, не доверяя его даже братьям. Там оказались бакелитовые тарелки и чашки, купленные ею на собственные сбережения.
У нас была крыша над головой.
Много воды утекло с тех пор, но и сейчас, когда мы собираемся все вместе, кто-нибудь непременно вспомнит, как дети «купили» фургон.
Он и теперь стоит. И хоть мы наконец-то выстроили на участке дачу, куда приезжает Эва с мужем, фургон наш все еще как новый. Нет-нет да кто-нибудь подремонтирует его, подкрасит… Он живописно зарос малинником, а перед ним лужайка с ромашками и колокольчиками.
Мы с Иткой отказались взять у Вискочилов в Югославию прицеп, помимо прочего, из уважения к нашей заслуженной цирковой повозке. А ночевать мы там действительно ночевали по субботам. Воду притаскивали из ручья, пищу разогревали на печурке. Спали мы с Иткой на койках, а дети – снаружи, в палатке. Вечерами все вместе полеживали на траве и смотрели на звезды. О чем только не говорилось в эти часы: о болезнях и смерти, о том, почему человек должен работать и почему нельзя быть бесчестным. Иногда дети задавали вопросы, которые не отважились бы задать днем. Случалось, что мы все негромко пели.
Иногда играли в такую игру: высказывали всё, что каждый думает о ком-нибудь из нашей семьи, включая, разумеется, и меня с Иткой. Мы узнали, что приносим мало денег на расходы. Что не помогаем делать уроки, как другие родители… Но что с нами, в общем-то, весело, Правда, я иногда ни с того ни с сего закричу. А Итка частенько подсмеивается, что бывает обидно… Милану все говорили, что он воображала. Сперва он сердился и даже ревел, но в дальнейшем задумался и начал за собой следить. Ондра был упрямец – всегда хотел сделать по-своему. Когда ему об этом стали говорить, решил работать над собой. Шло это у него довольно туго, но ведь он так старался, заставляя себя идти на уступки. У Милана и Эвы это вызывало к нему уважение.
Да, мы любили наш фургон. Летом там душисто пахли связки сохнущих грибов, сосновая кора, которую мы приносили на растопку, и тимьян – вечером. Пища была простая, ели большей частью, сидя на ступеньках с ломтем хлеба в руке. Лампа была керосиновая – никакого тебе электричества.
Бывало, заснут в палатке наши дети, а мы с женой еще походим по лесу, поговорим о них. И думалось, что развиваются они правильно, эмоциональная жизнь у них достаточно богата, чтобы вырасти хорошими людьми…
Нет, вряд ли угожу я своему корреспонденту: вместо того, чтоб отыскивать что-нибудь занимательное в нашей профессии, ударился в воспоминанья…
Ну а что, в самом деле, может занимать его в этой области? Происходящее у нас ежедневно – обычные наши врачебные будни. Кто, кроме специалиста, может оценить, какой новый прием при этом был использован и как мы таким образом спасли, казалось бы, совершенно безнадежного больного?
Корреспондент, конечно же, рассчитывает, что говорить я буду лишь о положительном и конструктивном. Ну а куда деть ту дурацкую историю, которая была, скажем, у нас в хирургии? Недосмотр, жалоба, комиссия по расследованию… И больше всех едва не пострадал наш практикант Велецкий.
Случилось это где-то в начале весны. Дни были еще холодные, а в отделениях топили слабо. Велецкий дежурил в хирургии вместо сестры. Студенты у нас таким образом подрабатывают и одновременно приобретают некоторый опыт.
Вечером привезли старуху, лет за восемьдесят. С лопнувшим желчным пузырем. В отделении свободных коек не было. Хирург колебался – стоит ли оперировать. Родственники пребывали в нерешительности – возраст у бабки почтенный, стоит ли рисковать? Потом согласились.
Это была нечеловеческая работа. Желчный пузырь нагноился, камни разнесло по брюшной полости. Всё вычистили, старуху отходили – после наркоза она была плоха – и наконец положили в изолятор, где было холодно, как в покойницкой (отопление там вообще не работало), как следует укрыли и дали антибиотики.
Пришел Велецкий. Рассудил, что старушка может схватить воспаление легких и после всего, что сделано, все-таки умереть. Разыскал в ординаторской рефлектор и поставил возле кровати.
Велецкий-то хотел как лучше, но действовал как форменный недотепа. Прикидывал, куда бы ему рефлектор поставить. Просто на стул? Слишком низко. И подложил какие-то книги, а на них еще взгромоздил поднос, на котором приносят еду, – словом, соорудил подставку, неустойчивее которой трудно придумать. Старуха, видно, дернулась во сне и толкнула стул. Рефлектор упал на постель, одеяла загорелись… К счастью, сестра проведывала больных. Вбежала через несколько секунд. И все-таки не успела предотвратить ожог руки у пациентки. Вскочил большой волдырь, кожа вокруг покраснела. Старушка ни о чем не ведала – после наркоза спала как сурок.
В коридоре находилась ее дочь – выпросила разрешение у сестры поглядеть на мать хотя бы из-за порога. И она, к сожалению, видела, как явился доктор, как обрабатывали обожженное место… Тут же пошла домой и направила по инстанции жалобу – что по вине персонала мать получила травму.
Старушка от всего оправилась – помимо прочего, у нее была эмболия сосудов легких – и по прошествии трех недель, сердечно всех благодаря, отправилась домой, как говорится, своим ходом. Тем больше было удивление хирургов, когда через дирекцию пришла повестка в суд. Родные старушки обвиняли лечебницу и требовали возмещения за увечье. Пока старуха была в клинике, никто об этом и не заикался.
И начались вызовы в суд – директора, его заместителя, дежурного врача, сестры и студента-медика Велецкого. Как это могло вообще произойти? – спрашивалиих. Не было ни одной свободной койки? Но почему тогда больную принимали? Если нельзя было медлить, почему для таких случаев нет резервных коек? Как мог студент-медик воспользоваться без разрешения врача таким рискованным приспособлением?
Назначили комиссию по расследованию. Я тоже был ее членом. Разбирали всё до малейших подробностей. Почему не были соблюдены правила техники безопасности? Как получилось, что использовали рефлектор? В ординаторской его вообще не должно было быть, обогрев помещения рефлектором запрещен. О происшедшем, правда, записали в журнал, но почему не доложили руководству?
Почему? Почему? Тысячи «почему».
Велецкий вдобавок оказался упрямым как баран.
– Скажешь, я разрешил, – приказывал ему врач, который тогда дежурил. – А то сделаешь только хуже нам обоим.
– Не могу, это будет неправда, – твердил Велецкий.
Заведующий хирургическим отделением обратился за помощью к Румлу:
– Это ваш практикант, поговорите с ним. И без того нам долбят, что студенты делают в клинике, что им заблагорассудится. В конце концов этого парня вышибут из медицинского.
– Не беспокойтесь, вразумим, – сказал Румл, сам не ведая, что обещает.
Он говорил с Велецким час и ничего не добился. Потом пришел ко мне.
– Пожалуйста, поговорите с ним. Может, у вас получится.
– Хорошо, приводите.
– Послушайте, голубчик, – уговаривал я его. – Никто не требует от вас подлога. Ведь вы, когда дежурите в хирургии, никогда ничего не делаете самовольно. Вам следовало больную уложить. Спросили вы, какие ей назначены инъекции?
– Спросил. Политетрациклин. А если проснется и пожалуется на боль, эуналгит.
– Вот видите, вы ничего не делали по своему усмотрению. Так, может, и про рефлектор спросили?
– Про него не спросил, пан профессор.
– А возможно, уже и не помните.
– Помню. Я взял его из ординаторской тайком.
Румл сидел возле него.
– Гос-споди, ну какой же болван, – простонал он тихонько.
Велецкий услышал и покраснел.
– Бывают случаи, когда хоть и не спрашивают, но предполагают. Вам, вероятно, не пришло и в голову спросить?
– Нет, отчего? – упорствовал студент. – Но я подумал, что доктор не разрешит. Штепсель был далеко, пришлось взять удлинитель, а это тоже не позволено.
– Нет, ну видали! – торжествовал Румл. – Его вышибут из института, а он все будет твердить свое.
– Потому что доктор Шейнога ни при чем, – повторял Велецкий с упрямством осла. – Если меня исключат, будет несправедливо. Я ничего плохого не сделал.
– Безусловно, того же мнения и я – для чего же давать к этому повод!
– Может, еще не исключат, я хотел этой старушке помочь.
Понять-то его я, конечно, мог. Он полагал, что добрые намерения в оправдании не нуждаются. Тщетно я повторял ему, что даже и отец, убивший при аварии собственного ребенка, подлежит суду.
– Что ж, значит, за последствия отвечаю я, – сказал он. – Вы сами нам на лекции говорили, что нельзя уклоняться от ответственности. Почему за меня должен расплачиваться доктор или сестра?
– Все равно за все отвечают заведующий и дежуривший врач, – жужжал ему в ухо Румл.
– Возможно. Но я сваливать вину ни на кого не собираюсь.
Мы махнули на него рукой. Потом его вместе с доктором Шейногой и сестрой, которая несла тогда дежурство, вызвали на комиссию. Председательствовал Крейза, молодой доцент из дерматологии, который в то время замещал директора. Он обрушился прежде всего на Велецкого и на сестру. К Шейноге же отнесся снисходительно. Причина этого была ясна: Шейнога лечил его мать – оперировал желудок или что-то в этом роде. Поэтому, наверно, он все время утверждал, что доктор и заведующий несут только формальную ответственность, они не в состоянии знать всего, что происходит у них на дежурстве, но должны иметь персонал, на который можно положиться.
К сестре он был непримирим. Все повторял, что клиника – не богоугодное заведение, а лечебница, где никакая самодеятельность недопустима. Сестра должна знать, что происходит в отделении. Грубо нарушены правила техники безопасности! Сестру следовало бы перебросить на ожоги – единственная возможность для нее понять, к чему ведет подобная беспечность. А что касается Велецкого, то он, ходатайствуя о предоставлении ему места в нейрохирургии, проявил себя как совершенно безответственный работник. Потому правильнее было бы заняться ему где-нибудь практической медициной – и уяснить себе, что врач несет ответственность за пациента.
Не знаю почему, но каждая фраза доцента Крейзы меня раздражала. У него был резкий голос судьи, говорящего о подследственных, и жесты проповедника. Роль арбитра он вел на полном серьезе – человек это был еще молодой и тщеславный. Высказывания его отличались безапелляционностью. Он неустанно повторял, что дело это нельзя оставить без дисциплинарного взыскания, тем более что подана жалоба и возбужден судебный иск, и требовал от администрации принятия конкретных мер: сестру направить в отделение ожогов, ходатайство Велецкого о предоставлении вакансии отвести.
Аргументировать эти меры нам следовало нерадивым выполнением обязанностей, халатным отношением к работе и людям, которое несовместимо с моралью человека социалистического общества.
Оба нарушителя даже не пытались оправдываться. Слова попросил Шейнога. Он заявил, что виноват, во всяком случае, не меньше тех двоих. О рефлекторе он, правда, не знал, но против использования его возражать, безусловно, не стал бы. Сестра была в отделении одна и не могла поспеть всюду.
Крейза его снисходительно выслушал, сказал, что, если доктор будет великодушно брать всю вину на себя, дело не сдвинется с мертвой точки, и, наконец, изрек, что комиссия все обсудит, а они трое могут быть свободны.
После их ухода воцарилась неловкая тишина. Доцент понял, что никого не убедил. Поднявшись, разразился громовой речью, словно стоял на трибуне:
– Товарищи, поймите, что у нас по отношению к тем двум есть еще и обязанности воспитателей! Они должны вынести из этого урок на всю жизнь! Сегодня речь не только о студенте и медсестре – о добром имени нашего здравоохранения! К чему мы придем, если вместо дисциплины и собранности будем насаждать среди молодежи такую анархию? Об этом случае должен знать весь персонал больницы – лишь так мы сможем избежать в дальнейшем подобных упущений!
Он говорил и говорил. Фразы становились все цветистее, обороты все выспреннее. Не выдержав, я перебил его:
– Мне кажется, и я бы дал старушке рефлектор. Возможно, у меня бы получилось то же, что у этого студента. Бывают неудачные стечения обстоятельств. Не понимаю, почему ответственность за это надо перекладывать на тех двоих! Спросим себя, почему они так поступили? Да потому, что в помещении был холод, если бы отопление работало, то ничего бы не произошло.
В комиссию входили также Вахал – главврач отделения переливания крови, главная сестра Коутецка и заведующий ремонтными мастерскими Клика. После моих слов все они оживились.
– Правильно, – поддержал меня Клика. – С таким же успехом можно было бы обвинить и мастерские. Если бы своевременно произвели ремонт, никто бы не стал брать рефлектор.
Крейза был дезориентирован. Широкая полемика, видимо, не входила в его расчеты. Он сманеврировал по принципу: «divide et impera».[5]5
Разделяй и властвуй (лат.).
[Закрыть] Превратил меня в обвинителя:
– В таком случае ответьте пану профессору, почему не работало отопление, раз он об этом спрашивает! Ведь вы же отвечаете за мастерские!
Он был искусный тактик. Но Клика не дал сбить себя с толку:
– Это я, разумеется, выясню. Но товарищ профессор имел в виду совсем другое. Мы этот случай должны разобрать в более широкой связи. Возможно, он был вызван еще и другими причинами. Не нашлось койки, средний медперсонал на дежурстве представляла только одна сестра…
Но доцент уже опомнился. Глаза его опять метали молнии:
– Где мы находимся, товарищи? Вы что, из ложной солидарности готовы потворствовать разгильдяйству?
Я почувствовал, как у меня задергалось веко. Если немедленно не возьму себя в руки, начну ругаться. Сидевшая возле меня Коутецка долго молчала. Сосредоточенно складывала листок бумаги во все более мелкие и мелкие прямоугольнички. И вдруг решительно заговорила:
– Товарищ доцент, я сестрам поблажки не даю. Гоняю часто за любой пустяк – иначе не получается; порядок – главное в нашей работе. Но если что-то делается из добрых побуждений, подходить к этому с меркой обыкновенного нарушения дисциплины очень трудно. Впрочем, на то есть юристы, чтоб судить: было тут халатное отношение к служебным обязанностям или нет. А мы должны давать нашим сотрудникам оценку всестороннюю, учитывая и их положительные качества. Нельзя ведь просто так обидеть человека на всю жизнь!
Крейза побагровел:
– Это оппортунистический подход! А если бы сестра не зашла к этой больной? Она же могла сгореть!
– Могла, – перебила его главная сестра. – Но ведь она зашла. Поэтому-то, к счастью, ничего более страшного не случилось.
Председательствующий был по-своему прав: все могло обернуться куда более скверно. Но встать на его сторону я не сумел. Коутецка была неотразима. Пронзала Крейзу глазками, похожими на черные блестящие бусины, а круглое лицо ее хранило выражение детски невозмутимого простодушия.
– У вас в дерматологии недавно тоже ведь был случай с сестрой, – начала она развертывать и разглаживать сложенный прямоугольничек бумаги. – Я думаю, вы о нем не забыли, пан доцент? Она неверно сделала инъекцию инсулина. Вместо восьми единиц ввела восемь кубиков.
– Это сюда не имеет отношения, – раздраженно запротестовал доцент.
– Как это не имеет? Ввела восемь кубиков, потому что врач по рассеянности сделал такую запись в карточку назначений.
– Сестра могла сообразить, что здесь описка. Когда работаешь, надо думать. Я это тут же ей сказал. Восемь кубиков – триста двадцать единиц, она должна была это прикинуть!
– Ну вот, пожалуйста, – торжествовала главная сестра. – Доза, достаточная для гипогликемического шока, после которого больная не очнулась бы. А почему сестра должна предполагать, что врач сделал описку? В ее обязанности входит точно выполнить назначение. И все-таки она не успокоилась, а сразу же пошла узнать…
– Конечно. А врач тут же вмешался, – лаконично дополнил Крейза. – Позвал хирурга, и большую часть инсулина нейтрализовали. Сделали вливание глюкозы…
– Так кто, собственно, больше виноват – доктор или сестра? Или завотделением, у которого такой персонал?
– Это нельзя сравнивать, – резко прервал доцент. – У нас получилась чисто медицинская неувязка, которую вовремя ликвидировали…
– Не знаю, почему нельзя сравнивать, – отозвался Клика. – Если делают не ту инъекцию, это, по-моему, еще хуже.
И осмотрительный Вахал поддакнул:
– Ошибка при медицинском вмешательстве, безусловно, серьезнее. Вспомните, как четко определяем мы группу крови, когда надо ее перелить.
– Говоря короче, – пошла главная сестра в открытую, – если бы вовремя у вас не спохватились, пациентка умерла бы…
– Но у нас спохватились вовремя, – перебил доцент.
– Ну разумеется, так же, как в хирургии с рефлектором, – как угорь извивалась Коутецка. – А ведь еще немножечко – и быть вам под судом!
Доцент развел руками.
– Ну что ж, – вырвалось у него. – «Где нет истца, там нет ответчика».
Я начал вслух смеяться:
– Однако до чего мы дошли! У нас есть и истец, и ответчики – значит, тут мы должны судить строго… Хороша объективность!
Крейза обиделся. Стал мне доказывать, что я неверно понимаю функции члена комиссии – мы собрались здесь для того, чтобы разбирать случай ожога пациентки, а не критиковать другие отделения. Он еще некоторое время говорил, но уже без прежней самоуверенности и наконец признался, что директор сердится. Каждый такой процесс бросает на лечебное учреждение тень. Мы не можем позволить себе никаких компромиссов. В ближайшем будущем больницу представляют к награждению.
Я не мог больше выдержать.
– Вот именно поэтому-то и не можем, – кивнул я ему в знак согласия. – Товарищ Клика прав, предлагая рассмотреть вопрос о виновниках шире. Почему мы не оставляем на каждое дежурство в отделениях резервный койки? Я вам отвечу. Если случайно хоть одна окажется незанятой, уменьшится койко-день, что не понравится руководству. За это даже срезают премии. Может, быть, поговорить с дирекцией и о резервных койках?
Доцент побледнел:
– Нет, так нельзя! Какую связь это имеет с нашим инцидентом?
– Все в мире взаимосвязано, это мы с вами должны бы знать, если хотим воспитывать молодых. В хирургическом отделении не было резервной конки. Найдись она там, ничего бы не случилось.
Крейза вдруг потерял вкус к председательству – уже, наверное, предвидел, что на следующую встречу придется звать и самого директора, – согласился окончательную резолюцию отложить и сформулировать ее на дальнейшем заседании. А это получилось удачно, потому что история с ожогом имела свой happy end.
Произошло это, мне рассказывали, так: обожженная уже давно бегала как куропатка и каждую неделю являлась к нашим хирургам в амбулаторию – показывать, как заживляется рана. Никто ее, как ни странно, не упрекал, хотя о жалобе все знали. Обходились с ней вежливо, в перевязочную брали без очереди. Старушка она была говорливая, со всеми рада была поделиться и с удовольствием расписывала, как была одной ногой в могиле, когда ее привезли сюда. Ожог на руке у нее давно прошел, она о нем даже не вспоминала.
Однажды после осмотра, когда доктор вышел и, кроме сестры, в кабинете никого не осталось, старушка достала из сумки шоколад:
– Возьмите, сестричка, намучились вы со мной! Берите, берите, есть о чем говорить…








