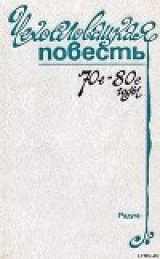
Текст книги "Скальпель, пожалуйста!"
Автор книги: Валя Стиблова
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 15 страниц)
– Кровоизлияние возникло в ходе операции, – комментирует патолог.
Снова все освещается: величина опухоли, положение, операционная техника. Волейник повторяет то, что все знают уже наизусть. Что был большой отек и операционное поле не просматривалось, что оперировать было необходимо, поскольку состояние больной ухудшилось. Ничего, кроме этого, не оставалось.
– Оставалось, – говорит Ружичка, который Волейника терпеть не может. – Достаточно было сделать декомпрессию. Удалил бы кость – и отек, о котором ты все время толкуешь, перестал бы угрожать жизни пациентки. Второй этап операции можно было отложить – до возвращения кого-нибудь из нас.
– Я сначала подумал об этом, – защищался Волейник (он казался спокойным, только пальцы, поигрывающие авторучкой, заметно дрожали). – Но потом сказал себе, что операция в два этапа явится для нее гораздо более тяжелой нагрузкой.
– Ну вот ты нам и доказал, что операция в один этап явилась для нее нагрузкой более легкой, – мрачно засмеялся Ружичка.
– Вмешательство было чересчур радикальным, – продолжал патолог. – Произошло повреждение ствола.
Волейник не хотел сдаваться:
– Там могла быть микроаневризма, которая лопнула непосредственно после операции.
– Ну, это уж совсем неправдоподобно!
– И все-таки нельзя этого сбрасывать со счетов, – не унимался Волейник.
– Со счетов нельзя сбрасывать ничего. Даже что во время операции произошла остановка сердца, – задергался уголок рта у патолога.
Присутствующие рассмеялись. Все это выглядело гнусно.
– Сейчас судить об этом трудно, – сказал я. – Операция была непростой, и доктор Волейник пытался убрать все. Для каждого из нас этот случай, безусловно, поучителен.
Все смолкли. Спросили про оценку. Патологи сказали, что диагноз был правильный, но в целом случай квалифицировать не будут.
Кончили. Когда расходились, Волейник подошел ко мне. Он воспрянул духом, поскольку я за него вступился. Стал даже с улыбкой произносить какие-то общие фразы. Намеренно – показать остальным, что вины за собой не чувствует. Это было последней каплей, переполнившей чашу. Я позвал его к себе в кабинет.
Он не ждал того, что я хотел ему сказать. Первым опять начал разговор об операции сестры Бенедикты, видимо, полагая, что вскрытие убедило меня в его правоте. Приводил все новые и новые подробности. Я с изумлением смотрел на него. Он менялся прямо на глазах. Еще недавно молчаливый и нерешительный, теперь стоял и разглагольствовал, широко жестикулируя. Великий хирург после необычно трудной операции. Ни малейших сомнений в собственной непогрешимости. Вмешательство провел блестяще, доктор Гавранкова может это где угодно подтвердить. Никто из старших коллег не мог бы сделать большего.
А ведь у него мания величия, сказал я себе мысленно. Жаль, не настолько, чтобы заинтересовать психиатра.
Я перебил его. Сказал, что в случае с сестрой Бенедиктой он переоценил свои возможности и ему следовало это признать. Я не хочу, чтобы он продолжал работать у меня в клинике.
– Займитесь года на два, на три обычной хирургией, если уж вас эта область так заинтересовала, – посоветовал я ему наконец. – Быть может, там вы сможете приобрести какой-то опыт и сноровку.
Он замер. Из фанатика с орлиным взглядом сразу стал прежним – обиженным, вздорным – Волейником.
– Не понимаю… Ведь я, кажется, все объяснил, пан профессор…
Видно было, как лоб у него покрывается испариной. Чувствовал я себя прескверно. Мне становилось его жаль.
– Возможно, вы когда-нибудь еще вернетесь к нейрохирургии, – сказал я – главным образом чтобы его утешить. – Я вам хочу добра. Со временем и сами вы поймете, что я прав.
Голову можно было дать на отсечение, что он этого никогда не поймет. Настроение его менялось молниеносно. В эту минуту он меня уже ненавидел. Заявил, что все мы против него предубеждены. Что никогда я не пускал его к настоящей работе и таким образом лишил возможности приобретать опыт. Его успех на поприще нейрохирургии зависел от меня, и только от меня. Если я указываю ему на дверь, он уйдет – и без того уж оставаться здесь ему невыносимо. Однако же, да будет мне известно, что это я совал ему палки в колеса. Такое отношение несовместимо с моралью настоящего врача, обязанного помогать младшим коллегам.
Вот до чего договорились. Обидно было это слышать. Может быть, перечислить ему, скольким молодым я с радостью и искренним доброжелательством помог, скольких я научил операционной технике так, что за них не приходится краснеть, и сколько времени на все это потратил?
Или напомнить, как сам он не пожелал пожертвовать и часом, чтобы прочесть лекцию для сестер, когда другие врачи в этом не отказывали? Сказать в открытую, что никому из старших коллег, не только мне, не хочется учить его – так он обидчив и самоуверен?
Да нет, бессмысленно. На прощанье он заявил, что еще посмотрим, имею ли я право выставить его из клиники. И что он будет заниматься нейрохирургией в другом месте – этого уж ему никто не запретит.
6
В последнюю неделю мая я сказал себе, что Узлик – испытание, посланное мне судьбой. Еще немного, и я бы отказался его оперировать. Но тут произошло событие, серьезно повлиявшее на мое решение. Да, признаюсь, это событие окончательно определило мой выбор. Стало известно, что меня представят к правительственной награде.
Дело происходило так. Мальчика уже положили к нам в клинику, и мы снова держали совет, как с ним быть. После утренней конференции рассматривали его снимки на негатоскопе. Рентгенолог показывает снимок за снимком. Ясно виден очень небольшой деформированный четвертый желудочек. Вот изогнутый Сильвиев водопровод. Цистерны в углу между Варолиевым мостом и мозжечком не просматриваются, в этом месте тупой край.
Врачи хранят молчание. Взгляды предостерегающе опущены. «И какого черта надо было тебе изменять свое решение?» – читаю я в их единодушной оппозиции. От имени всех берет слово доцент Вискочил:
– Мы сегодня долго обсуждали этот случай в ординаторской, профессор. Все сходятся на том, что опухоль убрать нельзя.
Подняли головы, ждут. Гладка растерянно крутит пуговицу белого халата. Оперирующие дамы у нас привыкли носить его без полагающейся блузы. Из отворота у Гладки выглядывает кружево бюстгальтера.
– Сначала я думала, стоит попробовать, – говорит она тихо. – Но они правы – случай неоперабельный.
– Этот лесник не допускает и мысли, что внук не вынесет операции, – добавляет Кртек. – Встречаю его в коридоре: «Профессор, – говорит, – твердо мне обещал у Витека из головы это вынуть, а он обманывать не станет. Если берется, значит, можно».
Врачи иронически ухмыляются.
– Никаких обещаний я ему вообще не давал! – взрываюсь я. – Как он мог истолковать так наш разговор?
– Это мы знаем, – успокаивает меня Кртек. – Но что мы ему станем говорить, когда малыш останется на столе?
Ружичка откашлялся:
– Когда мы обсуждали это первый раз, профессор, у вас было однозначное решение. Вы что ж, хотели бы провести операцию в два этапа? У вас создалось впечатление, что так будет лучше? Я бы хотел понять мотивы перемены вашего решения…
Вот гад! Выдал мне, перед всеми. Собственно, почему я все же согласился взять мальчика? Потому что его дед так упрашивал? А я надеялся на чудо? Или просто, покорясь судьбе, смирился с неизбежностью, поскольку мальчик все равно не протянул бы больше года? «Не потому, – шепчет мне внутренний голос. – Мальчонка околдовал тебя своей мордашкой. Вспомни, как он тыкал пальцем в Митин марлевый колпачок и заливался смехом!.. Вот ты и потерял голову».
– Как вам сказать… – отвечаю я Ружичке. – Просто мне кажется…
Все замерли. Я знаю, о чем они сейчас думают. Когда кто-нибудь из младших коллег говорит: «Мне кажется», Ружичка моментально осаживает его: «Если кажется – крестись. В хирургии никому ничего не может казаться!»
Да, ничего не скажешь, сел в калошу. Вокруг деланно серьезные лица, и только Кртек не выдержал, комично поднял брови.
– Я знаю, – предпочел я обыграть это сам, – «если кажется, крестись»…
Все, словно по команде, засмеялись – но я не сдался.
– У меня действительно нет никаких новых доводов. Просто я думаю, что следует хотя бы попытаться.
Все скисли. Мое поражение будет и их поражением – это каждый понимает. Но я пока далек от окончательного решения – наоборот, чувствую, что врачи наши правы, только не хочется так легко отступать. Прошу, чтобы мне снова показали томограммы из Градец-Кралове. Да, это куда хуже того, что представлялось мне. А снимки были сделаны месяц назад – рискованные данные могли усугубиться. Повторить, может быть, томографию?
Опять со мной не согласились. Если данные обследования не изменятся, значит, ничего нового мы не узнаем, а если опухоль выросла, она тем более неоперабельна. Да и пока получим ответ, пройдет еще время, а кто знает, что будет с ребенком через две-три недели.
Как раз в этот критический момент пришла за мной пани Ружкова. Я вышел с ней в коридор. Что-нибудь срочное? Да, звонят из министерства. Просили позвать моего заместителя, но она хочет, чтоб я узнал первым: меня представят к награде.
От волнения пани Ружкова повторяется, нервно поглаживает пальцы.
– Хотят узнать что-нибудь более конкретное о ваших новых методах, об операциях с применением гипотермии…
Беру ее за локоть – чтобы успокоилась.
– Пани Ружкова, надеюсь, мы не потеряем самообладания?
Она подносит к глазам платочек.
– Вы не представляете себе, до чего я рада!.. Вы этого давно заслуживаете, наконец-то о вас вспомнили!
Я стою около нее как школьник. Хотел бы сделать безразличное лицо – не получается. Значит, все-таки видят мою работу и даже хотят оценить. Как ни стараюсь, не могу остаться равнодушным и скрыть радость.
– Знаете что? Подзовите к телефону Румла! – советую я. – Или нет, лучше Кртека… А остальным, я думаю, пока говорить не стоит…
Она с сияющим видом кивает. Разумеется! Но я-то знаю, что она шепнет об этом сначала Гладке, а потом и всем, кто только ни появится в приемной.
Я возвращаюсь на совет. Должно быть, договаривались о дежурстве – перед ними разложенный график. Румл обсуждает с Ружичкой какого-то больного из Роуднице. Молодой человек, получивший тяжелую травму таза и при этом повреждение седалищного нерва. Не согласится ли доцент произвести ревизию?
Я сажусь рядом. Делаю Румлу знак не прерываться и докончить обсуждение расписания. Могу теперь минутку беспрепятственно подумать о том, что узнал. В последнее время у меня бывал скептический настрой. У врачей моих нет настоящих условий для работы. Больные, уходя от нас, нередко говорят, что мы заслуживаем статуса крупной специализированной лечебницы с новейшей аппаратурой. Мы удовольствовались бы даже дополнительной площадью и штатами. Сколько раз я это во всех инстанциях тщетно пытался доказать. Говорил себе, что я плохой начальник, раз ничего не могу добиться. Всегда я слышал ту же отговорку: другие больницы в худшем положении – пока ничего нельзя сделать, придется годик-другой потерпеть.
Должно быть, мы все же неплохо поработали, если это получило такое признание!
«Конечно… – сказала бы Итка. – Получить-то оно, может, и получило. Да только у тебя ведь будет юбилей, а к юбилею обычно награждают. Так что не думай – это не бог весть за что!»
Но хоть она, возможно, именно так и сказала бы, настроение у меня не испортилось. Мне представились разные немыслимые вещи: явится некто и начнет действительно интересоваться всем, что мы сделали. Мы объясним ему, что некоторые ставшие теперь уже обычными операции впервые в мире произведены были у нас в клинике. Вскользь приведем цифру операций, сделанных за последнее десятилетие. Никто этому не поверит. Такое число вмешательств в маленькой клинике? Это же выше человеческих возможностей!
«Почти так, – слышу я свой ответ. – Но если бы нам создали условия, мы сделали бы много больше…»
Призрак Итки иронически усмехается: «И черта лысого тебе это поможет! Черта лысого!».
Я продолжаю безмолвный монолог, обращенный к неизвестному, который придет по случаю моего награждения и, выслушав, разрешит с ходу все наши проблемы. «Если я что действительно и сделал, – скажу я, – так это потому, что со мной был коллектив. Врачи, видящие смысл жизни в нашей работе. Люди, которые способны на любые жертвы и всегда во всем со мной заодно…»
Я слишком глубоко задумался. Вокруг вдруг воцарилась неловкая тишина. Румл зевал так, что едва не выворотил себе челюсть. Ружичка шлифовал ногти пилочкой для вскрытия ампул. Остальные смотрели на меня с кислыми минами. Понимали, что от мысли прооперировать Узлика я отнюдь не отказался. В углу под кем-то скрипнул стул, и у меня было забавное ощущение, что это Итка прыснула долго сдерживаемым смехом.
Я разом отрезвел. А что, собственно, мы сделали такого уж особенного? Оперировали – так ведь это наша работа! Ничего другого никто из нас не умеет. Нет, правда! В чем мы превзошли самих себя? Новые операционные методы внедряются повсеместно. Могли бы мы сравнить себя с умным технарем, который изобрел что-то эпохальное? Мы, разумеется, проводим операции на людях. Пафос нашей профессии. Честно говоря, это нам много легче, чем какому-нибудь инженеру совершить открытие. Любая наша операция сложна только в глазах непосвященных.
Одна моя больная приносит каждый год в определенный день цветы. Она еще молода, я – человек в летах. Тут нет ничего предосудительного. Но за что она мне их носит? Говорит, спас ей жизнь. Сделал элементарную операцию удаления опухоли спинного мозга, которую с успехом выполнил бы любой мало-мальски квалифицированный нейрохирург.
Или пожилая женщина, которую так мучил тройничный нерв. Я, видите ли, сделал чудо. Перерезал тройничный нерв. Теперь она совсем здорова и ходит мне показываться, будто совершает паломничество ко святым местам. Это прекрасно, но она не знает, что ей просто повезло. Вмешательство тут не всегда помогает. И все же я с тех пор – ее благодетель.
Вокруг меня соратники – а настроение неожиданно упало. Сидят и зевают. И вовсе они не заодно со мной, как за минуту перед тем я уверял себя. Они хотят жить спокойно. Боятся операции Узлика больше, чем я, потому что заранее переживают тот стресс, ту мою напряженность, которая отрыгнется им несправедливыми замечаниями и придирками, – боятся, что в случае неудачи я вымещу свою досаду на них. Жажда противоборства охватила меня. Как раз на Узлике была возможность показать, способен ли я на что-то большее, чем рядовой хирург. Дедушка верит мне, иначе и быть не может. На свете у него нет никого, кроме этого ребенка. Он исказил смысл моих слов? По-человечески это вполне понятно. Просто помнил все так, как ему хотелось услышать.
Шансов у Узлика кот наплакал, но ведь они все же есть! Что бы там ни говорили мои скептики, с утра уже готовившие себя в ординаторской к нашей беседе, совершить невозможное – вот настоящее дело. Только так человечество может продвинуться еще на шажок. Не велика заслуга оперировать по строго установленным канонам, когда почти нет риска.
– Вот что, уважаемые, – сказал я даже чересчур категорично, – если так трудно записаться на томографию, беру завтра Витека и еду с ним в Градец-Кралове сам. Они мне не откажут. Поглядим с коллегами томограммы, сравним с предыдущими, а там увидим.
Они восприняли это как отступление. Стали с удовлетворенным видом подниматься. Не знали, что им удалось поколебать меня только на время, а я снова был полон решимости и неравный бой принял.
Возьму с собой невропатолога, чтобы не быть там в одиночестве. Под невропатологом, понятно, подразумевался не кто иной, как Итка. Я тут же позвонил доценту Хоуру, ее шефу. Он, разумеется, не возражал. Будет только рад, если пани ассистентка покажет потом снимки всему коллективу. Случай такой интересный и поучительный!
Ладно, ладно, уважаемый пан доцент, дело-то ведь сейчас не в этом. Итка больше чем невропатолог. Итка – моя совесть. Моя чистая совесть. Мой бескомпромиссный друг. Вместе мы «Случай Узлик» приведем к благополучному концу.
Жена моя в глубине души обрадовалась, хоть и напустилась на меня.
– Слушай, ты хоть предупреждай, когда хочешь увезти, – услышал я по телефону. – Приятно разве, когда шеф перед всеми приказывает: «Завтра поедете в Градец-Кралове, профессор вас требует!»
– Ты права, разумеется… – второпях извинился я. – Дело очень спешное, я как-то не подумал.
Она мне не призналась, что, когда доцент ее вызвал, щелкнула каблуками и сказала по-военному: «Слушаюсь, товарищ доцент, будет сделано!» Это я узнал лишь позже, от одной из ее коллег.
– Понимаешь, я все еще раздумываю, должен ли я оперировать мальчика, – оправдывал я свою оплошность, – весь коллектив против, но мне кажется, они не правы…
– Да, это первый случай, когда вы не един дух и едина плоть…
– Оставь свою иронию! Они против, а мне на этот раз не хочется уступать.
– Ну, если лишь на этот раз, то с начальником им повезло, – продолжала меня провоцировать Итка. – Но ты боишься, как бы они не сочли с твоей стороны нескромностью, если вдруг операция тебе удастся.
Я рассмеялся.
– Иди ты в баню! Когда мы утром выезжаем?
Собрались рано. Узлик прыгал от радости, что поедет на прогулку в автомобиле. Но он нас задержал. Взял себе в голову, что не наденет коротких штанишек, а только длинные, с молнией, купленные дедушкой в Праге. Пришлось еще отыскивать свисток, который сестра накануне того дня конфисковала, потому что Витек не давал больным покоя. Перед самым отъездом объявил, что хочет кушать. Мы раздобыли ему две булки с маслом, и он умял их еще до того, как выехали из города.
Наконец мы оказались на магистрали. Если повезет, попадем в Градец в девять, полдесятого. Мы благодушествовали. Когда еще удастся так вот вырваться на целый будний день?
Однако день надо хвалить, когда он прожит. Где-то перед Садской машину стало трясти. Мотор заглох. Я завел его, немного проехал – и опять тот же странный ход.
Отказал двигатель. Потом уж, сколько я ни заводил, машина не трогалась с места. Витек на заднем сиденье как ни в чем не бывало свистел в свой свисток. Мы с Иткой растерянно смотрели друг на друга.
Я пошел поднимать капот, хотя и знал, что ни черта не обнаружу. Свечи тут ни при чем, мне их недавно поменяли, аккумулятор заряжен… Я тщательно проверил уровень масла – хоть что-нибудь делать… Мальчишка тем временем выкарабкался из машины и с интересом за мной наблюдал. Итка стояла на проезжей части и высматривала, кого бы остановить. По ее убеждению, наиболее подходящим для этого был грузовик. Во-первых, он почти всегда останавливается; во-вторых, шофер всегда разбирается в механизме. Как назло, мимо неслись одни частники, а им и в голову не приходило притормозить.
– Видишь, не едет, – сказал я мальчику. – Такая хорошая машина, а не едет.
– А почему у тебя нет «волги»? – ухмыльнулся этот негодник. – «волга» лучше, чем «шкода».
Однако! Ничего себе осведомленность. И это внучек лесника из Высочины!
Он начал прыгать около меня на одной ножке, распевая в такт:
– Нет бензину, нет бензину, ха-а-а…
Я стукнул себя по лбу. Ну конечно: я же не остановился у бензоколонки!
Взглянул на бензоуказатель. Стрелка на нуле. Даже не шелохнулась, когда повернул ключ.
Пока мы думали, как быть, рядом притормозил мотоциклист. У вас повреждение? Может, нужна помощь? Нет, повреждение едва ли, но, видимо, подобрался бензин.
– Могу доехать до бензоколонки на Садской. Попрошу там канистру.
Молодой парень, в спецовке. Я с радостью дал ему деньги. Он тут же вернулся, сам залил бак и подождал, пока тронемся. Не согласился взять ни кроны.
Мы снова ехали.
– Ну, Витек, ты нам починил автомобиль. Додумался, что с ним такое.
Он залился смехом, как колокольчик. Потом начал смотреть в окно. И нараспев сказал без видимой связи:
– А дедушка мне на вокзале покупал мороженое…
– Я тебе тоже куплю, – пообещал я. – Как только увидим в Градце кафе-мороженое.
Каждые пять минут он спрашивал, когда мы туда приедем. Но вот начался Градец-Кралове. Витек на заднем сиденье метался от окна к окну. Кафе-мороженого нигде не было. Мы находились на главной улице – я полностью сосредоточился на том, как проехать к больнице. Не успел оглянуться – и попал в левый ряд.
– Теперь уже придется ехать налево, – сухо констатировала Итка.
– Тьфу, черт возьми… – взорвался я, к великой радости Узлика.
– Тьфу, черт возьми! Тьфу, черт возьми! – заверезжал он, молотя меня кулачком по плечу.
– Не объезжать же мне, в конце концов, весь город! – взбунтовался я и, торопливо оглянувшись, увидел где-то вдалеке за нами две машины.
Кому я помешаю? Я сделал разворот и влился в середину правого ряда.
– И все дела! – торжествовал я. – Я буду идиотом в собственных глазах, если начну разъезжать тут из конца в конец.
– Идиотом в собственных глазах ты, возможно, и был бы, – отозвалась Итка, – но тогда к тебе бы не имел претензий постовой. Готовь права.
От перекрестка, помедлив, двинулся к нам человек в форме. И как я его раньше не заметил? Этакий папаша в летах с налитым, как яблоко, лицом. Похоже, у него гипертония. И сразу:
– Попрошу ваши водительские права! Вы знаете, какое нарушение вы допустили?
– Да, разумеется. Мне надо поскорей в больницу, а я тут плохо ориентируюсь. В последний момент только сообразил, что оказался в левом ряду.
Он долго разглядывал мои права. За нами останавливались все новые и новые машины. На перекрестке не были зажжены фонари. В переулке кто-то уже начал сигналить.
– Вот видите, что может получиться, когда без предупреждения делают разворот.
– Но ведь за мной никто не ехал, – отговаривался я.
Это подлило масла в огонь.
– Правила существуют для всех! – назидательно сказал он. – Вы выехали из потока и пересекли черту. За это водитель облагается штрафом.
Не знаю, почему он не дал мне немного отъехать от перекрестка. Я сам уже стал нервничать от нараставшей кутерьмы. И ко всему еще захныкал Узлик:
– Я хочу писать…
– Надо немножко подождать, – сказала Итка, тоже начавшая терять терпение.
Он разревелся.
– Хочу писать, – повторял он. – Сейчас, вот тут!
– Ну, тогда вылезай! – оборвала она его. – Иди туда, на тротуар, где кустики.
– Придется вас оштрафовать, – сказал опять постовой и вытащил блокнот. – Хотя вы и нездешний. За нарушение правил.
Я был готов на что угодно, лишь бы сдвинуться с этого чертова перекрестка.
Витек сунул в окно голову.
– Не могу расстегнуть. А мне очень хочется писать!
Я вылез из машины. По одну ее сторону – человек в униформе, по другую – мальчонка, у которого заело молнию. А на тротуаре – кучка любопытных! Я бьюсь над этой дурацкой молнией – и ничего не получается. С обеих сторон уже трубят клаксоны. И в довершение всего Итка начинает совершенно неуместно хохотать.
Наконец молния поддается. Но Витек и не думает бежать куда-то в кустики – обрадованно расставив ноги, широкой дугой поливает крыло нашей машины. Нет, я, кажется, сейчас разорву этого мальчишку! Кончил. И как ни странно, сам застегнул молнию. Потом остановился перед постовым:
– Дашь мне тоже листочек?
Постовой засмеялся. Вырвал с обратной стороны блокнота кусок чистого листка и вложил Узлику в руку. Потом погладил мальчика по голове.
– Езжайте, – сказал он мне благосклонно, – и другой раз будьте внимательней.
Да, после всех своих сакраментальных действий отпустил нас с миром!
– Так что нам Узлик ко всему еще сэкономил деньги на мороженое… – хохотала жена, и мы с Витеком ей вторили.
Я чуть ли не готов был поверить, что всю сцену с молнией мальчишка разыграл, чтобы помочь нам выпутаться из этой истории. Но столь исключительную изощренность мог проявить разве что взрослый.
Мороженое мы взяли на всех: кто знает, сколько придется проторчать в больнице – потом на это может не остаться времени. Мальчик съел две порции. Заказал себе лимонаду и пирожное «безе». Уходить из кафе ему не хотелось. Пришлось пообещать, что мы пойдем обедать, когда будет готов снимок, – тогда только он дал себя увести.
Но на этом наша одиссея не кончилась.
Коллеги приняли меня очень радушно. Витеку надо еще раз сделать томографию? Конечно! О чем речь? А если я интересуюсь, тут у них есть несколько уникальных снимков. Опухоль в третьем желудочке. Паразитарная киста, которая никаким другим методом не обнаруживалась. Полость абсцесса, который, видимо, самостоятельно прорвался. Больной жив, да.
Нас с Иткой это, разумеется, интересовало. Витеку между тем сделали томографию – скоро увидим результаты. Мальчишка был опять в своей стихии, забавлял лаборанток и секретаршу. В карманы ему напихали конфет. Дали цветных карандашей. Причина, по которой лично я привез сюда ребенка, не укладывалась в их сознании.
Я слышал, как лаборантка приглушенным голосом спросила:
– Пан профессор – твой дедушка?
Расшалившийся Узлик состроил хитрую мордочку и посмотрел на лаборантку.
– Да, – кивнул он и сам же рассмеялся.
Потом из кабинета пришел врач и разложил перед нами снимки.
– Мне страшно жаль, что именно в вашей семье… – мямлил он растерянно. – По сравнению с прошлым анализом, к сожалению, значительные изменения к худшему.
– Да это вовсе не мой внук, – запротестовал я. – Не принимайте его всерьез, это он так, болтает. Я бы хотел его без задержки прооперировать и потому приехал сам. Дело не терпит отлагательств.
– Понимаю, понимаю!
Он не поверил ни одному моему слову. Через минуту появился доцент. И опять мы разглядывали каждую тень на этих роковых снимках. Вид у доцента был очень серьезный. Результаты обследования он формулировал осторожно.
– Когда его смотрели тут последний раз, я еще не знал, что он из вашей семьи… – произнес он с видом глубокого соболезнования и голосом, как у священника на похоронах.
– Да, правда, это не наш внук, – подтвердила Итка. – Мы бы не стали скрывать.
– Ясно, ясно, – улыбнулся доцент. – Не будем говорить об этом… И все-таки ужасно, когда именно нейрохирурга постигает такое. От всей души желал бы, чтобы случай был разрешимым… Но к сожалению…
Мы махнули рукой. Навязали нам внука, пусть будет по-ихнему. Томограммы они сделали великолепные. Вот это, я понимаю, изобретение! Щелк – и машина выбрасывает снимок, четкий, как из анатомического атласа. Все на нем видно. И при этом никого не надо мучить, больным нечего опасаться болезненных уколов. И правильно, что за такое дали Нобелевскую премию.
На обратном пути мы по ошибке попали в ресторан первого класса. Так заговорились с Иткой о томографии, что заметили это, уже сидя за столиком. Перед нами были декоративные пирамидки из салфеток, поблескивала спиртовка для разогревания соуса.
Узлик был в восторге, как всегда в предвкушении еды. Подпрыгивал на стуле, оглядывался и даже подошел к соседнему столу – посмотреть, что у них на тарелках.
Мы попросили меню и стали вполголоса совещаться. Витеку надо взять что-нибудь легкое. Ни специй, ни жареного. Курицу тоже не стоит.
Мальчик не обращал на нас внимания. Мы заказали сначала себе, а потом растерянно смолкли.
– А что для вас, молодой человек? – традиционно спросил метрдотель.
– Шницель, – ответил Узлик без малейшего колебания. – Шницель и салат.
Человек во фраке растерянно кашлянул:
– Не знаю, будет ли… сегодня как раз, кажется, не делали…
– Вот, – вмешалась Итка. – Это почти как шницель. Дадут хороший кусочек мяса и к нему картошечку.
Узлик, не соглашаясь, мотает головой.
– А если цыпленочка? – ласково пробует склонить его на компромисс метрдотель. – Косточки вынем…
– Хочу шницель и салат.
Черт знает что, мысленно говорю я себе, зачем метрдотель его спрашивает? Любое блюдо принеси, и Витеку бы в голову не пришло что-то придумывать.
– Мы с дедушкой тоже ели шницель, – пошел Витек с козырной. – На вокзале!
Ух ты! И даже на вокзале! А тут первый разряд – и никакого тебе шницеля. Это была тактика высокого класса. Метрдотель закусил губу.
– Хорошо, попытаемся что-нибудь сделать. Если молодой человек подождет…
Узлик кивком подтверждает согласие. Нам принесли мясо под соусом. Официант зажег спиртовку и некоторое время еду подогревал. Потом стал частями раскладывать нам с Иткой по тарелкам. Узлик смотрел мне в рот так, что у меня кусок застревал в горле.
– Хочешь попробовать? – спросил я.
Хотел. Умял чуть ли не половину порции. К счастью, тут подоспело и его блюдо – шницель величиной с тарелку.
– Мне тоже его подогрей, – сказал он метрдотелю.
Я думал, тот шлепнет мальчишку салфеткой. Нет, взял сковородку и в самом деле шницель подогрел. Все мы при этом сохраняли полную невозмутимость.
Витек орудовал ножом и вилкой, как взрослый. И не оставил ни крошки. Когда мы хотели заказать лимонад, заявил, что дедушка всегда дает ему попить пива, если берет с собой в трактир. Я пододвинул свой стакан. Он отхлебнул чуть не две трети.
Когда поехали обратно, не было уже никаких эксцессов. Мальчишка стоял за передним сиденьем и держал нас за плечи. Мы пели. Он знал все песни. Дедушка научил его даже песенке о канонире Ябуреке. Он орал ее во все горло прямо мне в ухо. При этом отбивал такт, шлепая меня по голове.
Как прочно у меня засела в памяти малейшая деталь того дня. Когда доехали до Праги, Итка вспомнила, что у нас на сегодня билеты в концерт. Точнее говоря, билеты были у Вискочилов, они купили их для нас и для себя.
Хорошо еще, что Итка вспомнила.
– Подумай только, как было бы неприятно, если бы нас там не оказалось! – воскликнул я.
– Особенно неприятно было бы пропустить виолончельный концерт Дворжака!
Мы с нетерпением ждали предстоящего вечера. В молодости мы ходили на концерты часто; были периоды, когда не пропускали ни одной новой постановки. Теперь же редко выпадала эта радость. Вечно бились над проблемой, где бы изыскать резервы времени.
Когда наконец добрались до дому, оказалось, нас ждет Ондра. Он сидел на лестнице в джинсах и тренировочном свитере и был похож на выпускника средней школы.
– Ну молодцы, – приветствовал он нас. – Я думал, вы исцеляете страждущих, а вы, оказывается, ездите за город на прогулки!
– Ты был в клинике?
– Разумеется! Нет ничего тайного, что бы не стало явным! «Пан профессор уехал с мамой». «Пани ассистентка уехала с папой!» Секретарши будто сговорились.
Как хорошо, что дома оказался сын.
– Но как ты очутился в Праге? Почему не сообщил?
Уже зашли в квартиру. Он блаженно развалился в кресле. Зевнул.
– Бог ты мой, человек чуть не три часа ждет их на лестнице, а они еще делают выговор, что не сообщил! И вообще, в субботу ничего не будет отмечаться?
Ой, ведь у Итки день рождения! Я, кажется, об этом начисто забыл. Приходится на ходу исправлять положение:
– Ну разумеется, будет. Мама уже записалась к парикмахеру, – пытался я острить, – и заказала вечерний туалет.








