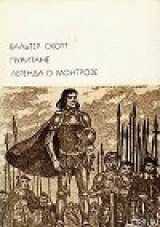
Текст книги "Пуритане"
Автор книги: Вальтер Скотт
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 35 страниц)
ГЛАВА XXIX
И для меня игла в ее руке
Страшнее ста кинжалов.
Мерло
Выехав из Тиллитудлема и миновав аванпосты повстанцев, всадники ненадолго остановились в небольшом городке Босуэл, где их ожидал приготовленный по приказанию Мортона завтрак; это было в самом деле крайне необходимо для людей, изнуренных длительным недоеданием. После краткого отдыха путешественники двинулись дальше по направлению к Эдинбургу. Уже совсем рассвело; над горизонтом растекались лучи восходящего солнца. Было естественно предположить, что лорд Эвендел неотлучно находился при мисс Эдит. Однако, обменявшись приветствиями с юною леди и позаботившись о ее удобствах в пути, он занял место рядом с майором во главе небольшого отряда, передав попечение о прелестной его племяннице одному из повстанцев, фигура и черты которого были скрыты черным военным плащом и надвинутой на лоб широкополою шляпой со спадавшими на лицо перьями. Так они ехали бок о бок в полном молчании мили две, пока незнакомец не обратился наконец к мисс Белленден глухим и дрожащим голосом.
– Мисс Белленден, – сказал он, – не может не иметь друзей всюду, где ее знают, и даже среди тех, чье поведение ныне ею решительно осуждается. Могут ли они каким-нибудь способом доказать, что по-прежнему уважают ее и скорбят о перенесенных ею страданиях?
– Пусть научатся ради самих себя уважать законы и щадить невинную кровь, – ответила мисс Белленден. – Пусть возвратятся к исполнению своего долга пред королем, и я готова простить им все, что выстрадала, и еще в десять раз больше.
– Вы, следовательно, не допускаете, – спросил ее собеседник, – что в наших рядах находятся люди, которые, желая блага отчизне, убеждены в том, что выполняют свой патриотический долг?
– Было бы неосторожно, – отозвалась мисс Белленден, – находясь в вашей власти, отвечать на этот вопрос.
– Но только не в этом случае, даю вам слово солдата, – горячо проговорил всадник.
– Меня с детства научили быть откровенной, – сказала Эдит, – и если необходимо ответить на ваш вопрос, я позволю себе высказать все, что чувствую. Один Бог может судить о сердце и побуждениях человека; что до людей, то они вынуждены оценивать его по поступкам. Измена, убийства, виселицы, насилия, чинимые над мирной семьей, как, например, наша, взявшейся за оружие только для защиты законного правительства и своего собственного имущества, – все эти действия чернят всякого, кто имеет к ним хоть какое-нибудь отношение, какими бы высокими словами они ни были приукрашены.
– Вина за междоусобную войну, – возразил всадник, – за бедствия, которые она приносит с собой, на совести тех, кто вызвал ее угнетением и беззакониями, а не тех, кто оказался в необходимости прибегнуть к оружию, чтобы отстаивать естественные права свободных людей.
– Вы выдвигаете довод, который, в свою очередь, нуждается в доказательстве, – ответила юная леди. – Каждая из сторон готова настаивать на своей правоте, и поэтому виноватой нужно считать ту из них, которая первая схватилась за меч, – и при любой драке закон видит преступника в том, кто первый прибегнул к насилию.
– Увы! – сказал всадник. – Если бы наше оправдание зависело только от этого, как легко было бы доказать, что мы проявили терпение, которое поистине превосходит возможности человеческие, и перешли к открытой борьбе лишь вынужденные неслыханным произволом. Но я замечаю, – продолжал он, тяжко вздохнув, – что тщетно защищать перед мисс Белленден то дело, которое она заранее осудила, быть может, столько же из неприязни к его участникам, сколько и к их убеждениям.
– Извините, – сказала Эдит, – я свободно высказалась о принципах, которыми руководствуются мятежники; что касается их самих, то мне нечего сказать по этому поводу, потому что я их не знаю… за одним-единственным исключением.
– И это исключение, – спросил всадник, – оказало влияние на ваше мнение обо всех?
– Совсем нет, – ответила Эдит, – тот, кого я имею в виду… он… по крайней мере, я считала его таким… он намного выше других; он был или казался человеком с рано развившимися талантами, возвышенных взглядов, высокой честности и верного сердца. Могу ли я сочувствовать мятежу, превратившему его, который мог бы стать украшением, гордостью и оплотом своей страны, в сотоварища мрачных и невежественных фанатиков, опасных лицемеров, в вождя неразумных и темных людей, в соратника разбойников и убийц с большой дороги? Если вы встретите его в вашем лагере, скажите ему, что Эдит Белленден пролила куда больше слез из-за его падения, из-за того, что он утратил такие возможности и покрыл бесчестием свое имя, чем из-за несчастий, свалившихся на ее близких; что ей легче было переносить голод, от которого ввалились ее щеки и потускнели глаза, чем сердечную муку, сопутствовавшую каждой ее мысли о том, кто был виновником всех этих бедствий.
Произнося эти слова, она повернулась лицом к своему собеседнику; ее бледные щеки, хоть их и оживлял, пока она говорила, еле заметный румянец, свидетельствовали о пережитых ею страданиях. Всадник не остался безучастным к этому призыву; он схватился за голову, как будто его мозг пронизала внезапная боль, и, проведя рукой по лицу, надвинул еще ниже на лоб свою широкополую шляпу. Ни это движение, ни чувства, которые его вызвали, не остались незамеченными Эдит, и ее сердце в ответ на это затрепетало.
– И если тот, – сказала она, – о ком я говорю, будет серьезно огорчен суровым суждением его… его… прежнего друга, скажите ему, что искреннее раскаяние есть первый шаг к искуплению; что, хотя он пал с такой высоты, подняться на которую будет ему нелегко, хотя он повинен во многих дурных делах, творившихся под прикрытием его имени, – все же он и теперь еще может частично искупить зло, лежащее на его совести.
– Но как? – спросил всадник тем же глухим и прерывистым голосом.
– Стараясь установить мир для блага своих обездоленных соотечественников, побуждая заблудших мятежников сложить оружие и разойтись. Спасая их кровь, он может искупить уже пролитую; кто потрудится для этой возвышенной цели, тот заслужит благодарность нашего поколения и добрую память потомства.
– Полагаю, – твердым голосом произнес ее спутник, – мисс Белленден не хочет, чтобы этим миром интересы народа были принесены в жертву интересам короны.
– Я еще слишком молода, – отвечала Эдит, – и не могу говорить об этом с полным знанием дела. Но раз я заговорила на эту тему, то охотно добавлю, что желала бы мира, который удовлетворил бы все партии и оградил подданных короля от военных поборов: они мне ненавистны не меньше, чем ваши меры борьбы с этим бедствием.
– Мисс Белленден, – сказал Генри Мортон, открывая лицо и говоря своим обычным голосом, – тот, кто утратил ваше драгоценное для него уважение, достаточно смел, чтобы защищать правоту своего дела в качестве обвиняемого. Понимая, что он не вправе рассчитывать на дружеское сочувствие, он промолчал бы в ответ на ваше суровое осуждение, но он может сослаться на лорда Эвендела, который, без сомнения, засвидетельствует, что все помыслы и усилия этого человека, особенно в настоящее время, направлены на заключение мира, и притом на таких условиях, которых не осудят даже наиболее рьяные приверженцы короля.
Он с достоинством поклонился Эдит, которая, судя по ее речам во время этой беседы, хоть и знала, с кем разговаривает, все же, видимо, не ждала, что ее собеседник станет защищаться с такою горячностью. Смутившись, она молча ответила на его поклон. Мортон ускакал и подъехал к находившимся во главе отряда.
– Генри Мортон! – воскликнул майор Белленден, пораженный его внезапным появлением.
– Он самый, – ответил Мортон, – и он глубоко удручен суровым приговором майора Беллендена и его близких. Прошу вас, милорд, – продолжал он, обращаясь с поклоном к лорду Эвенделу, – прошу вас взять на себя труд рассказать моим друзьям о моих действиях и удостоверить чистоту моих помыслов. Прощайте, майор Белленден! Желаю вам и всем вашим всяческого благополучия. Быть может, мы еще встретимся в лучшие времена.
– Поверьте мне, – сказал лорд Эвендел, – я оправдаю ваше доверие, я постараюсь отплатить за те неоценимые услуги, которые вы мне оказали, и сделаю все от меня зависящее, чтобы вы предстали в истинном свете и перед майором Белленденом, и перед всеми, чьим мнением вы дорожите.
– Зная ваше великодушие, я ничего иного не ожидал, – отозвался Мортон.
Он кликнул своих подчиненных и поскакал полем по направлению к Гамильтону; перья их развевались и стальные шлемы поблескивали в лучах восходящего солнца. Задержался лишь один Кадди, чтобы нежно проститься с Дженни Деннисон, которая за время короткого утреннего путешествия восстановила свою власть над его чувствительным сердцем. Одинокое дерево не столько скрыло, сколько прикрыло в своей тени их tete-a-tete note 27Note27
свидание наедине (франц.).
[Закрыть], когда они попридержали коней, чтобы сказать друг другу «прощай».
– Прощай, Дженни, – сказал Кадди, с шумом выдыхая воздух, что должно было, видимо, изображать вздох, но гораздо больше напоминало горестный стон. – Ты ведь вспомнишь иногда про бедного Кадди, который по-честному любит тебя, Дженни; ты ведь будешь иногда о нем вспоминать?
– Конечно… когда на столе будет похлебка, – ответила злопамятная девица, не удержавшись от острого словца и от сопровождавшей его ехидной улыбки.
Кадди, однако, не остался в долгу: он вознаградил себя по обычаю деревенских поклонников – что не явилось, надо полагать, неожиданностью для Дженни, – обхватив возлюбленную за шею и от души поцеловав ее в обе щеки и в губы. Простившись таким образом, он повернул коня и пустился догонять своего господина.
«Ну и черт этот парень, – подумала Дженни, вытирая губы и поправляя прическу. – А ведь он куда смелее, чем Том Хеллидей».
– Сейчас, миледи, сейчас! Боже милостивый, хоть бы старая леди ничего не заметила!
– Дженни, – сказала леди Маргарет, когда девушка подъехала ближе,
– молодой человек, который командовал сопровождавшими нас мятежниками, не тот ли самый, что был Капитаном Попки и после этого узником в Тиллитудлеме, когда нас посетил Клеверхауз?
Дженни, довольная, что этот вопрос не имеет отношения к ее личным делам, взглянула на свою юную госпожу, чтобы по возможности выяснить, нужно ли говорить правду или лучше о ней умолчать. Не уловив в ее взгляде никакого определенного указания, она последовала своему инстинкту доверенной камеристки и солгала.
– Не думаю, миледи, чтобы это был он, – сказала она так же уверенно, как прочитала бы свой катехизис, – тот был маленький и чернявый собою.
– Ты ослепла, наверное, Дженни, – вмешался майор, – Генри Мортон красив и высок, и этот молодой человек не кто иной, как он самый.
– У меня достаточно других дел, – сказала Дженни, вскидывая головку, – чтобы рассматривать, какой он там из себя, хотя бы он был тонок, как свечка ценою в грош.
– Великое счастье, – сказала леди Маргарет, – что нам удалось вырваться из рук этого кровожадного фанатика и изувера.
– Вы, сударыня, заблуждаетесь, – сказал лорд Эвендел, – никто не вправе называть этим словом мистера Мортона, а тем более – мы. Тем, что я жив и что вы в настоящее время не томитесь в плену у действительного фанатика и убийцы, мы обязаны только деятельному человеколюбию и быстрому вмешательству этого молодого джентльмена.
И он подробно рассказал о событиях, с которыми читатель уже знаком, остановившись в особенности на добродетелях Мортона и несколько раз подчеркнув, словно это был его брат, а не соперник, с какою опасностью для себя он оказал ему эту совершенно исключительную услугу.
– Я проявил бы черную неблагодарность, – сказал он в заключение, – если бы позволил себе умолчать о достоинствах человека, которому я обязан двукратным спасением моей жизни.
– Я охотно думал бы о Генри Мортоне только хорошее, – заявил майор, – но, признавая, что он вел себя в высшей степени благородно и по отношению к вам, и по отношению ко всем нам, я все же не могу примириться с той снисходительностью, с какой ваша честь откосится к его поведению в настоящее время.
– Нужно учитывать, – сказал лорд Эвендел, – что к такому образу действий его отчасти принудили обстоятельства, и я должен добавить, что его взгляды, хотя и не совпадают с моими, тем не менее не могут не внушать уважения. Клеверхауз, которому нельзя отказать в умении сразу распознавать людей, дал вполне правильную оценку его необыкновенным качествам, хотя в оценке его взглядов и принципов он, конечно, проявил суровую предубежденность.
– Вы исключительно быстро распознали его достоинства, – ответил майор. – Он, можно сказать, вырос у меня на глазах, и до этих событий я мог бы сказать много хорошего о его нравственных качествах и добром характере; но что касается его необыкновенных талантов…
– Они были, видимо, неизвестны и ему самому, – ответил благородный молодой лорд, – пока обстоятельства не заставили их раскрыться, и если мне удалось их обнаружить, то произошло это лишь потому, что мы с ним говорили о вещах, в высшей степени важных и злободневных. Он теперь старается прекратить восстание, и условия мира, которые он предлагает, настолько умеренны, что я от всего сердца готов их поддержать.
– И вы надеетесь, – спросила леди Маргарет, – на успешное выполнение этого плана?
– Я мог бы на это надеяться, будь все виги столь же умеренны в своих требованиях, как Мортон, а все приверженцы короля – столь же беспристрастны, как наш майор. Но фанатизм и раздражение с обеих сторон таковы, что едва ли что-нибудь, кроме меча, завершит эту братоубийственную войну.
Нетрудно представить себе, с каким вниманием Эдит прислушивалась к этой беседе. Она сожалела, что так опрометчиво и резко говорила со своим старым другом, но вместе с тем чувствовала гордость и удовлетворение при мысли о том, что даже в глазах великодушного своего соперника он был таким, каким прежде казался ее влюбленному взору.
«Гражданские распри и семейные предубеждения, – сказала она себе, – может быть, и заставят меня вырвать воспоминание о нем из моего сердца; но немалое утешение быть уверенной в том, что он достоин места, которое так долго занимал у меня в душе».
Пока Эдит раскаивалась в своем несправедливом гневе, ее возлюбленный успел прибыть в лагерь повстанцев близ Гамильтона; здесь все было в смятении. Были получены достоверные сведения, что королевская армия, подкрепленная прибывшими из Англии лейб-гвардейцами, готова к походу. Молва преувеличивала численность неприятеля, его дисциплину и вооружение. Распространялись всевозможные слухи, приводившие пресвитериан в уныние и отнимавшие у них волю к сопротивлению. Какой снисходительности им следует ждать от Монмута, можно было предвидеть заранее, судя по тем людям, которые его окружали и имели на него большое влияние. Его заместителем был прославленный генерал Томас Дэлзэл, постигший военное ремесло в еще дикой в те времена России, страшный своею жестокостью и полный пренебрежения к человеческой жизни и человеческим страданиям, но внушавший уважение своей непоколебимою преданностью короне и беззаветною храбростью. Этот человек был в армии вторым после Монмута; конница находилась под командою Клеверхауза, жаждавшего отомстить за гибель племянника и поражение под Драмклогом. Говорили также о грозном артиллерийском парке и о несметной кавалерии, с которыми королевская армия выступила в поход.
Большие отряды, набранные из горцев, не имевших ничего общего ни в языке, ни в религии, ни в обычаях с мятежными пресвитерианами, были вызваны на подмогу королевским войскам и явились под начальством своих вождей; эти аморреи, или филистимляне, как их называли повстанцы, слетелись, словно коршуны, к месту сечи. Всякий, кто мог сесть на коня или идти вместе с пехотой, был призван правительством на королевскую службу; это было сделано с явною целью конфисковать земли или взыскать денежный штраф у тех ослушников, которые не вступали в королевскую армию из политических и религиозных убеждений и не присоединялись к повстанцам из благоразумной осторожности. Словом, все эти слухи укрепляли в повстанцах уверенность, что королевская месть так долго откладывалась лишь для того, чтобы вернее обрушиться на их головы.
Мортон стремился ободрить бойцов, говоря, что слухи сильно преувеличены, а их собственная позиция почти неприступна, так как перед их фронтом – река, через которую можно переправиться лишь по длинному и узкому мосту. Он напоминал им о победе, одержанной над Клеверхаузом, когда их войско было немногочисленным, хуже организованным и менее подготовленным к боевым действиям, чем теперь; он разъяснял, что поле сражения, благодаря неровностям и разбросанным на нем зарослям кустарника, доставляет достаточно укрытий от огня артиллерии и при упорной обороне неудобно для действий конницы и что в конце концов их безопасность зависит от их же мужества и решимости.
Но, стремясь сохранить боевой дух армии в целом, он вместе с тем воспользовался этими тревожными слухами, чтобы убедить командиров в необходимости начать переговоры с правительством, предложив ему умеренные условия мира; это следует сделать, говорил он, пока они еще являются грозной силой, пока противник видит перед собой многочисленную, руководимую общим командованием армию. Он предсказывал, что при унынии, овладевшем людьми, едва ли можно ожидать успешного исхода сражения с хорошо оснащенными регулярными войсками герцога Монмута; если же они потерпят поражение и будут рассеяны, восстание, которое они начали, не только не освободит их отчизну, но, напротив, будет использовано для того, чтобы оправдать еще большее ее угнетение.
Под влиянием этих доводов, понимая, что одинаково опасно как оставаться всем вместе, так и распустить армию, большинство вождей охотно признало, что, если бы были приняты условия мира, предложенные герцогу Монмуту через лорда Эвендела, цель, ради которой они взялись за оружие, была бы в значительной мере достигнута. Придя к этому выводу, они согласились подтвердить составленные Мортоном и Паундтекстом петицию и памятную записку. Между тем несколько вождей и те люди, чье влияние на массы было гораздо большим, чем влияние многих других, занимавших видные должности, рассматривали всякое предложение о заключении мирного договора, если оно не покоилось на принципах Торжественной лиги и ковенанта 1640 года, как не подлежащее обсуждению, нечестивое и богопротивное. Они настойчиво распространяли свои взгляды среди массы рядовых ковенантеров, которые не умели предвидеть и которым нечего было терять, и успели убедить многих, что робкие советчики, рекомендуя мир на условиях, обходивших молчанием вопрос о низложении королевской династии и о провозглашении независимости церкви от государства, были трусливыми пахарями, готовыми в любое мгновение бросить плуг, и презренными отступниками, выискивающими подходящий предлог, чтобы покинуть своих соратников. Эти резко противоположные мнения обсуждались в каждой палатке повстанческой армии или, вернее, в каждой хижине и лачуге, заменявших собою отсутствующие палатки. Резкость выражений, к которым прибегали обе стороны, приводила нередко к ссорам и потасовкам, и разногласия, раздиравшие эту армию страдальцев, не оставляли сомнений в ее грядущей судьбе.
ГЛАВА XXX
Проклятье этих споров и раздоров
Еще тревожит ваш совет.
«Спасенная Венеция»
На долю Мортона, хорошо понимавшего гибельность этих раздоров, выпало немало хлопот; всеми доступными ему средствами пытался он сдержать разбушевавшиеся страсти обеих партий. За этим занятием его и застал явившийся на третий день после его возвращения в Гамильтон достопочтенный мистер Паундтекст, заявивший, что он бежал от Джона Белфура Берли, который мечет громы и молнии из-за его участия в освобождении лорда Эвендела. Придя немного в себя после быстрой езды и несколько успокоившись, этот достойный священник принялся подробно рассказывать обо всем происшедшем в лагере под Тиллитудлемом в то памятное утро, когда Мортон его покинул.
Мортон так искусно скрыл свою ночную поездку и люди, которые были посвящены в его тайну, оказались настолько верными, что Берли до самого утра не знал о случившемся. Проснувшись, он первым делом спросил, приехали ли Тимпан и Мак-Брайер, за которыми еще в полночь он послал гонцов. Ему ответили, что Мак-Брайер прибыл, а Тимпан, хоть и тяжел на подъем, с минуты на минуту должен прибыть. Тогда он послал за Мортоном, вызывая его на заседание, которое предполагал провести немедленно. Посланный возвратился с известием, что Мортон уехал. Он велел сходить за Паундтекстом. Однако, полагая, как сказал Мортону сам Паундтекст, что лучше не иметь дела с этими безумцами, почтенный священник, хотя и провел весь день в седле, тут же отбыл в свою мирную усадьбу, предпочтя ночную скачку возобновлению поутру спора с Берли, свирепость которого, при отсутствии поддержки со стороны Мортона, нагоняла на него страх. После этого Берли приказал привести к нему лорда Эвендела, и какова же была его ярость, когда ему сообщили, что того еще ночью увез отряд милнвудских стрелков, находившийся под командой самого Мортона.
– Негодяй, – воскликнул Берли, изливая свой гнев Мак-Брайеру, – низкий, трусливый предатель! Выслуживаясь перед правительством, он выпустил на свободу пленного, захваченного моими руками. Угрожая казнью этого пленного, мы наверняка завладели бы сильною крепостью, доставившей нам столько хлопот.
– Но разве она не в наших руках? – спросил Мак-Бранер, взглянув в сторону замка. – И разве не развевается над ее стенами знамя священного ковенанта?
– Это уловка, это всего-навсего военная хитрость, – ответил Берли, – чтобы досадить нам и поиздеваться над нами, чтобы вселить в наши души неверие и поколебать боевой дух наших воинов.
Но в этот момент прибыл один из людей Мортона с сообщением, что гарнизон вышел из крепости и что она занята отрядом повстанцев. Это известие не только не успокоило Берли, но, напротив, усилило его бешенство.
– Я стоял на страже, – говорил он, – я сражался, я ломал себе голову, как подорвать силы защитников крепости, я отказался от более важного и почетного назначения, я запер их в засаде, я отвел от них воду и отнял у них хлеб насущный, и когда их мужи уже были готовы предать себя в мои руки, чтобы сыны их стали рабами, а дщери – посмешищем всего нашего стана, приходит этот юнец, у которого еще не отросла борода, и срезает своим серпом мою жатву, и отнимает добычу, уже затравленную ловцом! Но разве работник не вправе получить свою плату, разве город вместе с пленными не достается тому, кто его захватил?
– Нет, – сказал Мак-Брайер, пораженный неистовством Берли. – Не горячись из-за неугодного Богу. Небо знает, какое выбрать орудие; кто ведает, может быть, этот юноша…
– Замолчи! Замолчи! – воскликнул Берли. – Не отрекайся от своего прежнего и более мудрого мнения. Кто, как не ты, предостерегал меня от этого гроба повапленного, от этого куска меди, который я считал чистым золотом? Горе тем – даже если они в числе избранных, – кто пренебрегает советами столь праведных пастырей, как ты, Эфраим Мак-Брайер. Наши земные привязанности – вот что ввергает нас в заблуждения; отец этого неблагодарного сосунка был моим давним другом. Нам подобает быть столь же ревностными, как ты, Эфраим Мак-Брайер, лишь тогда нам удастся сбросить с себя бремя и цепи человеческих слабостей.
Этот комплимент задел в душе проповедника самую чувствительную струну, и Берли рассчитывал, что он без труда добьется поддержки Мак-Брайера в осуществлении своих замыслов, тем более что их мнения о церковном устройстве вполне совпадали.
– Немедленно едем в замок, – сказал он Мак-Брайеру, – в этой крепости должны найтись кое-какие старые документы, которые, если должным образом их использовать (а я знаю, как это сделать), доставят нам сотню всадников во главе с отважным вождем.
– Но разве подобает сынам ковенанта добиваться таким путем помощи? – спросил проповедник. – Среди нас и без того слишком много алчущих скорее земли, злата и серебра, чем слова Господня; не через них свершится наше освобождение.
– Ты заблуждаешься, – возразил Берли. – Нам приходится распахивать тяжелую почву, и пусть эти корыстные люди будут орудиями в наших руках. Во всяком случае, эта моавитянка лишится своего имущества, и ни язычник Эвендел, ни эрастианин Мортон не овладеют замком и землями, хоть и домогаются жениться на ее внучке.
Сказав это, он отправился в Тиллитудлем, где забрал для нужд армии серебро и ценные вещи и перерыл архив и другие места хранения семейных бумаг, отнесясь с полнейшим пренебрежением к словам тех, кто пытался ему напомнить, что по условиям капитуляции обитателям замка гарантирована неприкосновенность их собственности.
Берли и Мак-Брайер, обосновавшись в завоеванной крепости, в тот же день встретились с Гэбриелом Тимпаном, а также с лэрдом Лонгкейла – последнего неугомонный священнослужитель успел, по выражению Паундтекста, соблазнить и отвлечь от света истинной веры, в которой он был воспитан. Собравшись вместе, они послали названному Паундтексту приглашение или, вернее, приказ явиться в Тиллитудлем на заседание. Памятуя, однако, о дверях с железной решеткой и о башне с темницей, Паундтекст решил избежать встречи со своими разгневанными товарищами. В силу этих соображений он удалился или, точнее, бежал в Гамильтон, принеся с собой весть, что Берли, Мак-Брайер и Тимпан также намерены направиться в этот город и что они сделают это тотчас, как только соберут достаточно сильный отряд камеронцев, опираясь на который смогут держать в страхе всю армию.
– Вы понимаете, – закончил Паундтекст, тяжело вздохнув, – что теперь в военном совете они будут располагать большинством голосов, так как лэрд Лонгкейла, хоть он всегда почитался одним из наиболее честных и разумных приверженцев умеренной партии, в сущности, ведь ни рыба ни мясо, а хорошей копченой селедкой его тоже не назовешь: кто сильнее, с тем и Лонгкейл.
Этими словами почтенный Паундтекст закончил свой невеселый рассказ. Он много и тяжко вздыхал, потому что ясно сознавал опасность, угрожавшую ему как со стороны неразумных недругов в своем стане, так и со стороны общих им всем врагов. Мортон убеждал его запастись терпением и успокоиться, сообщил о своих надеждах на успех переговоров о мире и об амнистии, которые ведутся через лорда Эвендела, и пообещал, что он снова сможет вернуться к своему Кальвину в пергаментном переплете, к своей вечерней трубке и вдохновляющей кружке эля, если только окажет поддержку и содействие в том, что предпринимает он, Мортон, для скорейшего прекращения этой войны. Утешив и успокоив Паундтекста, он добился от него героического решения дожидаться прибытия камеронцев, чтобы дать им генеральное сражение в военном совете.
Берли и его единомышленникам удалось собрать сильный отряд сектантов, насчитывавший в своих рядах до ста всадников и около полутора тысяч пеших. Это были хмурые и суровые с виду, недоверчивые, угрюмые, высокомерные и самоуверенные люди, убежденные в том, что лоно спасения открыто только для них, тогда как все прочие, как бы ничтожны ни были между ними различия в исповедании, на самом деле немногим лучше еретиков или язычников. Эти люди прибыли в лагерь пресвитериан скорее как сомнительные и подозрительные союзники или, может быть, даже враги, чем как воины, искренне отдавшие себя общему делу и готовые подвергнуться тем же опасностям, что и их более умеренные по взглядам соратники. Берли не посетил ни Мортона, ни Паундтекста и не согласовал с ними ни одного из важнейших вопросов; он только послал им официальное приглашение явиться вечером в военный совет.
Когда Мортон и Паундтекст прибыли на заседание, все остальные были уже в сборе. Они сухо приветствовали вошедших – по всему было видно, что созвавшие этот совет отнюдь не намерены проводить его в дружественной обстановке. Первый вопрос им задал Эфраим Мак-Брайер; увлекаемый своим пылким рвением, он всегда и во всем неизменно опережал остальных. Он желал знать, чьею властью нечестивец, именуемый лордом Эвенделом, был избавлен от смертной казни, к которой был справедливо приговорен.
– Моей властью, а также властью мистера Мортона, – отвечал Паундтекст, который прежде всего хотел покрасоваться своим бесстрашием перед единомышленником, уверенный, что тот окажет ему поддержку, а кроме того, предпочитал скрестить оружие в богословском диспуте, где мог никого не бояться, с лицом той же профессии, что и его собственная, чем вступать в споры с мрачным убийцею Белфуром.
– А кто, брат мой, – спросил Тимпан, – кто уполномочил вас принимать решения в таком важном деле?
– Самый характер осуществляемой нами деятельности, – ответил Паундтекст, – даст нам власть вязать и развязывать. Если лорд Эвендел был справедливо осужден на смерть голосом одного из нас, то можно не сомневаться в законности отмены этого приговора, раз за нее выступили два члена совета.
– Рассказывайте! – воскликнул Берли. – Нам известны побуждения, которыми вы руководствовались. Вы хотели послать через этого шелковичного червя, через эту расфранченную куклу, это ничтожество в золотом шитье, которое именуется лордом, ваши условия мира; вы хотели, чтобы он вручил их тирану.
– Да, это так, – сказал Мортон, заметив, что Паундтекст начинает сдавать, не выдерживая грозного взгляда Берли, – да, это так; ну так что же? По-вашему, нам следует ввергнуть народ в войну, которой не будет конца, чтобы пытаться осуществить дикие, преступные и неосуществимые планы?
– Послушайте его, – сказал Берли, – он богохульствует.
– Неверно, – возразил Мортон, – богохульствуют те, кто уповает на чудеса и не хочет использовать средства, которыми провидение благословило людей. Повторяю: наша цель – заключение мира на приемлемых для всех и почетных условиях, обеспечивающих свободу для наших верований и неприкосновенность для нас. Мы не допустим, чтобы кто-либо навязывал нам свои убеждения.
На этот раз спор, вероятно, принял бы еще более ожесточенный характер, чем когда-либо прежде, если бы он не был внезапно прерван известием о том, что герцог Монмут выступил из Эдинбурга в западном направлении и прошел уже больше половины пути. Эти новости заставили на мгновение смолкнуть спорящих. Совет постановил назначить на завтра день покаяния во искупление грехов их несчастной страны; достопочтенному мистеру Паундтексту было предложено выступить перед армией утром, а Гэбриелу Тимпану – после полудня; ни тот, ни другой не должны были затрагивать разногласий в религиозных воззрениях; им предписывалось воодушевить воинов стоять не на живот, а на смерть, сражаясь дружно рука об руку, как подобает братьям, за правое дело. После того как совет принял это спасительное в данных условиях постановление, представители умеренной партии рискнули внести еще одно предложение, надеясь на то, что оно встретит поддержку Лонгкейла, который, услышав вести о продвижении королевских войск, стал белый как полотно и начал, видимо, снова склоняться к умеренности. Обосновывая это предложение, они указали на то, что король доверил командование войсками не их угнетателям, а вельможе, известному мягкостью своего характера и благожелательным отношением к делу пресвитериан, вследствие чего можно предполагать, что правительство намерено действовать с меньшей суровостью, нежели та, которую они на себе испытали. Ввиду этого было бы не только разумным, но и существенно необходимым выяснить непосредственно у самого герцога, нет ли у него каких-нибудь секретных инструкций в их пользу, а это можно сделать только в том случае, если для переговоров с герцогом будет послан специальный уполномоченный.








