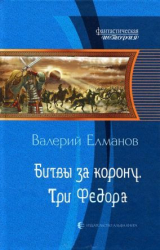
Текст книги "Битвы за корону. Три Федора"
Автор книги: Валерий Елманов
Жанры:
Альтернативная история
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Глава 9. Стриженых не стригут
Признаться, я и не представлял себе, что для организации этих празднеств требуется столько серебра. Но в любом случае сдирать его с народа нельзя. Прямо тебе копия двадцать первого века: Москве веселиться, а Руси прослезиться.
Нет, возможно, я бы сдержался, промолчал, но как назло припомнились деревни, в которых доводилось ночевать совсем недавно на обратном пути из Прибалтики в столицу. Одни избы чего стоят. Все какие-то почерневшие, по большей части запущенные, обломанные и неряшливые, а половина и вовсе ушли в землю и походили то ли на свинарники, то ли на собачьи конуры. Маленькие – голову не просунуть – окошки, затянутые мутными бычьими пузырями, покосившиеся двери. Крыши местами сползли, местами провалились. Где чернеет гнилая дрань, где клочьями торчит солома, прикрепленная жердочками. Трубы под стать домам – деревянные, обгрызенные и закопченные.
Одежонка на крестьянах соответствующая. Лохмотьями не назовешь, но и приличной язык не повернется. Про еду отдельная песня. Впрочем, какая там песня. Скорее стон. Специально заглянул в пару-тройку изб и повсюду одно толокно – толченая немолотая овсяная мука с квасом и солью. А вприкуску к нему хлеб пополам с мякиной. Да и то не везде – в одной избе меня вообще угостили не пойми чем. Этот кусок и в руки-то брать неприятно, настолько он походил на высохший комок грязи. Позже у хозяек узнал, что он с лебедой и сосновой корой. В качестве эксперимента я, стараясь не морщиться, мужественно откусил, добросовестно прожевал и проглотил. Хватило меня на один кусочек – нельзя испытывать терпение своего желудка.
А ведь я выбирал не самые убогие избы. Да и у старост стол не ломился от всевозможной снеди. Получше, конечно, и еда удобоваримая, и квас трёх сортов – на меду, клюквенный, яблочный, да и хлеб приличный, без подмеса. В лапше даже сало имелось. Но все одно – особо не разгуляешься. А деньки, между прочим, не постные – мясоед. Вот только нет у них на столе мяса-то. Нам крестьяне нашли, что продать, но как я выяснил, половина, польстившись на звонкое серебро, приволокла всю живность до последней курицы.
И эти деревни, наряду с прочими, юный престолоблюститель с подачи своих многомудрых советников собрался обложить дополнительным налогом. Молодец, ничего не скажешь.
Кроме того, если вспомнить о поздних морозах, обрушившихся на страну вместе со снегопадом в середине мая, налагать на людей новую подать ни в коем случае нельзя. Я хоть и несведущ в сельском хозяйстве, но и то понимаю, что урожай озимых в это лето крестьян не порадует. Да и с яровыми неизвестно чего ждать. Хлестанут дожди на уборочную и все: сидеть народу без хлеба. И тогда впору думать не о новой подати, а о помощи, где для них зерно на семена взять. Я сам по такому случаю снарядил гонца в Речь Посполитую, дав команду ребятам из «Золотого колеса» и отменив свой запрет на игру в долг для шляхтичей.
Основания для такого запрета при игре в рулетку у меня имелись, даже несколько. Во-первых, если подавать в суд на взыскание денег, неизвестно в чью пользу вынесут решение. Во-вторых, в случае разбирательства может всплыть наружу подлинное происхождение официального владельца заведения (так ты из Руси!) и тогда жди чего угодно.
А плюс к тому и в-третьих: становился неизбежным погром казино. Ну как с евреями, надеявшимся заняв кучу денег королям, герцогам и графам тем самым обезопасить себя от нападок. А того невдомек, что графу проще натравить на них чернь, чем уплатить огромный долг. Когда именно произошел бы погром казино – неведомо, но что рано или поздно это случилось бы, к гадалке не ходи. И цель одна – изничтожить долговые расписки, по которым нечем платить.
Потому я отменил запрет не полностью, но сделав существенную оговорку. Отдавать заем шляхтич должен не серебром, а… зерном. Да, да, я не оговорился. По сути, получалась обычная закупка на корню урожая по заранее установленной цене. Причем при выдаче денег я указал не скупиться и устанавливать цену зерна выше той, которую шляхтичи получили бы в результате обычной его продажи какому-нибудь купцу.
Для чего я это сделал, думаю, понятно. Здоровенные амбары в Кремле, предназначенные для запасов зерна, третий год пустовали. Покойный государь Борис Федорович не поскупился, отдал людям все в голодные годы, а заново заполнить их не успел, умер. Дмитрий же…. Это он на словах превеликий печальник о народе, а на деле…. Впрочем, исходя из поговорки – о покойниках либо хорошее, либо ничего – лучше промолчу.
А на заседании заставить себя промолчать я не смог. Голодные глаза людей вспомнились. Да еще мальчишка в одной из деревень. Маленький совсем пацаненок, лет семи-восьми, не больше. Никогда не забуду, как тоскливо он смотрел на кусок хлеба в моей руке, который я тогда пытался съесть. И добро бы стоящий, а то ведь тот самый, походивший на комок грязи. Пока я усиленно его пережевывал, собираясь с духом, чтоб проглотить, он все продолжал на меня смотреть. Жадно. Не отрываясь.
И слюну сглатывал.
Отдал я его ему, разумеется. А когда он его умял, причем влет, и снова просительно на меня уставился, повел с собой и приличной едой угостил. Ну и мясом. Да и остальных деревенских, потолковав со своими людьми, к котлам с нашим варевом пригласил, равномерно распределив их по своим десяткам. Подумаешь, лишний человек. Где десяток от пуза наестся, там и одиннадцатый сыт, да и двенадцатый голодным не останется. Когда мы утром отплывали, люди долго стояли на берегу, провожая нас. Глаза у них вновь были такими же голодными, как и накануне.
А на них нынче собираются новую подать возложить. Ну и как мне молчать?
Кстати, как я потом понял, вопрос с налогом был практически решен. Не видел никто иного выхода, ибо в казне денег по-прежнему не имелось, а занимать у англичан мы с моей подачи отказались. И Годунов, осведомившись о моем мнении, действовал больше из вежливости, уверенный, что я поддержу остальных.
Как бы не так. Я поднялся со своего креслица и выпалил:
– Не хлебом единым жив человек, хочется и мяса, государь. Хотя бы иногда.
– Это ты к чему? – нахмурился Федор.
– К тому, что в тех деревнях, где я с гвардейцами останавливался на обратном пути, как мне пояснил один из старост, и ныне, если у кого в чугунке варится курица, то либо она была хворой, либо сам крестьянин находится при смерти.
И я вкратце обрисовал увиденное, сделав особый нажим на описании выражения глаз у того пацаненка. Обращался преимущественно к Годунову, надеясь на его доброе сердце, но когда подводил итог, повернулся ко всем:
– Уже сегодня народ живет так, как никому не пожелает жить завтра. Интересно, до какой степени им надо озвереть, чтобы мы в них заметили человека? – и вновь к престолоблюстителю. – Опомнись, государь. Голых овец не стригут. Не лучше ли по своим сусекам как следует поискать, глядишь, чего и сыщется, – и я выжидающе уставился на него.
Это остальные считали, будто в казне шаром покати. Но я-то помнил, какие деньжищи оставил Федору перед отъездом в Прибалтику. Справедливо полагая, что со мной может приключиться всякое, чай, на войну отправляюсь, я честно поведал ему о ста тридцати тысячах, полученных от Шуйского. приплюсовав к ним и его долю из добычи зимнего похода. Мол, знаю, ты кутить не станешь, весь в батюшку, рачительный, потому имей ввиду – коль возникнут экстренные обстоятельства, почти двести тысяч серебро у тебя имеется. Багульник с Коробом предупреждены, выдадут, сколько затребуешь.
Когда я вернулся, дворский с казначеем сообщили, что пятнадцать тысяч Годунов забрал. Вначале десять, а за пяток дней до моего возвращения еще пять. Ну что ж, пускай осталось сто семьдесят пять тысяч. И их с горкой, нужно-то всего полсотни, то есть меньше трети. Потому я и давил на жалость, рассказывая о тяжкой крестьянской жизни, и, глядя на престолоблюстителя, безмолвно сигнализировал: «Вспомни!»
Однако телепат из меня получился никудышный. Федор смотрел на меня, не мигая, ожидая продолжения речи, и в его глазах я не заметил даже промелька. Зато Марина Юрьевна, сидевшая рядышком, не утерпела, встряла:
– Не верю я, что нельзя собрать с хлопов подать. Почто, князь, на государя страхи нагоняешь?
Это был сигнал. Псы дружно загавкали и ринулись в атаку. Негодующие выкрики понеслись один за другим. Я гордо игнорировал брехунов, но Мнишковну без ответа не оставил:
– Я не утверждал, что подать нельзя собрать. Я говорил, что ее нельзя налагать, ибо мудрый правитель при взимании налогов принимает в соображение не то, что народ в силах дать, а то, что он в силах давать всегда.
– Сказано Христом, богу богово, а кесарю кесарево, – подал голос и Гермоген.
– Даже «Отче наш» начинается с просьбы о хлебе насущном, – парировал я, – ибо трудно хвалить господа и любить ближнего на пустое брюхо. Вечно пустое.
И далее заявил, что крестьяне и без того живут по скотски, а кое в чем и хуже. С коровы или лошади дерут одну шкуру, а с них три, а то и пять. Не довольно ли? Ведь мы этой податью шестую шкуру с них сдираем. Воистину чудесное начало правления, кое вне всякого сомнения запомнится людям. Думается, после этой подати подданные самое малое воспримут восхождение на трон нового государя без особого ликования. Про максимум и говорить не хочется. А если народу придет на ум сравнить начало этого правления с предыдущим, когда всем и вся даровались различные льготы, то….
Нет, нет, я был достаточно осторожен, в безудержный азарт не впал и, подметив, как Федор недовольно поморщился – сравнение то явно не в его пользу, я мгновенно сделал оговорку. Дескать, предшественник Годунова мог себе позволить сорить деньгами благодаря рачительному хозяйствованию Бориса Федоровича. Сегодня же казна пуста именно из-за расточительной щедрости Дмитрия, весьма схожей с мотовством. Но это понимаем мы, а народу такое не растолкуешь, не поймёт.
– Так что делать-то? Иного выхода и впрямь нет, – развел руками боярин Михаил Богданович Сабуров.
– Есть, – отчеканил я. – Выход в том, чтобы поступить по справедливости. Кому праздновать венчание на царство, Руси или Москве? Вот пусть она и раскошеливается, но в первую очередь те, кто примет участие в торжествах.
– Так ты чего предлагаешь? Нам самим…., – и князь Репнин, не договорив, охнул.
– Именно это, – подтвердил я, но, понимая, как воспримут мое предложение присутствующие, постарался смягчить его. – Для начала обратимся к купечеству. Думается, одни Строгановы пяток-другой тысяч отвалят. А если их попросить как следует, то могут в дополнение к своему взносу годика на три и займ беспроцентный предоставить. Вот и еще десяток тысчонок. Ну и остальные купцы из суконной и гостиной сотен кой-чего подкинут. А коль их взносов не хватит, тогда и мы со своей деньгой подоспеем.
Загудели, заворчали, но пока приглушенно, чем я успел воспользоваться, коварно предложив сбрасываться исходя из чинов и титулов – кто считает себя старше, с того и взнос побольше. Негоже, к примеру, умалять достоинство боярина Федора Никитича Романова и брать с него, как с князя Григория Шаховского или с князей Долгоруких. То ему потерька в отечестве.
Вскочивший Романов выпалил:
– Ты, князь, вроде ближе всех к государю. Эвон, и креслице тебе наособицу выделено, выходит, не мне, а тебе самую большую деньгу выделять.
– Согласен, – не возражал я.
– Сколь же ты рассчитываешь дать?
– Готов пожертвовать… десять тысяч рублей. Найдется столько в моих закромах.
Последние слова, произнесенные мной с особым нажимом, вновь никакого воздействия на престолоблюстителя не возымели, а ведь в них лежало и его собственное серебро. Более того, он даже смущенно отвернулся от меня, уставившись прямо перед собой. И вдобавок покраснел.
«Неужто жмотом стал?! – растерянно подумал я. – Но ведь не мог человек так разительно измениться в характере за каких-то полтора месяца, никак не мог. А вспомнить он вспомнил. Но тогда отчего молчит?»
Меж тем охание, ахание и подвывание, вызванное озвученной мною цифрой, постепенно стихло и поднялся Семен Никитич Годунов.
– А нам сколь тогда выкладывать?
– Поменьше, – уклонился я от конкретных цифр, предпочитая вначале решить вопрос в общем, и тогда переходить к конкретным раскладкам.
– Тебе хорошо. Ты эвон какую кучу серебра в походах нагреб, – тонким бабьим голоском взвизгнул толстый Иван Иванович Годунов. – А у меня опосля Кром и последнее позабирали.
– И у нас, и у нас, – раздались выкрики с мест.
– Самим жрать нечего!
– Не ведаем, как до новин дотянуть.
– Мы таких деньжищ отродясь не видывали.
С трудом перекрикивая их вопли, я напомнил, что мы станем добавлять лишь в случае, если не хватит купеческих взносов. А кроме того…. И я, надеясь своим предложением подыскать себе сторонников, выдвинул уточнение. Мол, недавних ссыльных надо освободить от выплат вовсе. Буде у кого появится желание помочь своему родичу, могут внести, но по доброй воле. Да и тем, кто прибыл в Москву с дальних воеводств, тоже полеготить. И впрямь откуда у них серебро?
Галдеж не унимался. Я умолк, выжидая, чтоб немного угомонились – глотка-то не луженая – и краем глаза заметил, как Марина, мстительно усмехнувшись, склонилась к своему жениху и что-то прошептала ему на ухо, косясь в мою сторону. Тот хмуро кивнул в ответ, соглашаясь.
Чувствуя, что ее предложение ничего хорошего для меня не сулит, я попытался опередить события, воззвав к совести и напомнив об обязанности каждого верноподданного порадеть о своем государе. Но получилось как бы не хуже. Все восприняли это, как скрытый упрек и набросились на меня. Почин сделал князь Василий Сицкий – родной племяш Романова. Молодой совсем, тридцати нет, стольник, но наскакивал на меня наряду с Татищевым пуще всех прочих.
– Негоже, князь, государской радости и женитьбе учинять помеху. Да и не тебе о радении Федору Борисовичу толковать! Сам-то чего творил в походе своем?! Али мыслишь, нам о том неведомо?!
Я недоуменно уставился на него. Странно. Вроде Гермоген давно огласил мои грехи. Или их заново перепевать собрались?
– И чего ж я творил?
– А того, – поднялся сидевший подле него его тезка князь Черкасский. – Ты ж…
И началось.
Напрасно я посчитал про перепев. Народ оказался изобретательным и если и учинял повтор, то подавал мой прежний проступок, образно говоря, более актуальной на сегодняшний день стороной. Например, снова напомнили про отдачу всех пленников, включая Ходкевича и Сапегу, Марии Владимировне, а с них следовало получить знатный выкуп. Сейчас это серебрецо и пришлось бы как нельзя кстати. Да и помимо них я отпустил кое-кого из шляхтичей без выкупа. Пошто, спрашивается? А ведь знал сколь худо с деньгой в казне.
Заодно откопали и новые грехи, не забыв и мое «самоуправство» в Пскове. Как это я посмел брать под стражу боярина Шереметева?
Оказывается, лукавый Грамотин, стремясь выгородить вороватого воеводу, ну и себя заодно, первым делом отправил в Москву письмо с подробным доносом того, что я учинил в городе. Разумеется, события оказались поставлены с ног на голову, включая поведение воевод и мое собственное. А в конце послания дьяк договорился до того, что высказал пару предположений о том, с какой целью я вознамерился оголить оборону Пскова, направив всех местных стрельцов в Юрьев-Литовский. Дескать, имелся у меня тайный сговор с Ходкевичем о сдаче города. Потому-то проведавший о моем коварстве Шереметев и решил взять меня под стражу.
Я честно попытался рассказать, как обстояло на самом деле, но тут нанесла точно выверенный удар Марина.
– А кто дал тебе право, князь, от имени государей их волю вершить и суд чинить?! – раздался ее пронзительный голосок, и она надменно уточнила. – Али ты себя царем на Руси возомнил? Не рано ли?
Я пояснил, на основании чего распорядился взять обоих воевод под стражу, ссылаясь на указ Дмитрия «О судьях», но Марина Юрьевна предусмотрела этот вариант.
– Не лги, князь, ибо я сама указ сей видала. Нет там твоего имени ни среди верховных судей, ни среди прочих. Потому ты не токмо бояр да окольничих, но и холопов судить не смеешь. – и торжествующая улыбка появилась на ее лице. На сей раз она оказалась совершенно искренняя, без малейшей фальши, с задействованием всех шестидесяти мышц.
– Как нет? – озадаченно уставился я на нее, а затем на Годунова.
Тот обескураженно развел руками, подтверждая правоту Мнишковны, и негромко пояснил:
– Государь и вправду токмо двоих вписал: меня да покойного Петра Федоровича Басманова.
– Виноват, – с трудом выдавил я, понимая, что на сей раз недосмотр приключился и впрямь по моей вине.
Нет, можно, конечно, упрекнуть Дмитрия, ведь когда он, будучи в Костроме, соглашался с подготовленным мною указом, моя фамилия в нем фигурировала. Но поди спроси его, почему он ее позже вычеркнул. Поделом мне, уточнить надо было.
Марина меня не добивала. Очевидно, ей хватило моего сконфуженного глупого лица. Да и не царское это дело. Зато остальные как с цепи сорвались.
– Никак мыслишь словом одним отделаться, лапушка? – первым подал свой ласковый голос Семен Никитич Годунов.
– А виноватых бьют, – это его зять князь Телятевский по прозвищу Хрипун и тоже из ссыльных. Правда, в тюрьме он не сидел, будучи отправленным Дмитрием воеводой в какой-то южный город. Ныне и он тут как тут. А вслед за ним пошло, поехало, полетело, да со всех сторон разом:
– На добре – спасибо, а за грех – поплатись!
– Через коленку, да настегать маленько!
– Дай курице гряду – изроет весь огород!
– Попусти поводья – он и удила закусил!
– Надо же, и с родича своего мзду восхотел взять!
Я растерянно оглянулся на недовольно хмурившегося Годунова. Нет, я не просил взглядом о помощи, еще чего. Но ему вполне хватило и моего искреннего недоумения. Решительно хлопнув по подлокотнику своего кресла, он встал, укоризненно покачал головой и строго произнес:
– Эка напустились. А забыли, что кто сознался, тот покаялся; а кто покается, тот греха удаляется. Потому и сказываю, будя.
Значит, псов на поводок. Неужто жаль стало косолапого?
Но на сей раз собаки сразу угомониться не желали. Не иначе как вошли в раж, почуяв запах крови.
– Не бить, так и добра не видать, – вполголоса ворчал Троекуров. – Не все по шерсти, ино и впротив надобно. Давно пора.
– Повинную голову и меч не сечет, – веско заметил Федор. – И праведник седмижды в день согрешает. Един бог без греха. Али запамятовали, зачем собрались? Тогда напомню: кто как о серебре мыслит для торжеств царских, да откуда его взять.
– Дозволь, государь, словцо молвить, – вновь встрял неугомонный Гермоген. – Тута князь поведал про десять тыщ рублев…, – и он, вновь напомнив, что именно я заставил весь православный люд свершить смертный грех, учинив сечу в ночь на страстную субботу, сделал непреложный вывод: в морозе со снегом тоже моя вина. Мало того – это одна из первых кар, ниспосланных богом на Русь, а там как знать, возможно, будут и еще. Следовательно, раскошеливаться надлежит исключительно мне одному. И не на десять тысчонок, а полностью покрыв издержки двух мероприятий.
И все вопросительно уставились на меня, предвкушая, как я начну мямлить и отнекиваться. Но я их разочаровал. Не говоря ни слова, я согласно кивнул. Выглядело мое согласие настолько неожиданным, все-таки речь шла о полусотне тысяч, что остальные недоуменно уставились на меня. Чересчур легко я соглашался расстаться с такой огромной суммой. Но коль человек не спорит…
Словом, заседание закончилось в непривычно спокойной обстановке…
Глава 10. Сам замесил, сам и расхлебывай
Я не поленился и тем же вечером заглянул к Власьеву. Хотелось узнать с какого-такого боку Шереметев мне родич, как выкрикнул кто-то. Да еще поинтересоваться, как так вышло с указом.
Относительно первого выяснилось, что Петр Никитич и впрямь по своей второй жене Феодосии Борисовне Долгоруковой доводится мне пускай и очень отдаленным, но родственником.
– Слыхал я, что твой батюшка некогда с ее стрыем на божьем суде стоял, – добавил Власьев. – Неужто он тебе о том не сказывал?
Ой, как плохо. Получается, Осип – ее родной дядька. Одно успокаивает – сыновья Шереметева, и в первую очередь Иван, павший от моей руки на волжском берегу, мне никаким боком, поскольку они от первой жены и Долгорукова доводится им мачехой.
А касаемо изменений в указе, как оказалось, Дмитрий ни при чем – в Думе расстарались. Дескать, славно ты измыслил, государь, но надо сделать пометку, что в судьи надлежит назначать не абы кого, но в должном чине. Негоже окольничему, не говоря про думного дворянина или стольника, судить боярина. И получалось, что моя кандидатура (я тогда был окольничим) тем самым автоматически исключалась. Собственно, я и сейчас-то оставался липовым боярином. Да, свое слово государь перед смертью сказал и в присутствии такого количества свидетелей, что сомневаться в нем глупо, но где соответствующий указ? А сейчас оформить как положено нельзя – на такое имеет право лишь царь, но не Боярская дума, а он у нас вроде и есть, но официально не избран.
– А почему ж мне о том раньше никто не подсказал?! – взвыл я.
– Русь потому что, – усмехнулся дьяк. – Мыслю, не будь Марины Юрьевны, ты б до самой смерти кого хотишь смог судить. Кому ж охота с ближайшим царевым советником споры вести. А она углядела.
Ну да, сказалось чужое воспитание. У нас ведь как? Кто сильнее, тот и прав, а в Речи Посполитой немного иначе. Разумеется, и там бардака хоть завались, но в свои законы они заглядывают почаще.
Мало того, дьяк огорошил меня и тем, что в то время, когда я воевал в Прибалтике, Малый совет ходатайствовал перед Думой о назначении двух новых верховных судей, и стали ими…. Ну да, правильно, Никитичи: Романов и Годунов. Час от часу не легче. Ладно, вперед мне наука. Но не желая лопухнуться повторно, я попросил Власьева достать мне списки со всех указов Дмитрия, начиная с осенних, и отправился домой.
По пути я обратил внимание на малолюдье. Вроде светло, но народу на улицах раз-два и обчелся. А редкие прохожие, попадавшиеся по дороге, заметив меня и ратников, незамедлительно присоединялись к нам, норовя держаться поблизости, дабы защитили, ежели что. Причем это ежели что, как ни удивительно, произошло чуть ли не на наших глазах. Спешащий вслед за хвостами наших коней мужичонка (мы к тому времени почти подъехали к мосту через Неглинную) повернул куда-то за угол, нырнув вбок на узенькую улочку – видать, там находился его дом, и спустя десяток секунд оттуда раздался приглушенный крик:
– Помогитя, люди…
Я мгновенно повернул коня, но не успел. Едва мы добрались до места происшествия, как я понял – опоздали. Мужичок лежал, привалившись к высокому забору, а под ним расплывалась темно-багровая лужица крови.
– Догнать, – процедил я сквозь зубы. – Догнать и…
Договаривать не стал – без того понятно. Да моим ратникам этого и не требовалось – летели вперед. Спешившись, я бросил поводья оставшемуся подле меня Дубцу и склонился над мужичком. Тот поднял голову и, виновато пролепетал:
– Чуток совсем не дошел, – и улыбнулся, заметив. – А ить я тебя знаю. Что ж ты, княже, худо Москву блюдешь от татей? Ежели…
И, не договорив, умолк.
Пока Дубец с силой долбил кулаком, а потом и рукоятью сабли по ближайшим от нас воротам, вернулись остальные гвардейцы и принялись деловито перезаряжать арбалеты.
– Сколько их было? – ради интереса осведомился я, глядя на Одинца.
– Трое, – пояснил тот. – Там все, – он махнул рукой куда-то вдаль и пошел помогать Дубцу.
Совместными усилиями дело пошло гораздо лучше. Хозяева, наконец, поняли, что мы не уймемся, и вступили в переговоры, но из-за забора. Потом кто-то осторожно выглянул сверху и, убедившись по одежде и коням, что мы не относимся к татям, нам открыли.
Тяжело раненый мужичонка и впрямь жил совсем рядом, напротив. Тут дело пошло куда быстрее – услышав знакомые голоса соседей, ворота перед нами распахнули почти сразу.
Гвардейцы осторожно занесли истекающего кровью хозяина в дом, а я побеседовал с местным народом, поначалу смущенно пояснявших, отчего они не открывали, но вдруг неожиданно для меня перешедших в контратаку.
– Вовсе житья нет! Ляхи уехали, дак таперича енти, – звонко голосила укутанная во что-то темное и бесформенное плотная молодка.
Наверное, она бы много чего успела наговорить, приняв моих людей за стрелецкий разъезд, а меня за объезжего голову, решившего самолично править службу (одежонка на мне была не больно-то нарядная), но в дело вмешался ее муж, помогавший гвардейцам заносить соседа, а сейчас вернувшийся обратно.
– Худ наш Первак, но с божьей помощью оправится, – сообщил он утешительную новость, пояснив. – Крови много утерял, а рана ништо, должна зажить.
– А ведь если бы я не подоспел, он так и умер под твоим забором, – попрекнул я его.
– Дак нешто енто мово мужика дело?! – возмутилась молодка. – Он у меня….
– Ну ты, Певуша, того, – попытался осадить ее смущенный муж.
Певуша…. Ха! То-то мне ее голос показался знакомым. Уж не та ли… Я пригляделся повнимательнее. Точно, она самая. Именно ее мужичка мы с царевичем защищали от боярского сына Карачева, хотевшего вернуть его в холопы после того как во времена великого голода выгнал зимой на улицу. Тогда получается, что подраненный Первак – тот самый сосед-шорник, бывший на суде свидетелем, а передо мной стоит…
– А ты справно наказ царевича выполняешь, Живец Коваль, сын Митрофанов, – усмехнулся я. – Сдается мне, твоя хозяйка не только голоса не утратила, но даже позвончела, – и, повернувшись к ней, поинтересовался. – Перстенек-то, Федором Борисовичем на свадебку подаренный, не потеряла?
Молодка разом осеклась и недоверчиво уставилась на меня:
– Княже, – растерянно пролепетала она. Ее замешательство длилось недолго. Вскоре она радостно всплеснула руками. – Ахти мне, глупой! – и зачем-то метнулась обратно за ворота, скрывшись в доме.
Отсутствовала она минуты две, не больше. Пока я поднимал с колен Живца и смущенно отнимал свои руки, которые он упорно норовил облобызать, Певуша успела вернуться с подносом. На нем, как и положено, лежал каравай, сверху солонка, сбоку чарка. Уста у нее оказались еще те – чуть ли не сахарные. Мед что ли она ела, когда мы за бандитами гонялись? Да и сама она успела и переодеться в нарядный сарафан, и нацепить на безымянный палец правой руки подаренный престолоблюстителем перстень. Ну, шустра баба, ничего не скажешь!
Спустя полчаса мы сидели за крепким дубовым столом. Помимо меня, моих ратников и хозяев, собрались чуть ли не все соседи, которых позвала Певуша. Я не возражал – нельзя лишать человека радости похвалиться столь дорогим гостем.
За разгул бандитизма в столице хозяйка меня больше не попрекала. Скорее напротив, то и дело радовалась. Мол, теперь есть кому унять татьбу. Мои осторожные возражения, что у государя ныне наведением порядка на улице занимаются совсем иные люди и я без его дозволения не имею права вмешиваться в их работу, ею во внимание не принимались.
– Так ты испроси дозволенье енто – чай, спина не переломится, – резонно заметила мне она. – А то на прочих, – и последовал пренебрежительная отмашка рукой в сторону Кремля, – никакой надежи. Эвон, чего деится.
– Оно ить и в самом деле, княже, худо стало, – вмешался в разговор пекарь Митяй – еще один свидетель на том суде. – И главное, непонятно, откуда взялись-то?
Пришлось пообещать, что непременно сообщу престолоблюстителю о всех безобразиях, творящихся в столице.
Успел я послушать и песни Певуши. Правда, всего две, а третью, про серу перепелочку, допеть ей не дали – вернулся Одинец, отправленный в мой терем предупредить Багульника и прочих ратников, что задерживаюсь в гостях и беспокоиться не надо. Оказывается, ко мне прибыл некий монах Лазарь, и сейчас сидит в избе, терпеливо дожидаясь моего возвращения.
Я хотел отмахнуться (не знаю такого, да и невелика птица, подождет, ничего страшного), но затем вспомнил, кто это такой. Да бывший ратник моего дяди Кости по прозвищу Бибик. И навряд ли он прибыл аж из Староголутвенского монастыря, расположенного подле Оки, для того, чтобы просто пообщаться со мной, уж больно велико расстояние. Пришлось прощаться.
Однако прибыв к себе на подворье я выяснил, что на самом деле монах действительно отмахал двести верст исключительно с одной-единственной целью – повидать сына своего дорогого князя. Мелочь, а приятно. Словом, вечер у меня удался. Один из немногих, который приятно вспомнить. Можно подумать, судьба устала хлестать кнутом и устроила мне передышку.
Увы, длилась она недолго – до утра. А ближе к обеду на подворье появился Годунов уточнить как там насчет обещанного мною серебра. Все-таки полсотни тысяч – куш немалый, потому он и решил заранее узнать, осилю ли я его.
Вообще-то я не собирался выкладывать серебро из одного своего кармана. Но едва заикнулся, что неплохо бы нам с ним устроить складчину, как с удивлением узнал – у самого Федора денег… нет. А те, которые лежат в моем подвале ему не принадлежат. Мол, решил он, что негоже присваивать себе плату за кровь государя, следовательно, владеть выжатым мною из Шуйского, невместно. Потому он и передал сто тридцать тысяч вдове. Полностью.
Но сама Марина, как принялся торопливо рассказывать Федор, поступила с деньгой весьма рачительно. Заполучив в руки огромную сумму, она не начала сорить деньгами налево и направо, взяв из них всего десять тысяч, да и то на богоугодное дело, то бишь на строительство костела, и все.
– Но у меня помимо денег Шуйского еще шестьдесят твоих тысяч, – возразил я и, кивнув на его некогда раненую руку, напомнил: – На них-то твоя собственная кровь.
– Но не мог же я вовсе ничего не дать ей, яко жених. Чай, такую царицу в жены беру. Вот и порешил, что и оное серебро ее. Потому знай, на твою встречу и пир не я – она мне пять тысяч выделила.
– Благодарствую, – вздохнул я.
– Осуждаешь? – хмуро осведомился он.
– Ну что ты, – грустно усмехнулся я. – Скорее… восхищаюсь наияснейшей. Потрясающая женщина, – Федор недоверчиво уставился на меня. Пришлось пояснить. – В смысле вытрясла из тебя все, что могла, – и я озадаченно почесал в затылке.
Получается, мне остается еще и радоваться тому, что пан Мнишек укатил в Самбор раньше, чем успел узнать про годуновский подарок. Думается, лишь по этой причине сундуки с серебром и золотом продолжают находиться у меня. Да и в Москве тоже. Узнай о них ясновельможный и они бы давно тю-тю. Ищи-свищи их… в районе Львивщины. Удивительно одно: отчего Марина до сих пор не сообщила о деньгах отцу? Непонятно. А что он ничего о них не знает – однозначно, иначе давно вернулся обратно.





