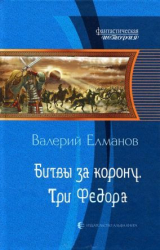
Текст книги "Битвы за корону. Три Федора"
Автор книги: Валерий Елманов
Жанры:
Альтернативная история
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Глава 13. Ату его, ату!
Признаться, о последующих заседаниях Малого совета, на которых мне вновь пришлось сидеть после выполнения поручения Годунова, и рассказывать не хочется. Но для того, чтобы пояснить, как меня угораздило растерять практически все, придется.
Честно говоря, по знакомым оскаленным рожам я не больно-то соскучился. С превеликим удовольствием и впредь бы их игнорировал, но увы… Срок уважительной причины закончился, тишины с порядком в Москве я добился, чистоты тоже. Правда, последней лишь относительно, но лиха беда начало. Процесс-то пошел, по каждому клочку земли жестко определено, кто именно отвечает за его чистоту, кому платить штраф за мусор. Никого не забыл, на всех обязанности возложил – на хозяев дворов и настоятелей храмов с монастырями, на старшин купеческих сотней и руководство слобод. Годунов, когда я доложился ему, предложив прокатиться по столице и убедиться в том лично, посмотрев на Марину, досадливо отмахнулся, заявив, что и без того мне верит. И снова ни спасибо, ни доброго слова. А Мнишковна тут же сладеньким голосом пропела:
– Свои оплошности князь, ты исправил, спору нет. Одного не пойму, отчего ты с самого начала над тем не потрудился? Почему дожидался, чтоб сам государь на оное свое внимание обратил, будто у него поважнее дел нет?
Красиво выдала, ничего не скажешь. Моим же салом, да мне по мусалам. Ай, молодца девка! На такое и достойный ответ не вот найдешь. И впрямь: раз сделал – значит, мог. Тогда почему сейчас, а не раньше?
На какой-то миг стало так тоскливо на душе, хоть волком вой. Получается, вкалывал я, вкалывал, и все прахом!
Впрочем, о чем я? Марина Юрьевна – враг не из последних. И оставалось пробормотать (не оставлять же за нею последнее слово), что лучше поздно, чем никогда. Зато теперь в Москве, по сравнению с всякими прочими городишками вроде Лондона, Рима, Парижа, Варшавы, Кракова и Самбора, на улицах несусветная чистота.
Но сравнял я счет всего на пару часов, поскольку, вызвав меня к себе после обеда, когда Федор почивал, Марина прямо с порога заявила:
– А не больно-то кичись, князь. Лучше отставь свой гонор, да поклонись мне в ноги и сказывай Федору Борисовичу, что я тебе повелю. Али ты помыслил, будто ныне вины свои полностью искупил? Ан нет.
– В писании сказано, кто бросает камень вверх, бросает его на свою голову, и коварный удар разделит раны, – мрачно предупредил я ее. – А еще говорится, кто роет яму, сам упадет в нее, и кто ставит сеть, сам будет уловлен ею.
– Никак грозишься? – недовольно поджала губы Марина. – А ведешь ли, что стоит мне пальцем шевельнуть и от тебя мокрое место останется, ровно от мухи раздавленной.
– Судя по моим габаритам я больше на медведя похож, – не пожелал промолчать я. – Придется не пальцем, рогатиной шевелить. Да и получится ли? У меня лапы крепкие, извернусь да сломаю. И как тогда?
– Ведаю, увертливый ты, – кивнула она. – Потому я их для тебя ажно две припасла. Одной не завалю, другой достану. До вечера тебе последний срок подумать, а завтра на сидении в Малом совете, коль покаешься, знак мне дашь – я пойму. Ну а коли нет – не взыщи.
И, криво усмехаясь, осведомилась, не запамятовал ли я про свое обещание насчет песен, а то ей нынче что-то заскучалось, посему хотелось сегодня вечерком послушать шкоцкого баюнника.
Ну и зараза! Вначале в помоях с ног до головы искупала, а я ее развлекай. Я хотел вежливо пояснить, что проблема со струнами пока не решена, но передумал. Она ж только и ждет моего отказа, а потом пожалуется Федору, как князь Мак-Альпин ее послал. И оно мне надо? Нет уж: вы хочите песен – их есть у меня. И такое спою – надолго запомнится. Да и для престолоблюстителя подыщу подходящее.
И я ответил согласием. Мол, струны вчера куплены и установлены, сам сегодня хотел предложить государю усладить свой слух моими песнями, и непременно приду. Слово я сдержал и вечером появился в палатах с гитарой. Но сомневаюсь, что песня Высоцкого «Притча про правду и ложь», с которой я начал свой маленький концерт, понравилась Годунову. Чересчур явные намеки в ней имелись. Улыбка с его губ слетела где-то после третьего куплета.
– …Правда смеялась, когда в нее камни бросали, – пел я, глядя, как все сильнее и сильнее хмурится престолоблюститель, и наивно полагая, что мне оно на пользу, ибо до человека начинает доходить истинное положение дел.
– Кстати, навесили правде чужие дела…, – старательно выводил я, не сводя с него глаз и ликуя в душе: «Неужто подействовало?!» Владимир Семенович, конечно, гениальный поэт, но чтоб столь быстро?
Пока исполнял многозначительную концовку – «голая правда со временем восторжествует…» – продолжал неотрывно смотрел на Мнишковну, которая была вне себя от злости.
– А повеселее у тебя ничего нету, князь, – скривив губы, осведомилась она, едва я закончил.
Ах, тебя развеселить надо? Изволь, найдем. У Высоцкого на любой вкус имеется. И я, недолго думая, затянул «Песню про вепря», тоже содержащую в себе кое-какие ассоциации. И насчет бывшего лучшего, но опального стрелка, и о его препирательствах с упрямым королем, а вепрь меж тем ошивался возле самого дворца…. Но на сей раз, судя по беззаботной улыбке Годунова, мои намеки ускользнули от него.
– Трубадуры обычно про рыцарей поют, да про прекрасных дам, – не удержалась от критики Марина по окончании песни. – А ты невесть чего.
Так тебе дам с рыцарями подавай?! Ну заполучи напоследок! И я залихватски затянул про барона Жермона, отправившегося на войну. На Годунова я поглядывал, лишь когда речь шла о самом бароне, зато остальное время не сводил глаз с Марины. Особенно когда повествовал про проказы его развеселой женушки, которой помогали не скучать маркиз Парис, виконт Леонт, сэр Джон, британский пэр, и конюх Пьер.
Мой недвусмысленный намек на торопливо сброшенный Мнишковной траур (и трёх месяцев не прошло со дня гибели ее супруга), а заодно и на ее потуги срочно завести ребенка от кого ни попадя, она, судя по губам-ниточкам, прекрасно поняла. Но выдержки стерпеть и ни разу не перебить хватило.
Сдается, яснейшая решила высказать все критические замечания позже. И я угадал – так оно и вышло. Едва я взял последний аккорд, постаравшись рвануть струны, чтобы одна из них лопнула (наглядная отмазка от последующих концертов), как Марина взорвалась. Мол, довелось ей слыхивать, как в иных странах люди из благородного сословия берутся за лютни для услаждения прекрасной дамы, но до такого непотребства не доходят. Сдается, и на Руси не каждый скоморох отважится на таковские песни перед своим государем.
Бедный Федя попытался вставить словцо в мою защиту, но куда там. Озлившаяся Мнишковна слушать ничего не желала. Я тоже помалкивал, согласно кивая, но с таким видом, что было видно: плевать я хотел на твою критику. Да, я – гусляр, скоморох, кощунник, бахарь, и вообще назови хоть горшком, только в печь не ставь, а и поставишь, мне на это чихать. Равно как и на тебя, дорогая наияснейшая. И знаков ты никаких от меня не дождешься, ибо я служу государю, а не тебе. Прислуживаться же и вовсе никому не стану.
Расплата наступила наутро, на очередном совещании. Вновь все понеслось по старой схеме: невинное, можно сказать, деловое начало, а затем Годунов поднимал меня, желая узнать мнение князя Мак-Альпина. Случалось, он забывал, но подсказывала Марина. И ведь как хитро поступала чертовка. Если она чуяла, что я могу, пусть и скрепя сердце, но согласиться с остальными, ибо вопрос не принципиален и не больно-то существенен, она помалкивала. Но стоило ей подметить, как я морщусь от очередного бреда сивой кобылы, как она произносила фразу, ставшую чуть ли не традиционной:
– А яко о том мыслит князь Мак-Альпин?
Это становилось началом очередной экзекуции. Я поднимался и говорил, что думаю. А потом приходила моя очередь слушать, что думают остальные. Не о вопросе – обо мне самом. Словом, жизнь у меня пошла, как у карася: весь мокрый, вокруг одни щуки и что ни проглотишь – вмиг дергают за леску. Пару раз мелькала мысль схитрить, согласиться, но язык не поворачивался – как назло предлагали такие несусветные глупости, что оставалось за голову схватиться.
Не мог я их поддерживать, никак не мог.
Вот что, к примеру, изобрел для поправки благосостояния царской казны Романов, заявивший, будто надо понизить содержание серебра в копейке. Мол, стоит начать делать из «скаловой гривенки», то есть половины фунта, не триста копеек, как прежде, а шестьсот, и все – доходы сразу увеличатся вполовину. Для начала же, дабы побыстрее их извлечь, следует заняться перечеканкой ефимков, назвав их рублями. С одного этого казна вмиг получит десятки тысяч. А со временем можно и вообще заменить всю монету медью. Выплаты же всех податей требовать старой доброй серебряной деньгой.
Финансист хренов! Он, значит, умный, а народ сплошь и рядом идиоты. Не-ет, верно сказал какой-то мудрец, что даже светлые помыслы дурака всегда отбрасывают черную тень.
Нет, сама по себе мысль насчет медной монеты неплохая, но внедрять новшество надо совершенно иначе, чтоб народ мог всегда свободно разменять медяки на серебро. Более того, для упрочения доверия к новым деньгам, надо потребовать от людей противоположное: не меньше трети податей, а в первые пару лет половину, выплачивать именно медью.
Правда, в этом случае государство, останется честным, но не получит навара. Зато в случае реализации предложения боярина, явственно припахивающего банальным жульничеством, кратковременная выгода вскоре сменится инфляцией. Самом Годунов – в довесок – получит взрыв народного негодования. Впрочем, что я? Скорее всего, бунт приключится гораздо раньше, спустя считанные месяцы с того момента, как государство станет расплачиваться перечеканенными ефимками, выдавая их за полновесные рубли.
И мне соглашаться с этой аферой?! Да ни за какие коврижки!
Но краткий курс экономического ликбеза, проведенный мною среди бояр и окольничих, проку не дал. В суть моих пояснений никто и не пытался вникать. Разве Власьев, ставший чуть ли не единственным слушателем. Как ни странно, внимал мне и Татищев. Да и позже, вопреки обыкновению, он не полез в атаку на меня – никак уразумел. Остальные же во время моих пояснений насмешливо усмехались и неодобрительно ворчали, либо сурово качали головами, вполголоса переговариваясь с соседями. О чем? Да по стандарту: «сызнова князь супротив опчества пошел» и, само собой, «не желает порадеть государю».
Стало быть, ату его, ату!
И когда Годунов осведомился, кто еще хотел бы поведать словцо, с мест вскочило сразу несколько человек и началась очередная травля медведя. Поначалу мне пояснили, что я не прав, хотя без конкретики: в чем именно. Затем, насколько серьезно я заблуждаюсь. После следовали куда менее учтивые догадки, отчего я «супротивничаю». Ну а в конце, не стесняясь в выражениях, откровенно начинали катить очередную бочку, вплоть до моих недобрых умыслов супротив Федора Борисовича.
Каких только обвинений я не услышал в свой адрес за эти дни: в корыстолюбии, властолюбии, гордыне…. Не человек, а сплошной смертный грех. Всех черных сторон своего характера не упомню, но об одном скажу, оно наособицу. Сподобился на него боярин Степан Степанович Годунов. Выступив вроде бы в мою защиту, он заявил, что у меня нет злых помыслов, а вся беда заключается в моем… скудоумии. Ну не понял я своей тупой головушкой всех выгод от реализации идеи Романова. И выжидающий взгляд в мою сторону.
Увы, я оказался глуп и не принял его безмолвного предложения покаяться.
Что любопытно, Никитичи, Романов и Годунов, и сами перестали встревать, и внимательно следили, чтобы пламя над костром, на котором меня в очередной раз поджаривают, не вздымалось чересчур высоко. Помнится, читал я в свое время, что испанские инквизиторы особо злостных еретиков предпочитали сжигать на мокрой соломе, дабы тот подольше помучился. Так и они. Едва накал страстей превышал определенный уровень, как они незаметно гасили его, увещевая особо рьяных горлопанов:
– Ну-у, ты, Иван Борисович, излиха сказанул.
– Перебрал ты, Иван Иванович, как есть перебрал.
Зато Марина Юрьевна, радостно возбужденная от долгожданной возможности отомстить, да и всеобщий азарт ей передался, время от времени самолично подключалась к общему хору. Ай, Моська, молодец. Да как заливисто тявкала – заслушаешься.
Именно она и стала автором очередного обвинения, касающегося… гибели Дмитрия. Да, да, оказывается, главный виновник его смерти тоже я. Не дал я ему времени поддеть бронь под одежу, вот и приключилась с ним беда. И на коня сесть я не позволил, а ведь будь он в седле, непременно сумел вырваться за пределы Кремля. Да и позже, во время прорыва, я сознательно отрядил на его сбережение десяток, да и то, поди, из неумех, а следовало лучших, и не меньше полусотни.
Мало того, в заключение она упомянула о моей вине в «утере юного государя», как Мнишковна деликатно назвала свой мифический выкидыш. Мол, не случайно я приставил к сбору целебных трав каких-то безграмотных русских баб, кои толком лечить не умеют.
Я собрался вступиться за свою ключницу, могущую, по моему мнению, дать кое в чем сто очков вперед всем царским медикам, не взирая на их хваленые университеты, но не тут-то было. Марина не просто упомянула мою Петровну, но с доказательствами. Дескать, чуть ранее князь ей доверил раненых секретарей покойного государя братьев Бучинских, и каков результат? А он плачевный. Одного, Станислава, травница князя вовсе залечила до смерти, да и второго, Яна, ждала та же плачевная участь. Хорошо, его вовремя отняли у нее и благодаря царским медикам он полностью выздоровел.
А коль ей в том веры нет, пожалуйста, можно выслушать самого Бучинского. Она повелительно хлопнула в ладоши и в дверях Передней комнаты как по мановению волшебной палочки появился Ян. Шел он к Мнишковне, ни на кого не глядя, и, встав подле, начал свое скорбное повествование о том, сколь плохо он себя чувствовал, пока его лечила моя Петровна. А те настои, коими она его поила, посейчас стоят у него в горле, уж больно горьки. И с каждым днем ему становилось все хуже и хуже. Если бы наияснейшая, почуявшая неладное, не прислала к нему одного из своих лекарей, почтеннейшего Арнольда Листелла, скорее всего он навряд ли стоял ныне тут, рассказывая все это.
– Вот так, – подытожила Мнишковна, отпустив Бучинского восвояси и вновь устремилась в атаку на меня. По ее словам и гибель Дмитрия, и выкидыш, в совокупности являются звеньями одной логической цепи. Вначале князь, воспользовавшись удобным случаем, погубил одного государя, затем, якобы из экономии серебра, изничтожил в утробе второго.
И финальный аккорд:
– Чья ныне очередь не ведаю, но догадываюсь, – и она намекающе уставилась на Годунова.
Тот сидел красный, как рак, крепко вцепившись побелевшими от напряжения пальцами в подлокотники кресла, но молчал. Признаться, молчал и я. Слишком все неожиданно. Помнится, Федор некогда ляпнул что-то похожее, но у нас с ним была беседа тет-а-тет, а тут публичное обвинение, вот и не нашлись нужные слова. А Марина, пользуясь этим, ехидно осведомилась:
– Что, князь, нечего сказать в свое оправдание?
– Тебя послушать, наияснейшая, я и Христа распял, – огрызнулся я.
Врасплох ее моя фраза не застала.
– Если б проведала о том, ничуть бы не удивилась, – поджав губы, надменно заявила она. – Уж больно легко ты веры меняешь. Совсем недавно лютеранином был, а ныне, чтоб власти на Руси угодить, в православие перешел, да и то, ежели судить по словам владыки Гермогена….
– Ну, довольно! – резко перебил ее Годунов.
Мнишковна от неожиданности осеклась, удивленно уставившись на Федора. Очевидно, этот его возглас в первоначальный план не входил. Прочие тоже притихли. Но дальнейшая речь престолоблюстителя меня разочаровала. Хмуро покосившись в мою сторону, он отделался заявлением, что нельзя промахи князя, могущие приключиться с каждым человеком, считать злыми умыслами. Да и старается он. Эвон, на улицах и впрямь куда чище стало, да и татьбу изрядно утишил. К тому ж сегодня вроде собирались обсуждать не Мак-Альпина, но предложение боярина Романова, и отвлекаться от него не след.
Кстати, как ни удивительно, но моя аргументация в конечном итоге всякий раз находила отражение в конечных решениях. То есть, не взирая на травлю, мой ученик продолжал меня внимательно слушать и мотать на ус, признавая мою правоту. Правда, перед тем, как Власьеву (происходило это на следующее утро) зачитать окончательный текст, который должен был пройти утверждение Боярской думы, Годунов вставал и пояснял, отчего он решил именно так, а не иначе. Использовал он при этом собственные доводы, а если и прибегал к моим, то излагал их иными словами. Разумеется, на меня он не ссылался. Я не обижался, считая, что главное – результат, а кто станет его официальным автором не суть важно.
Но так длилось недолго, а затем….
Глава 14. Достали!
Началось с того, что Федор объявил о своем намерении заложить в Москве аж четыре православных храма. Один, самый главный, Святая Святых, по образцу иерусалимского храма Гроба Господня, собирался воздвигнуть в Кремле еще старший Годунов, поэтому младший считал себя обязанным воплотить в жизнь отцовскую задумку. А заодно он решил возвести еще три: в честь нового святого страстотерпца Бориса Федоровича, второй посвятить Дмитрию, а третий – Михаилу Архангелу, даровавшему Руси блистательные победы над свеями и ляхами.
И на сей раз, как я ни доказывал, что в казне денег шаром покати, ничего не получалось. Меня никто не слушал, тыча пальцем в Головина, а тот, донельзя довольный от возможности показать свою значимость, благодушно кивал, утверждая, что хоть и тяжко, но изыщется серебрецо на богоугодные дела. Кстати, главными инициаторами этих «строек века» стали Гермоген и…. Мнишковна, о которой казанский митрополит по слухам отзывался исключительно с похвалой, как о «дщери боголюбивой и праведной».
Хотел я в тот же вечер заглянуть к нему в Запасной дворец, но не вышло – приехал Алеха. Наконец-то! Застать-то его по весне на берегах Волхова, где он руководил бригадой по заготовке бревен для будущих кораблей, у меня не получилось – он укатил в Домнино. Жена Юлька должна была родить, вот он и обеспокоился. Но объем проделанной работы впечатлял, да и организовал бывший детдомовец хорошо – и без него вкалывали на совесть.
Ныне он приехал, чтоб и похвастаться пополнением, и доложить об успешной весенней посадке заморских овощей. Более того, на следующий год, если этот принесет нормальный урожай, под картошку с кукурузой и помидорами надо подыскивать открытые поля – не вместятся они в теплицы. И подыскивать их в местах потеплее, чтоб упаси бог не померзли.
Ну и разумеется, попросил у меня денег. Кончились они, а ему надо платить и бригадам лесорубов, да вдобавок приспичило построить механическую лесопилку.
– Сил нет глядеть, как народ мучается, бревна вдоль распиливая, – пожаловался он мне, – вот я и придумал. Пусть сама река наяривает. Ей богу, раз в сто быстрее получится! Но строительство хороших денег стоит. Да я тут все посчитал.
Я покосился на листы, протянутые мне, на цифры в них. Что и говорить – смета впечатляла. Денег для такого дела было не жаль, но зло взяло. Почему я должен их выкладывать из собственного кармана?! Но это полбеды, а ведь может статься, что и сам флот при нынешнем положении дел окажется никому не нужен. Им ведь вместо картин иконы подавай, вместо звезд – свечи с ладаном, а вместо кораблей – церкви, и в Малом совете вообще откажутся от этой дорогостоящей затеи, особенно с учетом того, что предложена она князем Мак-Альпиным. И Годунова уболтают. Дескать, на самое святое денег нет, а я про какой-то флот вякаю.
И деваться некуда – в одиночку всех не переспоришь, не переупрямишь. А ведь не мне эти новины нужны – всей Руси, тогда какого черта! Словом, так меня достала эта безысходность, что на следующий вечер я подался к престолоблюстителю совершенно в ином настроении.
Да еще Бучинский по дороге в царские покои встретился. Попытался шарахнуться, как тогда, да не успел – я оказался ловчее и притормозил его, бесцеремонно ухватив за полу куцего венгерского кафтана.
– А-а, это ты, ясновельможный князь, – растерянно улыбнулся он мне. – А мне письма Марина Юрьевна повелела переписать, да срочно, опасаюсь не поспеть, вот и иду, никого не видя. А ты, как я погляжу….
Пару минут я терпеливо внимал его детскому лепету. Наконец надоело.
– А теперь слушай меня, Ян. Слушай и запоминай – повторять не стану. За все в жизни надо платить, верно? То я про твою речь на Малом совете.
– Не сердись, князь! – взмолился он. – Сам ведаю, что….
– Это хорошо, что сам ведаешь, – одобрил я. – Тогда я кратко. Обиды у меня на тебя нет. Если человек по натуре Иуда, апостолом Андреем Первозванным ему не стать, как ни старайся, а потому серчать мне на тебя не за что. А вот за Петровну обидно. Она ж твоего братца Станислава с проломленной головой, от коего все царские лекари отказались, три дня к жизни тянула. Да, не вышло у нее, но старалась на совесть. И от твоего лечения медикусы эти, включая и Арнольда Листелла, поначалу тоже отказались. Замотали тебе твои раны и отделались, заявив, что остается уповать на всевышнего. А моя глупая ключница уповать отчего-то не стала, сама за тебя взялась, первые пару суток вообще от твоей постели не отходила. А что горьким, а не сладким отпаивала – извини, травы виноваты. Они ж не из Европы – из Руси, хотя я не думаю, что бременские или баварские слаще оказались.
– Видит бог, как я…, – вякнул было он, но я оборвал его:
– Молчи, сегодня моя очередь говорить. Но касаемо бога я с тобой согласен – он действительно видит. И поверь, слово свое скажет. Но его еще дождаться надо, а пока я свое тебе поведаю. Заболеешь ты скоро – не до конца тебя моя травница залатала. Так вот, когда с тобой хворь приключится ты, золотой, знаешь к кому за помощью идти, верно? К почтеннейшему лекарю Арнольду Листеллу или к какому иному царскому лекарю. И гляди, не вздумай к Марье Петровне заглянуть, не то застану – осерчаю не на шутку. А сейчас ступай, милый, пиши свои письма, да гляди, мне на дороге не попадайся. Чревато.
Стоило ему на прощание пинка для скорости дать, но я сдержался. Так, в плечико подтолкнул, да и то легонечко – он даже не упал.
Надо ли говорить, в каком «развеселом» настроении появился я у Годунова. Мало того, что беседа с Алехой навеяла грусть-печаль о бренности всех моих новых затей, да еще этот…. двенадцатый апостол.
Но поначалу я держал себя в руках, мысленно напоминая, что стою перед государем, а потому в речах соблюдал учтивость, а во взоре почтительность. Увы, моя попытка убедить его не отменить, но хотя бы отложить строительство новых храмов, окончилась, чего и следовало ожидать, безрезультатно. Он и слушать не захотел, велев, чтоб я умолк, не то осерчает. Насчет денег на флот тоже отмахнулся, причем ответ его совпал с заранее предсказанным мною почти слово в слово:
– На храмы, и то нехватка, а ты – корабли.
Спасибо хоть, что вовсе от их строительства не отказался, заметив, что годика через два-три, от силы пяток, можно помыслить и о флоте, ежели никаких оказий не приключится. Алеха к тому времени получил у меня сполна все затребованное серебро, но это был вопрос принципа и я уперся, настаивая, но Годунов отрезал:
– Нет! – и загадочно добавил: – Не усугубляй. У тебя и без того грехов изрядно.
– Ты про обвинения владыки Гермогена? – осведомился я.
– Про иные, – буркнул он. – И твое счастье, что о них покамест окромя меня никому неведомо. Сам-то не хочешь повиниться? А то эвон сколь ты в Малом совете речист в своих оправданиях да пояснениях, а предо мною молчок.
Я недоуменно почесал в затылке, совершенно не представляя, на что он намекает. Увы, но и этот невинный жест он истолковал превратно, решив, будто я колеблюсь.
– Напрасно боишься, – поощрил он меня к откровению. – Памятуя о дружбе старой, да о заслугах твоих былых, я тебе многое прощу, поверь, – и почти просительно добавил: – Повинись, пока не поздно.
– Прежде чем многое простить другу, подумай: друг ли тот, кто многое допустил, – не удержался я от напоминания о его поведении на Малом совете. – А касаемо вин, то мне перед тобой виниться не в чем.
– Совсем не в чем? – недобро прищурился он.
– Нет за мной ни одной тайной вины, – твердо ответил я. – А если оговор какой, то сам о нем и скажи.
– Да какой там оговор, – досадливо поморщился Федор. – Чай, я и сам не ослеп и не оглох….
И понеслось. Мол, он давно подметил, как я его отовсюду оттесняю и отодвигаю, чтоб православный люд мною одним любовался. Перечень моих вин начался с зимы, точнее с посещения Дмитрием Костромы, когда я постоянно стремился увести государя к себе в терем. Далее поход в Прибалтику и… герцогский титул, не полученный Годуновым именно потому, что не давать его уговорил Марию Владимировну именно я. А насмешки, чинимые мною над ним? Это ж додуматься надо – обрядить простого кожемяку Емелю в платье престолоблюстителя?! Иначе как глумлением такое не назовешь….
Всего вороха обвинений перечислять не стану, скажу лишь, что они были такими же глупыми и надуманными, а если кратко, то сводились к тому, что я решил заграбастать себе всю славу победителя.
Моя попытка детально и взвешенно дать пояснения провалилась. Он отмахнулся и от предложения взять и почитать труд князя Ивана Хворостинина, который, судя по тому, о чем меня неделю назад расспрашивал автор, близился к завершению. Мол, там все ясно сказано о его мудром отказе от герцогского титула. Я даже процитировал Федору часть заголовка. Получился он у Хворостинина длинным и неудобоваримым, строк на десять, больше напоминая на мой взгляд некую аннотацию. И хотя по моему настоянию князь его сократил, все равно полностью по памяти я его воспроизвести не смог – слишком длинно.
– Повесть о великих деяниях государя Федора Борисовича, его бескровном походе, свершенном им в лето 7113-е от сотворения мира, славном покорении им Эстляндии…., – бодро начал я и досадливо посетовал, – а дальше выскочило из головы, уж не серчай, – и посетовал. – Что-то часто я каюсь в последнее время. Не иначе, как на покой пора твоего учителя, а? – и выжидающе уставился на него.
И снова получилась промашка. Не стал он меня уверять, чтоб я и не помышлял о таких глупостях, ибо моя голова очень даже ничего и не раз ему пригодится. Вместо этого он, согласно кивнув, многозначительно ответил:
– И о том я помыслю. А читать не собираюсь – недосуг.
Такая же судьба постигла и прочие мои оправдания. Их он особо и не слушал, с минуту, не дольше, после чего отмахнулся и досадливо заметил, будто ему и без того ведомо, что я вертляв, яко бес на заутрене и могу на пяти овинах рожь молотить.
– Насчет моей вертлявости тебе поди Романов подсказал? – осведомился я и… попал в точку. Годунов вздрогнул и недовольно пробурчал:
– А то не твоя печаль. Мир не без добрых людей.
– Хорош добрый человек, – хмыкнул я. – Ой, хорош! Или ты не замечаешь, как он тебя своими людьми обложил? Еще одного такого добряка добавить и тебе никаких врагов не понадобится.
– А ты не надсмешничай! – озлился Федор. – И неча напраслины на него возводить. Что было, то быльем поросло и ежели имелась у него какая вина перед моим батюшкой, дак он за нее давно и с лихвой расплатился. И потом вина вине рознь. Твоя-то похлеще.
– Похлеще?! – изумился я, вытаращив на него глаза.
– Знамо, – подтвердил он. – Сказано в народе: «В коем чине призван, в том и пребывай!» А тебе все мало. Запамятовал ты, князь, что малое насытит, а от многого вспучит. И вина у тебя в сравнении с ним куда тяжельше.
– И в чем она?
– А сам не желаешь признаться? – уточнил Годунов. Я молча замотал головой. – Жаль. Ну, будь по-твоему, – он тяжело вздохнул и, решившись, выпалил. – Язык у тебя без костей, вот что! На кой ляд ты на пирах своим гвардейцам похваляешься, будто один ляхов со свеями побил? Мол, государь вовсе ни при чем, и делал токмо то, что ты ему сказывал, ровно он мишка на цепи у скомороха, – и, видя мои выпученные от изумления глаза, замахал на меня руками. – И молчи об оговоре, князь, молчи за-ради Христа! Ежели бы мне оное боярин Романов поведал – одно, но я ж таковское на торжище слыхал. И не от простых людишек, а от твоих гвардейцев.
– Да не могли они такого говорить! – заорал я.
– А мне кому повелишь верить, своим ушам с глазами, али твоим речам? – горько спросил он. – Скажешь, и о том не похвалялся, что коль один государев шурин сумел на себя шапку мономашью надеть, так отчего бы и зятю государеву тож царем не стать.
От несправедливости, но больше от того, что в эту нелепицу поверил Годунов, у меня перехватило дыхание. А Федор не унимался:
– А к твоим словесам у меня и еще кой чего имеется, – и он, выдвинув ящик стола, извлек оттуда свиток, протянув его мне. – Сам зачти.
Я развернул и недоуменно уставился на текст. Явная латынь. Хотя нет, судя по сочетанию букв, в словах уйма шипящих. Значит, польские.
– Ляшскому языку не обучен, – проворчал я, возвращая его обратно.
– То Жигмунд тебя благодарит, – криво усмехнувшись, пояснил Годунов.
– Меня?! За что?!
– За то, что ратников его не побил, – начал перечислять Федор, – да за то, что Ходкевича с Сапегой без выкупа отпустил. А еще сказывал, что уговор твой с ним в силе и ежели кто из бояр твоему становлению на трон воспротивится, так он уже рать приготовил. Небольшую, всего в семь тысяч, зато отборную. А в конце сетовал, что не в силах подсобить покамест твоим сердешным делам. Мол, он, конечно, отписал эрцгерцогу Фердинанду, прося в твоем сватовстве не отказывать, но тот проведал, что ты в православие перешел. Зато ежели ты пообещаешь сызнова в латинство перекреститься, чтоб со своей невестой одной веры стать, тогда…, – он осекся и горько спросил: – Что ж ты творишь-то, княже? Я ить тебя за старшего брата держал, ты для меня был как…. Так почто сам все загубил?
Голос его дрожал от сдерживаемых рыданий. Я недоуменно всмотрелся в его лицо. Нет, не показалось. Действительно глаза увлажнились. Да и вообще, такая тоска в них проглядывает, словно он меня… даже не знаю, как сказать. Чуть ли не похоронил. А вот и слезинка выкатилась, побежав по левой щеке. И следом другая, по правой. Но Федор держался, вцепившись побелевшими пальцами в край стола.





