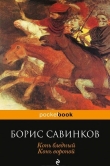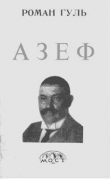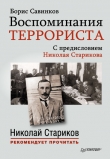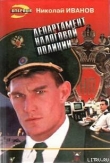Текст книги "Азеф"
Автор книги: Валерий Шубинский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 30 страниц)
Это все относится только к электричеству, с которым связана профессиональная работа Азефа-инженера. А ведь были еще и воздухоплавание, и первые автомобили, и фотография!
АЗЕФ, МОЛОДОЙ РЕВОЛЮЦИОНЕР
Азеф готовится к технической карьере. Но интересуется и политикой. В начале 1890-х годов он входит в подпольный кружок, имена участников которого известны из полицейских источников: Дмитрий Фридман, Василий Алабашев, Острогулов, Равель. С этого кружка начинается путь Азефа-революционера.
Что это мог быть за кружок?
К середине 1880-х «Народная воля» была практически разгромлена. За 1 марта 1881 года (и казнью главных вождей террора, Желябова и Перовской, и главного технического специалиста, Кибальчича) последовала странная история Судейкина и Дегаева, отчасти рифмующаяся с азефовской эпопеей.
Подполковник Георгий Порфирьевич Судейкин, блестящий сыщик, напористый вербовщик и изощренный провокатор (в прямом, словарном смысле слова), был назначен в 1882 году на специально для него созданную должность инспектора секретной полиции. В числе десятков завербованных им людей был член «Народной воли» Сергей Петрович Дегаев, за несколько месяцев выдавший все руководство организации (то, что от него оставалось) и по существу ставший во главе ее. По убедительным свидетельствам, исходящим из разных источников, Судейкин не собирался ликвидировать террористическое подполье сразу. У него был хитрый, подробно продуманный план, включавший, между прочим, устранение руками подконтрольных террористов министра внутренних дел Д. А. Толстого. Дегаев должен был расчистить своему патрону дорогу к власти, к исключительному положению у трона. Но в какой-то момент он был разоблачен товарищами-народовольцами. Ему дали возможность «искупить вину». Самолично, вместе с двумя товарищами, он убил Судейкина, а после бежал в Америку, где стал (под именем Александр Пелл) довольно крупным математиком. Из этой истории и полиция, и революционное движение вышли деморализованными. Однако потери и без того обескровленной «Народной воли» были больше[10]10
В книге Б. Григорьева и Б. Колоколова «Повседневная жизнь российских жандармов» (2007) предпринята довольно наивная, на наш взгляд, попытка реабилитации Г. Судейкина как верного царева слуги.
[Закрыть].
Окончательный удар был нанесен директором Департамента государственной полиции Вячеславом Константиновичем Плеве, арестовавшим в 1884 году последнего лидера народовольцев Германа Лопатина с полным списком участников организации в руках.
На смену террористической сети пришли изолированные кружки. Идеи террористов оказались живучими. Более того, их имена, имена мучеников, были окружены ореолом в глазах пылких юношей и девушек. Одни молодые люди, как Александр Ульянов и его друзья, по-дилетантски планировали новые теракты. Другие ограничивались свободолюбивыми разговорами. Наряду с народническим возникало мало-помалу марксистское подполье – начиная со знаменитой группы «Освобождение труда» (Плеханов, Игнатов, Засулич, Дейч, Аксельрод – именно в такой последовательности запоминали их имена советские студенты; непристойный, но действенный мнемонический фокус). Потом был кружок Бруснева. Марксисты и народники начинали постепенно соперничать и спорить друг с другом.
Надо сказать, что власти не очень эффективно сопротивлялись революционной пропаганде. Вот отрывок из воспоминаний И. П. Ювачева (отца Даниила Хармса), относящихся, правда, к более ранней эпохе – еще к последним годам существования «Народной воли»:
«Я сам позволял себе, например, такие вещи. Попала в мои руки фотография Софьи Перовской. Иду в первую попавшуюся фотографию к незнакомому человеку и прошу его сделать дюжину снимков, с наклейкою их на чистый картон без указания фирмы фотографии (потому что это изображение известной преступницы). Или, бывало, иду к незнакомому переплетчику и даю ему переплести книгу с предупреждением, чтобы он шил ее сам, а не давал бы своим подмастерьям, потому что эта книга запрещенная. И все сходило благополучно»[11]11
Ювачев И. П. Из воспоминаний старого моряка // Морской сборник. 1927. № 10. С. 181.
[Закрыть].
Так обстояло дело в Николаеве в 1882 году. Скорее всего, примерно так же все было в Ростове-на-Дону пять – семь лет спустя.
Кружок, к которому принадлежал Азеф, был скорее марксистским, чем народническим. Большинство его членов составляли рабочие, «предводительствуемые некоторыми интеллигентными лицами». Велась пропаганда в рабочих районах. Азеф «весьма деятельно» в ней участвовал. А кроме того, по данным полиции, он, «…имея возможность постоянно разъезжать под видом торговых дел в разные города империи, оказывал немаловажные услуги „Ростовскому кружку“ доставлением нужных сведений и помощью тайной переписке иногородних единомышленников». Видимо, в этот период Евно был коммивояжером.
В свое время Ювачев, глава офицерского кружка в Николаеве, переписывался с петербургскими народовольцами, что и привело его на каторгу. В конце 1880-х никакого петербургского революционного центра не осталось. Но можно было устанавливать связи с другими кружками, в других провинциальных городах. Именно это и делал Азеф.
Наконец, была эмиграция. Фридман и Алабашев переписывались с членами кружка, находившегося в Карлсруэ.
Об этом мы знаем из первого донесения Евно Азефа.
Но – все по порядку.
ПОКОРНЫЙ ВАШ СЛУГА W. SCH.
В 1891 году Азефу наконец удалось сдать экстерном экзамен за реальное училище. Ему было 22 года. Немало для абитуриента. И все-таки первый шаг к полноценной самореализации был сделан.
Год спустя Азеф оказывается в числе студентов Фридерицианы – Высшей технической школы в Карлсруэ. Того самого Карлсруэ, где находился кружок, с членами которого переписывались Фридман и Алабашев. Той самой Фридерицианы, профессором которой был Генрих Герц.
Что же произошло в промежутке?
Во-первых, полиция напала на след ростовского марксистского кружка. За Азефом следили. Знал ли об этом он сам? Судя по дальнейшим его поступкам – нет.
В Германию Евно уехал не потому, что спасался от слежки.
Он, видимо, просто хотел учиться на инженера, и учиться в хорошем месте. Блестящая система высших технических институтов предреволюционной России (сверх которой, собственно, потом почти ничего в этом смысле в стране и не было создано) только начинала складываться. Кроме того, он, как все тянущиеся к образованию молодые евреи, хотел как-то обойти процентную норму.
А во-вторых…
Перед отъездом Азефа в Германию произошло одно событие – примечательное… и не вполне ясное.
Что-то, касающееся денег.
Жена Азефа свидетельствует (со слов его брата): «Он украл деньги там, где служил…» Владимир Азеф рассказал об этом невестке только в роковом для Евно Азефа 1909 году. Сам он, «попросту глупый», благоговел перед старшим братом, но этой истории с деньгами стеснялся.
А вот две справки, представленные в 1893 году, почти одновременно, ростовской полицией:
«…Уехал в Германию, продав предварительно по поручению какого-то мариупольского купца масла на 800 руб. и присвоив эти деньги себе».
«По агентурным сведениям между Азефом и его бывшими товарищами в настоящее время возникла вражда, вследствие того, что некоторые из них, выманив у него чужие деньги, поставили в необходимость бежать за границу, и не только не оплатили долга, но обманули в обещании помогать в жизни за границей»[12]12
Николаевский Б. Конец Азефа. М., 1926. С. 74. (Далее – Конец Азефа.)
[Закрыть].
Так как все-таки было дело?
Конечно, нравы Ростова-папы вполне допускали некоторое мошенничество, и революционная этика – тоже. Соломон Рысс заработал на обучение за границей, основав мастерскую по производству поддельных аттестатов зрелости, и совершенно впоследствии этого не стеснялся.
Но все-таки история туманная: «то ли он украл, то ли у него украли». Все, общавшиеся с Азефом в Карлсруэ, подтверждают: он был весьма беден. Но на 800 рублей можно было бы прожить в одиночку года два – очень скромно, без излишеств, но отнюдь не впроголодь.
Значит, этих денег у него не было?
Если все-таки Азефа обманули, «для пользы дела» выманив у него чужие деньги, – это в каком-то смысле объясняет его последующие поступки.
А поступки, собственно, такие.
24 марта (6 апреля) 1893 года из Карлсруэ ушло в Петербург письмо, адресованное жандармскому управлению Ростова-на-Дону. Четыре дня спустя – почти такое же, слово в слово, письмо, на адрес господина директора Департамента полиции.
В письмах сообщалось о существовании в Ростове-на-Дону социалистического кружка. Азеф не знал, стало быть, что кружок уже раскрыт. Сообщалось о переписке со «…здешним карлсруйским кружком революционеров, задающихся целью соорганизовать революционные силы как за границей, так и в России, для каковой цели в Ростов-на-Дону высылается сочинение Кауцкого (sic) „Программа социал-демократической партии“. Переписка ведется непосредственно с лицами Мееровичем, Самойловичем и Козиным».
Подпись: «Готовый к услугам покорный слуга W. Sch. (poste restante[13]13
До востребования.
[Закрыть])».
Что за В. Ш.? Вильям Шекспир, что ли?
Ветеран революции, последний глава «Народной воли» Герман Лопатин говорил про Азефа после его разоблачения, давая показания следственной комиссии Партии социалистов-революционеров:
«Это человек, который совершенно сознательно выбрал себе профессию полицейского агента, так же как другие выбирают себе профессии врача, адвоката и т. п. Это практический еврей, почуявший, где можно больше заработать, и выбравший себе такую профессию»[14]14
ГА РФ. Ф. 1699. Оп. 1. Ед. хр. 128. Л. 140.
[Закрыть].
Неправда. «Практический еврей» выбрал профессию инженера. Он долго и старательно учился и стал отличным специалистом.
А сотрудничество с полицией он выбрал… зачем же?
Деньги? Да, конечно, но, может быть, также – обида.
Молодой Сергей Зубатов, будущий знаменитый охранник и социальный реформатор, известный человек в российской истории и заметный – в судьбе Азефа, по собственным словам, пошел на службу в полицию из ярости: оказалось, что революционеры использовали публичную читальню, которую Зубатов держал вместе с женой, как явку, не ставя хозяев читальни в известность и «втемную» подвергая их опасности.
Можно осторожно предположить, что и Азефом двигало что-то подобное. Не будем забывать: это был, видимо, очень закомплексованный молодой человек. А значит, гораздо острее воспринимающий оскорбления.
Ратаев недоумевал позднее: как мог пойти на предательство давний агент, который «до поступления на службу не был революционером»? Полицейский чиновник забыл подробности. Революционером молодой Азеф или Азов был. Очень маленьким, рядовым, но… Ведь не затем же он пошел в революционную организацию, чтобы сразу ее предать?
Революция – это была гвардия поколения, ее элита, ее рыцарский орден. Так, по крайней мере, казалось большинству. И вот толстый уродливый парень где-то с пятью классами реального училища, нищий, поневоле пронырливый неудачник без определенных занятий и с неважной репутацией вступает в этот «орден», орден погибающих за великое дело любви, и рад, что его взяли. Ему нет никакого дела до рабочих, но он пропагандирует Маркса в рабочих районах, он, рискуя, разъезжает по городам с заданиями организации… И каков результат? Благородные товарищи по подполью обманывают его, толстого Евно, на отборный ростовский лад. Обманывают – потому что не считают своим. А с чужими – можно всё. Так Сергей Геннадиевич Нечаев учил.
Ну, так ужо он, черненький, покажет им, якобы беленьким.
И еще. Азеф, конечно, не знал фразы Пушкина про «неразлучные понятия жида и шпиона». Но про существование этих «неразлучных понятий» – знал еще как. Принять на себя роль «жида-шпиона», по гнуснейшим стереотипам – так могла выразиться его еврейская обида. Хотя не будем забывать, что и среди тех, за кем он в первые годы шпионил, где-то три четверти составляли евреи: это же была русская академическая колония в Германии, а из кого она состояла и почему, мы уже писали.
Конечно, в нем были задатки авантюриста, обманщика, двойного игрока. Но их надо было разбудить. Эта честь досталась ростовскому марксистскому кружку. Знали бы юноши, что они разбудили.
ВЕРБОВКА
В письме, обращенном в Департамент полиции, была такая фраза:
«Если сведения, которые я могу Вам доставлять, найдете полезными, то прошу об этом меня уведомить заказным письмом».
Это уже прямое предложение услуг.
Как известно, в КГБ СССР не очень любили «инициативников». В царское время смотрели на вопрос шире. Ни от чьей помощи не отказывались. Впрочем, ничто не предвещало, что скромный W. Sch., доносчик из Карлсруэ, вырастет в супер-агента (и в суперпредателя).
Департамент государственной полиции был создан в 1880 году, во время «оттепели» накануне убийства Александра II – «диктатуры сердца» Лорис-Меликова. До этого существовало две полиции: политическая (Третье отделение с прикрепленным к нему Отдельным корпусом жандармов) и обычная (находящаяся в ведении Министерства внутренних дел). Их компетенции пересекались, они соперничали друг с другом, это сказывалось на результатах работы.
Департамент полиции объединял политический и общеуголовный сыск. При нем в крупных городах с 1890-х годов стали создаваться отделения по охранению общественной безопасности и порядка, в просторечии охранные отделения. Работа этих отделений координировалась Третьей канцелярией Департамента полиции. Именно это именовалось и именуется «царской охранкой». Но это не была цельная общегосударственная структура вроде петровской Тайной канцелярии или ЧК – ОГПУ.
Охранка ведала политическими делами – точнее, розыском государственных преступников. Дознание же было делом Отдельного корпуса жандармов, который теперь подчинялся непосредственно министру внутренних дел.
Короче говоря, вместо прежней сложной и конфликтной системы была создана система еще более сложная, хаотическая и конфликтная. Положение спасали таланты отдельных сотрудников. Но на беду самые талантливые из них (как тот же Судейкин) оказывались карьеристами и авантюристами. Полицейская служба, в отличие от революционной борьбы, считалась делом малопочетным. Рыцари без страха и упрека редко шли туда. А в секретные сотрудники – особенно…
Итак, 3 апреля в Департаменте полиции делу W. Sch. был дан ход. Вице-директору департамента С. Э. Зволянскому было доложено, что «какое-то лицо в Карлсруэ» предлагает свои услуги и что в его утверждениях «есть кое-что правды».
Зволянский распорядился «войти в сношения» с «этим господином» – «он все-таки что-то знает». И вот 20 апреля (3 мая) в Карлсруэ господину W. Sch. до востребования было отправлено следующее письмо:
«Милостивый государь!
Существо и деятельность кружка в Карлсруэ нам известны и единственное, что нам может быть полезно, это доставление достоверных и точных сведений об отправке в Россию транспортов запрещенных изданий, с указанием когда, куда, по какому адресу и через кого именно они пересылаются. Если Вы можете и желаете доставлять эти сведения, то благоволите написать об этом, но предварительно назовите себя и объясните, чем Вы занимаетесь, т. к. с неизвестными лицами мы сношений не ведем. Вы можете быть совершенно уверены, что Ваше имя будет известно только лицу, пишущему Вам, как равно Вы можете рассчитывать на солидное вознаграждение за всякий своевременно указанный транспорт книг»[15]15
Конец Азефа. С. 71.
[Закрыть].
Письмо было подписано «Н. Виноградов», но писать рекомендовалось на имя Безрукова.
Почувствовав себя увереннее, Азеф ответил длинным и подробным письмом:
«…Я со временем сумею доставлять Вам достоверные сведения о транспорте в Россию изданий нелегальных, так как кружок здешний задается целью завязать сношения с революционерами в России, для чего необходимо: объединить всех живущих по различным городам за границей русских, создать новую серию изданий рабочей литературы (первый выпуск выйдет в непродолжительном времени), препровождать эти издания в те места России, где имеются рабочие революционные кружки, и получать для всей этой деятельности материальные средства из России. Об этих целях кружка я сообщаю Вам потому, что, как я полагаю, вряд ли Вам знакомы именно эти цели, несмотря на то, что Вам знакома деятельность кружка. Эту задачу поставил себе кружок сравнительно недавно. По моему мнению, сведения о том, как завязываются кружком сношения, с кем, посредством кого, в каких местах, кто из России сюда приезжает, кто отсюда едет в Россию для завязывания сношений и добывания средств, как эти средства доставляются, какая литература печатается, кто занимается этим делом и где в России есть революционные кружки – все эти сведения, по-моему, гораздо важнее, чем достоверные и точные сведения о транспортах, которые бывают очень редки; обнаруживание одного транспорта прекращает на долгое время транспортирование, а печатный материал отдельными экземплярами перевозится единичными лицами…»[16]16
Письма Азефа 1893–1917. М., 1994. С. 15. (Далее – Письма Азефа.)
[Закрыть]
Поразительно, как деловито и толково 24-летний Азеф берется за дело шпионства!
За свою будущую работу молодой человек просит месячное вознаграждение в 50 рублей. Не солидная сдельщина – а скромная месячина. Здесь видна его бедность, а значит – уязвимость. Но в остальном – обращает на себя внимание уверенный и независимый тон, которым кандидат в сексоты говорит со своими потенциальными нанимателями.
Имя свое назвать он отказывается, пока полиция не примет его условий[17]17
Кроме того, просит прислать отрывок из его первого письма, чтобы подтвердить, что с ним действительно переписывается представитель полиции.
[Закрыть] – сообщает только, что он «студент здешнего политехникума».
Ответ не заставил себя ждать. Виноградов любезно сообщил, что принимает программу и условия студента из Карлсруэ, попросил добавить, «кроме сведений о сношениях кружка с Россией, и сведения о сношениях с Швейцарией и Германией» и «для начала перечислить состав кружка с краткими биографическими сведениями о каждом члене» (Азеф это исполнил оперативно и точно).
«…Относительно качества сведений должен сообщить наши требования: многословия и теоретических рассуждений не требуется. Мы ценим сведения только фактические, с возможно точным указанием имен, адресов или таких данных, которые могут быть материалом для исследования…»[18]18
Конец Азефа. С. 77.
[Закрыть]
И наконец – можно представить себе ехидную усмешку, с которой это писалось: «Я думаю, что не ошибусь, называя Вас, г. Азеф, именем, и прошу Вас уведомить, не следует ли писать Вам по адресу» (адрес следует).
Имя Азефа выяснили так: в родном Ростове, где все члены кружка, включая «Азова», были под колпаком, быстренько провели графологическую экспертизу присланного им письма. И тут же переслали в Петербург это письмо, вместе с результатами экспертизы и подробными сведениями о мещанине Азефе, человеке «…весьма не глупом, пронырливом и имеющем обширные связи между проживающей за границей еврейской молодежью», о его семье, его революционной деятельности, о денежных делах с мариупольским купцом и товарищами по кружку.
Спецслужбы дали понять самоуверенному юнцу, что играть с ними в прятки не стоит. Никто не догадывался, какая партия предстоит и кто в ней будет победителем.
Но первые два хода были сделаны. Вербовка состоялась.
ЕВГЕНИЙ ФИЛИППОВИЧ И ЕГО ЗНАКОМЫЕ
Удивительно, но, кажется, стоило Азефу пойти на позорную службу, как он начал приобретать респектабельность, уверенность в себе, вызывать у окружающих не отвращение и презрение, а уважение и, пожалуй, что-то вроде симпатии. Тональность воспоминаний о нем, относящихся к 1890-м годам, – совершенно не та, что немногочисленных мемуаров о его юности. Скорее всего, именно в эти годы он окончательно «облагородил» свое имя и отчество. Под именем Евгений Филиппович он жил «в миру» (вне революционного подполья) до самого разоблачения и краха – до 1909 года.
Как будто человек легко, на ходу, продал душу – и сразу же стал получать бонусы.
Впрочем, не будем сгущать краски. Ничего особенно инфернального в полицейской службе Азефа в первое десятилетие не было – как и в деятельности тех, за кем он следил.
В конце 1870-х – начале 1880-х годов в России шла террористическая война. Жертвы с обеих сторон исчислялись десятками. Народовольцы-предатели, такие как Иван Окладский или уже помянутый Дегаев, своими показаниями отправляли своих товарищей на виселицу или на вечную каторгу – которую те в большинстве случаев, надо сказать, честно заработали. Каждый человек, хоть как-то служивший в те годы революции или, наоборот, политической полиции, прямо или косвенно обагрял свои руки кровью. При этом рискуя и собственной жизнью. Работа осведомителя в то время была почти такой же опасной, как участие в революционной деятельности. Шарашкин и Жарков были убиты, недоубитому Гориновичу облили лицо серной кислотой, и он ослеп.
Но Азеф начинал в другое время. Он следил не за террористами, а за теоретиками и не очень успешными пропагандистами, причем находящимися в эмиграции. Да и по возвращении в Россию большинству из них ничего не грозило. Взять хотя бы упомянутых в первом доносе Мееровича, Самойловича и Козина: один впоследствии потихоньку служил себе начальником трамвайного управления в Смоленске, другой на чугунолитейном заводе в Новороссийске, третий держал магазин швейных машинок во Владикавказе, и никто не побывал даже в административной ссылке. Полицейская служба молодого Азефа была мерзкой, но пока что совсем нестрашной, ибо – мелкой.
Адресовался он с 1898 года к Леониду Александровичу Ратаеву, начальнику Особого отдела, высокопрофессиональному, опытному и честному сыщику, хорошо понимавшему внутренние проблемы своего ведомства и не боявшемуся докладывать о них начальству, но, пожалуй, не очень глубокому и далекому человеку. Первый оперативный псевдоним – «Виноградов» – Азеф унаследовал от своего вербовщика.
Чтобы представить, в чем именно заключалась работа Азефа, – вот несколько примеров его сообщений:
«…Кружок здешний предложил мюнхенскому заняться совместно изданием брошюр для рабочих, и для более удобной выработки программы деятельности предполагается съезд. Теперь это решено устроить в Швейцарии, так как на предстоящий конгресс в Цюрихе приедут много русских социалистов. Связи здешнего кружка следующие: Мюнхен, Вена, Цюрих, Берн. Со всех этих мест приедут в Цюрих. Отсюда едет Баранов. Съезд, вероятно, будет не в самом Цюрихе, а в какой-нибудь деревне для того, чтобы не обратить на себя внимание. Из всего этого, известного мне, я, не получив от Вас ответа на мое письмо от 8/VII сего года, самостоятельно решил, что мое присутствие в Швейцарии будет небесполезно, тем более что для этого на расходы понадобятся всего 25–30 рублей. По получении этого письма прошу выслать мне за август 50 рублей, так как мне это время понадобится прожить в Швейцарии, и на расходы, если считаете, что мое желание поехать туда благоразумно и необходимо» (26.07.1893)[19]19
Письма Азефа. С. 19.
[Закрыть].
«Меерович на днях в кружке прочел реферат приблизительно следующего содержания. Русские за границей увлекаются социал-демократизмом. Эта форма революционного движения, насколько он знает, не имеет в России значительного числа последователей. Обыкновенно социал-демократы в России – это люди, дорожащие своей шкурой; искренний социалист всегда сумеет поставить на карту свою личную жизнь для того, чтобы содействовать устранению того, что препятствует развитию нашего народа и переходу к более справедливому строю. А потому он просит принять программу народовольческой партии, которая поставила себе задачей устранить и т. д.» (02.12.1893)[20]20
Там же. С. 22.
[Закрыть].
«Книга Бельтова „К вопросу о развитии монистического взгляда на историю“ произвела шум, выразившийся в созывании собраний для диспутов об этой книге. Г-н Керкис (из Киева) прочел реферат, в котором между прочим говорил о том, что ему хорошо известно, что в Киеве большинство студентов сочувствует социал-демократическому движению и что там довольно сильная организация среди рабочих… Бельтов – это псевдоним. Автор этой книги известный революционер Г. Плеханов» (27.04.1895)[21]21
Там же. С. 33.
[Закрыть].
«Здесь получено известие о смерти лондонского эмигранта С. Степняка. Эмигрант Лазарев прислал письмо Б. Петерсу, в котором он сообщил, что Степняк задавлен паровою конкой. Петерс собирал по листу на венок Степняку от „друзей-карлсруйцев“» (26.12.1895)[22]22
Там же. С. 36.
[Закрыть].
Сергей Михайлович Степняк-Кравчинский в 1878 году заколол стилетом шефа жандармов Мезенцева, ухитрился бежать с места преступления и перейти границу. (Это было еще до раскола «Земли и воли», на самой заре массового политического террора.) Он поселился в Лондоне и занялся литературой. Дружил с Элеонорой Эвелинг, дочерью Маркса (на которого сам он был, кстати, необычайно внешне похож), но оставался верен народнической доктрине; его «Андрей Кожухов», роман-агитка про народовольцев, был в России в числе популярнейшего нелегального чтива. Сбит он был не паровой конкой, а поездом дальнего следования.
А вот примечательное сообщение:
«Как мне сообщают из Швейцарии, должен в феврале или марте приехать в С.-Петербург бежавший из Сибири Владимир Бурцев, проживающий теперь в Лондоне…» (25.01.1897)[23]23
Там же. С. 42.
[Закрыть].
Азеф не мог и предположить, что будет значить в его жизни это имя – одно из десятков, походя упомянутых в его донесениях.
Он не знал, а мы знаем – и сейчас наведем объектив.
Владимир Львович Бурцев был старше Азефа на семь лет. Родился в забытой богом крепости на Мангышлаке, там, где томился на солдатской службе Шевченко, вырос в Бирске, на Южном Урале. Русский, православный. По отцовской линии – из дворян (батюшка был штабс-капитан), по матери – из купцов. Окончил Казанскую гимназию, учился в Санкт-Петербургском и Казанском университетах. Входил в «Народную волю» на самом ее закате. Год отсидел в крепости, побывал в ссылке в Иркутской губернии, бежал в Швейцарию.
Еще в ранней юности Бурцев стал участником детективных дел, связанных с борьбой между полицией и революционерами. В 1884 году он пытался донести до руководства «Народной воли» (тогда это был Лопатин) информацию о двух завербованных Дегаевым и после его бегства оставшихся в партии агентах. Одним из них был некто Авраам Гаккельман. Народовольцы не поверили – более того, разуверили самого Бурцева. В 1889 году Бурцев встретил Гаккельмана, жившего (под фамилией Ландезен) в Париже и пользовавшегося большим авторитетом в среде эмиграции. Вскоре Бурцев уехал из Парижа, надеясь попасть в Россию. Среди нескольких людей, знавших о его отъезде, был Гаккельман-Ландезен. Вскоре Бурцев обнаружил за собой слежку. Тем временем в Париже были арестованы русские эмигранты – много, несколько десятков. Оказалось, что Ландезен готовил теракт к приезду Александра III в Париж… и в нужный момент выдал всех участников этого конспиративного дела французской полиции. Давние сведения о нем были справедливы. Это был агент русской полиции, уже заслуженный, с многолетним стажем. Потом он (как в свое время и его шеф, глава заграничного сыска Петр Иванович Рачковский, как Зубатов, Гурович и другие видные полицейские чины) перешел из секретных сотрудников на гласную службу, для этого крестившись и сменив фамилию – на Гартинг.
Революционеры начиная с 1890-х годов употребляли слово «провокатор» в расширительном смысле, разумея любого полицейского осведомителя. Это было подменой понятий. Но то, что осуществил в Париже Гаккельман по заданию Рачковского, было именно провокацией – с целью заставить французскую полицию заняться русскими эмигрантами. Это был не единственный случай такого рода. Петр Иванович, как и его покойный друг Судейкин, ничем себя в смысле методов не стеснял, не говоря уже о «двойной игре» – в этом смысле Рачковский тоже вполне походил на своего друга, если и не обладал его амбициями.
Бурцев, вероятно, был раздосадован тем, что уже разоблаченный полицейский агент сумел обвести его вокруг пальца. Это повлияло, вне всякого сомнения, и на его дальнейшую жизнь – на то, что он выбрал путь «революционного Шерлока Холмса».
Впрочем, это потом, в будущем. Пока в 1890-е годы Бурцев – просто публицист. В Лондоне он издавал журнал «Свободная Россия». А в 1897 году в Париже затеял новое издание – «Народоволец».
Уже передовая статья содержала вызывающие утверждения:
«„Народная Воля“ не погрешила ни перед „естественным ходом вещей“, ни перед историей, ни перед русской действительностью… Но „Народная Воля“ не завершила своего дела. Она не вынесла страстного напряжения борьбы и, оставшаяся без вождей, погибших в бою, покинутая слабодушными друзьями и атакованная сзади вчерашними союзниками, ослабела, растерялась и приостановилась в своем победном движении как раз накануне своего триумфа.
Временное прекращение систематических нападений на правительство, какие были в 1879–1881 годы, вызвано не истощением сил, нужных для борьбы, а неверными расчетами руководителей боевой организации „Народной Воли“, которые погубили ее дело и привели ее, вместо победы, к поражению и гибели…[24]24
Народоволец. 1897. Ne 1. С. 1–2.
[Закрыть]
Положение осужденной и по пятам преследуемой жертвы – невыносимо для всякого. Александр II… не выдержал и нескольких лет борьбы и уже склонялся на капитуляцию. Александр III продержался бы, может быть, годом или двумя больше – вот и все. В конце концов он – так же как и всякий другой на его месте – был бы вынужден пойти навстречу революции и начал бы „реформы сверху“ во избежание „революции снизу“»[25]25
Там же. С. 8.
[Закрыть].
Цели Бурцева были очень умеренными. Он не мечтал пока что ни о социализме, ни о республике, ни даже о «черном переделе». Все экономические вопросы, по его мнению, можно было решить через обычные парламентские процедуры. Но для начала необходимо сделать Россию конституционной, демократической страной. Это вполне можно было осуществить «реформами сверху». В сущности, на первых порах Владимира Львовича вполне устроило бы нечто вроде «диктатуры сердца» М. Т. Лорис-Меликова 1880–1881 годов – только более последовательной.
А вот чтобы вынудить правительство к этим реформам, необходим террор, решительный и безоглядный. Бурцев вспоминал дворцовые перевороты XVIII века. Под его пером возникали имена старинных заговорщиков, таких как граф Пален. А пропаганда… В широкую пропаганду он особенно не верил. Какая пропаганда в несвободной стране?
Бурцев был, в сущности, не революционер, а «либерал с террором». Так его называли. Он особенно не возражал. И, естественно, его идеи вызывали резкую критику – и слева, и справа. Некоторые просто боялись – и не зря: после первого «Народовольца» Владимир Львович был арестован в Лондоне за «подстрекательство к убийству лица, не состоящего в подданстве Его Величества» (разумелся Николай II). Отсидев год, он выпустил еще три номера журнала. В последнем – горячо приветствовал («Браво, сербы, браво!») садистское (с глумлением над трупами) убийство короля Александра и королевы Драги, осуществленное Драготином Димитриевичем, известным как Апис: тем, который 11 лет спустя организовал выстрел в Сараеве.
Но это было потом. А в 1897 году Бурцев получил одно-единственное письмо с выражением согласия, поддержки и благодарности за ценные мысли и с предложением содействия. От Евгения Филипповича Азефа.
К тому времени Азеф уже отошел от эсдеков и перешел к народникам. Это был простой расчет: сведения о поклонниках террора и наследниках народовольцев были интереснее полиции; марксистов она пока что боялась меньше. Книга Бурцева заинтересовала Азефа как осведомителя. Четыре года ловивший мелкую рыбешку, он инстинктом хищника почуял жирную, полнокровную жертву.