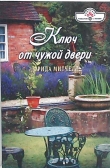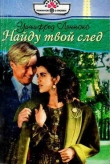Текст книги "Держава (том третий)"
Автор книги: Валерий Кормилицын
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
– Ну вот, – кое–как обустроились на новом месте офицеры, – не успел Греков отряд под команду принять, как его самого куда–то в другую часть отрядили, – вскрыл банку с консервами Фигнер. – Как там Ильма у сестры милосердия поживает? – по ассоциации с консервами вспомнил собаку.
– Ранят – узнаешь, – ляпнул Ковзик, и тут же добавил: – Типун мне на язык.
– Развалили наш отряд, господа, – хмуро произнёс Рубанов. – Раздёргали по частям. Всего десять сотен и две батареи осталось…
– То–то Мищенко удивится, когда выздоровеет, – хмыкнул Кусков. – Хаос в нашей Второй армии творится.
– Господин студент, помолчите лучше, – обиделся за честь армии Фигнер. – Привыкли там… В своих университетах… Это в вашей Москве хаос творится, коли великих князей, будто на войне, взрывают.
– Спокойно, спокойно господа… Нам ещё поссориться не хватает. Как Ренненкампфу с генералом Самсоновым, – остудил горячие головы Рубанов.
– Да-а, ходят такие разговоры в армии… И Мищенко наш этого Ренненкампфа терпеть не может… Я даже слышал, когда сюда ехал, что генерал Самсонов называет Ренненкампфа «Жёлтая опасность», – закашлял, подавившись куском тушёнки Кусков.
– Это за сплетни вас Бог наказал, господин вольнопёр, – одобрил деяние Всевышнего Ковзик. – Я обоих генералов уважаю, правда, Александра Васильевича Самсонова немного больше… Ведь какое–то время служил у него, пока к Мищенко не перевели. Да–да, – будто кто спорил с ним, стал утверждать Ковзик. – Когда он командовал Уссурийской конной бригадой, мы вместе участвовали в столкновении при Вафангоу с конным отрядом генерал–майора Акиямы.
«Ну вот и потекла спокойная беседа, – подумал Глеб, – Бойцы вспоминают минувшие дни… чего там дальше–то… запамятовал… С Акимом встречусь – спрошу. Удосужился хоть письмо прислать… Слава Богу, Ольга на ноги его поставила…. А вот, к примеру, если меня вдруг ранят… Станет Натали ночи не спать, с того света больного вытаскивая», – задумался он, краем уха слыша:
– … А осенью прошлого года получил под командование Сибирскую казачью дивизию, коей успешно до последнего времени и руководит.
– Имя–отчество какое замечательное… Александр Васильевич… Суворов практически, – захмыкал Кусков.
– Ну что за скубент… Вечно всё опошлит, пересмешник. – оскорбился за бывшего своего начальника Ковзик.
– Господин штабс–ротмистр… Пардон. Господин подъесаул… Вы только вслушайтесь в музыку слов… ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ, – торжественным речитативом произнёс Кусков. – Дохнуло на вас древней Киевской Русью?
– Нет! Только перегаром от вольнопёра, – отмёл величие великих киевских князей Ковзик. – У меня бо'льшая половина родни в Киевском военном округе проживает, – развеселил компанию.
– Наверное, ваши тётушки и дядюшки с кузенами в Киевской губернии имеют честь жить… Вот привычка у офицеров Рассею–матушку на военные округа делить, а не на губернии.
Утром полковник вызвал офицеров в свою командирскую палатку.
– Всё выяснилось, господа, – с долей иронии произнёс он. – Оказывается, мы подчиняемся генералу фон–дер–Ляуницу, и должны идти на север, причём передать восемь сотен генералу Толмачёву. Так что, господа, в поход. Пойдём вдоль фронта, в двух верстах от линии соприкосновения, пока к стыку нашей и центральной армии… А дальше видно будет.
На стыке двух армий, у деревни Сухудяпу, отряд отбил атаку японцев, как написал в посланном в штаб корпуса отчёте Деникин, и стоял до подхода головной бригады.
Но в ночь, командир бригады генерал Голембатовский, без давления противника, отвёл бригаду за реку Хуньхе, и казаки с замиранием сердца наблюдали, как горят склады с продовольствием и рвутся снаряды, освещая ночное небо и грохоча на десяток вёрст.
Утром прибыл генерал Толмачёв и Павлов передал ему восемь сотен.
– Ну вот, господа, славная мищенская Урало—Забайкальская дивизия приказала долго жить, – сняв папаху, перекрестился полковник, прощаясь с офицерами.
Он, Павлов и Деникин со штабом и двумя сотнями остались не у дел.
Через несколько дней сотня Ковзика ушла в глубокий рейд по тылам противника, попала в окружение и, спешившись, отстреливалась от вражеской пехоты.
– Олег Владимирович, сейчас бы в университетской аудитории очутиться, – метнул гранату в сторону японцев Рубанов.
– А ещё бы лучше, Глеб Максимович, – прицелившись, выстрелил из винтовки Кусков, – Татьянин день отметить… Ничего-о, погуляем ещё, – вновь нажал на курок.
– Коллега, мне нравится ваш оптимизм, – выстрелил из нагана Глеб, вжавшись в землю от разрыва шрапнели над головой. – Господин вольноопределяющийся, вы живы? – поднял голову и осмотрелся.
– А что со мной сделается? Не страшнее, чем на экзаменах, – бравировал тот. – Но, по–моему, нам хана, как выражаются уральские казаки.
– Или амба, по словам их коллег из сибирских полков генерала Самсонова, – бросил ещё одну гранату в противника Глеб. – Последняя, – услышал стрельбу пачками, что свойственно больше русским, чем японцам и далёкое «ура-а».
– Какое приятное слово, – плюхнулся в снег рядом с ними Ковзик. – Откуда–то наши взялись… Шляются, где ни попадя. Фигнера не видели? – пригнувшись, побежал куда–то в пургу.
Через полчаса остатки сотни обнимались с русскими пехотинцами.
– Да вы хто, робяты? – вопрошал у запорошенного снегом стрелка бедовый казак со светлым чубом из–под висящей на ухе папахи.
– Мокшанские мы. Двести четырнадцатого полка, – простужено гудел солдат. – В окружение попали, стрельбу услыхали, а тут вы с врагом бьётесь. Батальон нас. Отход полка прикрывали и заплутались напрочь в этой Маньчжурии, в сопку её яти…
– Эк, метель закрутила, – поймал падающую с головы папаху казак. – А у меня лошадь убило. Пойду у начальства поинтересуюсь – седло брать или тут бросить…
Остатки батальона и сотни укрылись в распадке, дно которого покрывал глубокий снег.
Ковзик послал взвод на рекогносцировку.
– Это, наверное, последняя сопка из гряды. Мы–то шли сюда по равнине, – делился он знанием местности с комбатом. Чёрт знает, куда занесло, – наблюдал, как солдаты и казаки роют в снегу ямки и укладываются в них.
Чубатый казак, расковыряв сугроб до самой земли, разложил костёр.
– Сейчас, ваши благородия, чайком побалуемся… Ежели заварки, конечно, дадите. Снег для воды мой, заварка – ваша, – накладывал в чайник снег.
Рубанов залюбовался окружающими распадок соснами, ветви которых гнулись от нависшего на них снега: «Если заорать – эхо до самого Мукдена дойдёт, – мелькнула в голове ребяческая мысль. – А комбат прикажет расстрелять», – увидел скачущий к ним разъезд.
– На равнине японцы, – доложил командовавший разъездом старший урядник.
– Дорога одна – обойти их по сопке, – указал вверх, на величественный зимний лес, комбат, обращаясь, в основном, к Ковзику. – Ночью пойдём, – решил он. – Метель здесь переждём, люди и так намаялись… Пусть отдохнут. Вы с нами, господа? – глянул на подъесаула.
Тот надолго задумался.
– Одни не пройдём, к тому же у половины казаков лошадей поубивало.
– Как так? – удивился пехотный подполковник. – Специально по лошадям, что ли, японцы стреляли.
– Никак нет, ваше благородие, – встрял в разговор чубастый казак в съехавшей на ухо папахе. – Лежачими лошадями прикрылись и отстреливались, – скрипнул зубами, вспомнив своего рысака.
«Никакой дисциплины у этих казаков», – пожевал губы комбат, но ничего не сказал.
– А склон сопки льдом покрыт, – негромко произнёс Кусков.
– Чего? – переспросил Фигнер.
– Вершина сопки обледенела, – на повышенных тонах пояснил партизану. – Обратно и скатимся как в детстве на санках.
– Потише, господин вольноопределяющийся, – сделал замечание пехотный офицер. – Враг рядом, а вы кричите.
– Услышит он при таком ветре, – стал спорить с ним Кусков.
«Никакой дисциплины», – махнув рукой, пошёл к своим солдатам комбат.
– Это безумие… Ночью лезть через гору, – бурчал Фигнер. – И лошадей бросить пришлось.
– Господин Фигнер, партизанские тропы – ваша стихия, – с трудом бредя по всё сужающейся тропе и глубоко проваливаясь в снег, пытался шутить Рубанов. – Ваш предок внимания бы не обратил на такие пустяки, как обледенелый склон или сломанная нога. Влез бы на одном дыхании.
Утром спустились с горы и немного отдохнули, определяя на слух, в какой стороне раздаётся стрельба.
– Ну вот, Альпы пересекли и гномов не видно, – вошёл в прекрасное расположение духа Фигнер, продолжив после короткой стоянки поход.
– Зато из кавалеристов превратились в пехоту, – ворчал Кусков, подвернувший во время перехода ногу. – Пора бы и привал сделать, – не слишком вежливо обратился к пехотному офицеру.
«Не дисциплина, а чёрт те что», – обиженно засопел подполковник, в сердцах протащив отряд ещё несколько вёрст до брошенной китайской деревушки.
Выставив посты, отдохнули, подкрепившись сухарями, и двинулись дальше, обходя большие деревни, пока не услышали впереди винтовочные выстрелы и не нарвались на полк японских солдат, штурмующих занятое русскими селение.
Не ожидавшие нападения с тыла, японцы были разбиты, и потеряли два пулемёта с боекомплектом.
Соединившись со своими, расположились отдыхать в полуразрушенных фанзах, отрядив чуть не треть живой силы на окраину деревни, где оказались практически нетронутые склады.
– Берите, сколько в силах унести. Пришёл приказ отступать, предварительно уничтожив имущество, – удивлял всех щедростью интендантский офицер.
– Лошадей нет, – страдал казак с папахой на ухе. – Овёс, горы сена и всё сожгут, – набрал муки, риса и мешок сухарей.
– И как всё это потащишь? – изумился Рубанов, с аппетитом грызя сухарь и безразлично глядя то на набитые припасами мешки, то на голые ветви деревьев.
– С вами пойдём, – сидя в фанзе, пили чай с сухарями Ковзик и комбат. – Мищенковский отряд распался, и ваш полк легче найти, чем штаб нашей несуществующей Урало—Забайкальской дивизии. А там видно будет… Может, к Ренненкампфу присоединят. Совершеннейший бардак и неразбериха в армии…
«Кто бы говорил, – осудил подъесаула с его воинством комбат. – На себя бы поглядели, а то – никакой дисциплины-ы», – мысленно поёрничал он.
На рассвете следующего дня остатки батальона мокшанцев воссоединились с полком.
Бои шли уже под самым Мукденом.
– Разрешите представиться, господин полковник – подъесаул Ковзик из отряда генерала Мищенко… А это мои офицеры. Доложите о нас в дивизию, а пока разрешите остаться с вами.
– Командир Двести четырнадцатого Мокшанского полка Побыванец Павел Петрович, – протянул руку подъесаулу, оправив потом окладистую бороду. – Прошу вас представить список личного состава и рапорт о проделанном походе. Русская армия отходит, а мы вошли в состав арьергарда и прикрываем отступление войск из Мукдена, – отпустил офицеров.
Не успели расположиться и оглядеться, как начался бой.
Подошедшие к японцам подкрепления сначала открыли бешеный артиллерийский огонь, а потом пошли в атаку.
Казаки наравне с пехотой сидели в окопах, отстреливаясь от врага.
– Боезапас кончается, господин полковник, – увидел командира полка Ковзик.
– Получен приказ отходить… Патроны взять негде. Начнём пробиваться штыками. Знамя и оркестр – вперёд! – выпрямился во весь рост под несмолкающим обстрелом и разрывами шимоз. – Где капельмейстер? Илья Алексеевич, голубчик, строй своих музыкантов рядом с полковым знаменем. В штыковую, братцы, за мной, – повёл полк в последнюю атаку, не обращая внимания на разрывы снарядов и свист пуль.
Музыканты заиграли марш полка.
– Казаки, братишки, вперёд, – повёл три десятка оставшихся в строю казаков в штыковую атаку Ковзик.
«Так и Аким когда–то с полком пробивался, а теперь мне пришлось», – хрипя пересохшей глоткой «ура», отбивался от наседавших японцев подобранной винтовкой с примкнутым штыком Глеб. – Кусков, не отставай, – махнул рукой другу.
«Полковник уби–и–т», – услышал крики мокшанцев.
Разъярённые пехотинцы потеряли уже ту мысленную грань, что разделяет жизнь и смерть… Были они… И был враг, которого следует уничтожить. А оркестр вдруг заиграл вальс «Ожидание». Уже даже не оркестр, а семь оставшихся музыкантов. Не боевой марш, а лирический вальс… Голос из прошлой жизни… Где остались любимые… Дом… Семья…
И чтоб вновь увидеть всё это надо УБИВАТЬ…
И убивали… Яростно… Безжалостно…
Разум не боялся смерти… Разум в эти минуты хотел убивать… И хотел жить… ЖИЗНЬ и СМЕРТЬ… И вальс «Ожидание…».
В музыке звучала надежда… Звучала жизнь…
Глеб вспомнил Натали… Её жёлтые глаза… И чтоб увидеть их ещё раз хрипел что–то неразборчивое… Как и другие. Без устали круша штыком человечью плоть… Плоть ненавистного врага…Он полностью познал – что такое ненависть… Что такое – жизнь… И что такое – смерть…
Японцы, столкнувшись с яростным безумием, вначале растерялись, потом стали отходить и, наконец, побежали.
Полк пробился из окружения.
Японцы не решились преследовать этих окровавленных, обезумевших людей, умиравших и убивавших под томные звуки какого–то русского вальса…
– Кусков, живой? – постепенно начал приходить в себя Глеб. – А где Ковзик? – осёкся, увидев как тот, шатаясь от напряжения, тащил на плечах Фигнера. – Давай помогу. Он ранен?
– Уйди! Сам справлюсь.., – с трудом переставляя ноги, нёс на себе товарища, голова которого безвольно моталась на расслабленной шее, а открытые глаза глядели уже в пустую бесконечность…
И то ли здесь, на земле.., в густом сером дыму, то ли где–то там, в небе, в синей его выси, Глеб услышал звуки вальса. А может, он звучал у него в голове… Или в сердце… Или в напряжённых нервах…
Мандаринскую дорогу запрудили отступающие войска и обозы.
Скинув с артиллерийской запряжки, которую катили шесть коней–тяжеловесов, какие–то вещи, Ковзик устроил на ней тело погибшего друга, и, держа в руке наган с пустым барабаном, мрачно шёл рядом, не обращая внимания на шум, гам, сутолоку, ругань и крики повозочных.
По мёрзлой, с вытоптанным снегом земле, с краю дороги, потоком текла пехота. В стороне от них, на измотанных тощих лошадях, безо всякого строя, шли эскадроны и сотни.
Следом за артиллерийской упряжкой, чуть позади Ковзика, цепляясь ногами за камни и выбоины, брели Рубанов с Кусковым.
Глеб, сжав зубы, наблюдал, как подъесаул заботливо поправляет одеяло, коим укрыл друга. И вдруг увидел повозку с намалёванным красным крестом, и на ней Натали.
Сначала подумал, что это морок: «Не можем мы вот так неожиданно встретиться?!» А в голове вдруг раздались звуки вальса, что выдувал духовой оркестр из семи музыкантов.
Натали, как ему показалось – нереально плавно и замедленно выбралась из повозки и, глядя сухими, воспалёнными от бессонницы глазами, как–то неуверенно побежала к артиллерийской упряжке с укрытым одеялом телом.
– Ранен? – ровным, безмерно уставшим голосом спросила у Глеба, не выказав удивления от встречи.
И на отрицательное покачивание головой, с дрожью произнесла:
– Кто? – Хотя и сама уже догадалась, видя оставшихся в живых казаков.
– Димка Фигнер, – зашмыгал носом Кусков.
Подойдя к убитому, Натали жалостливо погладила давно остывшее тело.
Ковзик не обратил на неё внимания, как не обращал внимания на грохот и шум, будто на всей дороге были только он и его погибший друг.
Скрывая даже от себя неуместную в данный момент радость, Глеб осторожно взял Натали под локоток и немного отстал от артиллерийской упряжки.
Растерявшись и не зная с чего начать разговор, вспомнил о собаке.
– Натали, что–то я не вижу Ильму? – с удовольствием ощутил у засаленного своего полушубка женскую руку, подумав, что жизнь продолжается, если рядом любимая девушка. В том и заключается парадокс, что именно за это чувство он и убивал под звуки вальса «Ожидание».
«Как они с Акимом в первую встречу всегда оригинально одеты», – покосилась на драные сапоги и с вылезшим мехом папаху. – Ильма поймала зайца и пошла на кухню, распорядиться, чтоб приготовили: «Боже, что я говорю… Или просто счастлива его видеть?» – Я её отмыла после пребывания в вашем полку и откормила… Не узнаешь псину, – затараторила, отчего–то тоже застеснявшись… – У меня раненый на подводе, мне пора, – с некоторым усилием высвободила руку. – Позже увидимся, – помахала обернувшемуся к ним Кускову и пошла к санитарной двуколке.
– Японовская земля… То – яма, то – канава, – морщась от боли, встретил её раненый. – Сестричка, дай попить, – попросил её.
Держа кружку у губ раненого, она подумала, что при встрече с Глебом сердце так не колотится, как при встрече с Акимом.
Не долечившийся от ран генерал Мищенко вновь вступил в командование Западным конным отрядом, с трудом формируя боевую единицу из полков, разбросанных по всему Маньчжурскому фронту.
И тут пришла новость, что в далёком Петербурге император собрал военный совет из генералов: Драгомирова, Гродекова, Роопа для решения вопроса о командующем.
– Тон задал Драгомиров, – в деталях, словно сам там присутствовал, рассказывал окружившим его офицерам Кусков. – Я не люблю куропатку под сахаром, – заявил императору и генералам Михаил Иванович. Монарх, зная эксцентричную натуру своего генерал–адьютанта, посмеялся и снял Куропаткина с должности, поставив вместо него папашу Линевича.
– Променяли шило на мыло, – пришли к выводу офицеры.
Русская армия остановилась на Сипингайской позиции.
Тело подъесаула Дмитрия Серафимовича Фигнера друзья предали земле на харбинском кладбище.
В апреле русские войска полностью восстановились и были готовы к новым боям.
Из России составы каждодневно везли подкрепления и вооружение.
– Да подумаешь, Ляоян с Мукденом потеряли и лесные концессии на реке Ялу, – философствовал начитанный Кусков. – В 1812 году Москву оставили, а француза всё равно победили. Кутузов в таких же годах был, как и Линевич… Но голова работала…
– Может и Линевичу следует глаз выбить, на пользу отечеству, – высказал своё видение будущей победы Глеб.
– Но–но, Рубанов, не забывайтесь. Вокруг вас не одни студенты, но и верные воины царя–батюшки, – сделал ему выговор Ковзик, начавший приходить в себя после гибели друга. – Сипингайская позиция для Линевича – то же, что Тарутинский лагерь для Кутузова. Отъедимся, отоспимся и в бой.
– Как бы так не получилось, что только отъедимся–отоспимся, – возразил Кусков, покрутив анненский темляк на шашке.
– Вам, господин бывший студент, царь клюкву пожаловал, чтоб от кислоты челюсти свело и говорить не хотелось, ан нет… Несёте бог весть чего…
– Это оттого, что третью степень хочется, – погладил новенький орден на груди Рубанов. – Осталось Владимира получить – и брата догоню, – вывернув шею, с гордостью оглядел три звёздочки на погонах. – Сотником стал, что равно армейскому поручику.
– А вы, господин сотник, язвите оттого, что неприятель ваш любимый городок Бодун занял… Наслышаны про ваши похождения-с, – огрызнулся Кусков.
Сказать что–либо Ковзику не посмел.
– Бодун жалко, спору нет, – взгрустнул Глеб, но у нас ещё Харбин остался… А за ним Владивосток и все другие города по железнодорожной ветке транссибирского экспресса. Что–то нехорошо вы хихикаете, господин вольнопёр, – осудил он товарища.
– Это я сейчас вольнопёр, а вот подготовлюсь, сдам экзамены экстерном за Николаевское кавалерийское училище и корнетом стану, – вдохновился Кусков. – Вы поднатаскаете меня по некоторым дисциплинам, господин подъесаул? – обратился к Ковзику.
И на утвердительное кивание начальской головы поинтересовался:
– Господа! А была ли пощёчина генерала Самсонова генералу Ренненкампфу после Мукденского сражения? Казаки балагурят, что была.
– А вы слушайте их больше, мсье Кусков, – улыбнулся Рубанов. – Ещё ни то услышите.
– А что ещё? – затаил тот дыхание.
– Ну-у, что папашка Линевич укусил генерала Сахарова…
– Ага! Дёснами, – захохотал Кусков. – В это я не поверю.
– Пощёчины не было, но повздорили, – командирским басом завершил спор Ковзик. – За пощёчину дуэлью расплачиваются… В их судьбе так получается, что всю военную карьеру неподалёку друг от друга служат. Сначала в Ахтырском полку Александр Васильевич Самсонов служил, а в 1895 году этот полк получил под командование Павел Карлович Ренненкампф. Сейчас он командует Забайкальской казачьей дивизией, а Самсонов – Сибирской. Из ахтырских гусар казаками стали… Чего им драться–то?
– Февральские и мартовские газеты пришли, – потряс толстенной кипой Глеб. – Пишут, что учреждён Совет Государственной Обороны. СГО, если коротко. Коллегиальный орган, в который вошли: военный министр и начальник генштаба. Морской министр и начальник морского генштаба. А возглавил Совет Обороны великий князь Николай Николаевич… Та–а–к. Что ещё интересного? В начале марта уволен с должности Лопухин.
– Это что за фрукт? – удивился Ковзик.
– Полицейский чин, что прохлопал события девятого января.
– Да пёс с ним, что про нас–то пишут? – заинтересовался подъесаул.
– Сейчас найду. Вот, – развернул газету Рубанов: «В бою под Мукденом были окружены несколько рот 55‑го пехотного Подольского полка. Командир полка полковник Васильев передал знамя ординарцам, чтоб вынесли его к своим. Роты прикрывали их отход. Погибли все. Васильева японцы подняли на штыки, но стяг не попал в руки врага».
– Молодцы подольцы, – похвалил полк Ковзик. – Мы вот тоже знамя пехотного полка вынесли, хоть бы кто написал об этом. Ну, что там ещё?
«При отступлении от Мукдена 1‑й Восточно—Сибирский стрелковый полк вышел из боя с японцами в составе 3‑х офицеров и 150 нижних чинов. Но сохранил знамя.
– А в Мокшанском полку сколько осталось? И никто не напишет… Обидно… Героически дрались, а в России о мокшанцах никто не узнает… И про Фигнера никто не вспомнит, – расстроился он.
– Бог узнает. У него там всё записано, – отложил газеты Глеб. – И мы всю жизнь будем помнить…
Наступила Пасха.
– Это ж надо? – возмущался Кусков. – Куриных яиц не достанешь, – оглядел аккуратные ряды палаток и коновязи в вётлах.
– Зато тепло, как у нас летом, – нашёл положительный штрих Рубанов, посмотрев в ультрамарин неба с белесыми облаками, и полюбовавшись потом ромашками в зелени травы: «Становлюсь лирическим, как старший брат. Я воин, а не поэт».
И тут запел соловей… На душе стало тепло и приятно…
– Господа! Христос Воскресе, – преподнёс друзьям по гранате капитана Лишина.
– Воистину Воскресе, – воскликнул Кусков, одарив товарищей фиолетовыми в крапинку перепелиными яичками. – У китайцев купил, – прояснил ситуацию. – Там ещё яйца куропатки были, но неприлично как–то… Сами понимаете… Командарм всё–таки.
– Чего же теперь, и куска сахара не съесть, коли генерал Сахаров штабом Маньчжурской армии руководил, – подбросил дарёное яичко Ковзик. – Ну а я вам дарю своё начальское – благодарю… В рифму получилось, – хохотнул подъесаул. – И по коробку спичек в придачу.
– День такой! На стихи тянет. А не могла бы ваша благодарность, Кирилл Фомич, выразиться как–то более весомо…
– Обоснуйте, уважаемый Глеб Максимович, – вновь подкинул яичко Ковзик и не поймал.
– Пока нет японских поползновений, не могли бы вы отпустить меня в лазарет, поздравить с Пасхальным днём одну особу, а вольнопёра в это время, обременить каким–нибудь делом…
– Это я могу, – искал в траве яичко Ковзик.
– Господин подъесаул, вы не находите, что приняли весьма неприличную позу во время разговора с людьми.
– Этой позой я выражаю своё отношение к студентам, – распрямился он, найдя, наконец, яичко. – Да идите, господин сотник, в свой лазарет, пока господин Кусков уставы учит.
– Какие на Пасху уставы? – взвыл вольнопёр.
– Избитая солдатская шутка, – успокоил его Ковзик, радуясь тишине, без стрельбы и взрывов, и наслаждаясь запахом травы, смешанного с дымом далёких костров полковых кухонь. И звон цикад, и пение соловья, и оживлённый говор казаков у колодца: «Что может быть приятнее мирного военного лагеря? Разве что – парад…».
Бредя по заросшей травой тропинке, Глеб прошёл обнесённую земляными стенами бедную китайскую деревушку, где на пыльной улице топтались местные жители в коротких штанах и широкополых соломенных шляпах.
Миновав зелёные посадки гаоляна и бобов, углубился в тополиную рощу, на поляне которой расположились палатки лазарета.
Мрачный трезвый санитар на вопрос о Натали тоскливо махнул рукой в сторону озера.
– Чего это с ним? – поинтересовался Глеб, наткнувшись у санитарных подвод на доктора.
– Спирт разлил! – обрадовано произнёс тот. – Пусть в праздник тверезым походит и узнает, что такое военный аскетизм.
Пробравшись сквозь низкорослый кустарник, у которого кончалась тропа, Глеб увидел озерцо в тени деревьев и у маленького, приятно журчащего родника, читающую Натали в сером холстяном платье с белым передником поверх него.
Платок лежал рядом на траве, открыв взору офицера прекрасную голову в обрамлении чёрных волос.
– Сестрица, Христос Воскресе! – преподнёс букет ромашек и три перепелиных крашеных яичка.
Лёгкий тёплый ветерок принёс откуда–то слабый запах горелой соломы и звук вальса «Ожидание» из далеко игравшего граммофона.
На другой берег прудика вышел китаец в синих коротких штанах и, зайдя по колено в воду, стал поить ушастого ослика, обмахиваясь конусной соломенной шляпой.
Глеба с Натали он не заметил.
Зачерпнув ладонью воду из родника и пригубив её, Натали легко поднялась, уронив с колен раскрытую книгу, и со словами: «Воистину Воскресе», – поцеловала офицера холодными и влажными от родниковой воды губами.
Но Глебу они показались горячими и сладкими.
– Всё–всё–всё, – коснувшись указательным пальцем его губ, уселась на примятую траву и подняла книгу.
А в душе у Рубанова звучала музыка… Даже не музыка, а какой–то трепетно–нежный мотив, то грустный, как прощальный журавлиный крик, то радостный, как песня жаворонка в синем небе. И почему–то виделась жёлтая роза на клавишах рояля…
И вновь полились звуки вальса. А рядом жёлтые глаза, смеющиеся губы, озерцо, родник и зелень травы с ромашками… «Боже, – подумал он, – вот так и начинается любовь…»
Китаец, напоив ослика, ушёл, и одни остались одни…
– Ну почему я учился играть на балалайке, а не на благородной гитаре, – воскликнул Глеб. – Сейчас бы исполнил песнь о любви.
– А что можно исполнить на балалайке? – подняла ладонь Натали, приглашая медленно летящую бабочку сесть на неё.
– Балалайка может разрушить пять пудов чеховской любви и привлечь вашего красноносого санитара. Кстати, он разлил спирт и, безмерно страдая, совершенно трезв, как и я, – отогнал пчелу, а заодно и красочную бабочку.
– Ну вот! – огорчилась Натали. – Вы испугали мою бабочку. Чтоб искупить вину, исполните что–нибудь балалаечное, – вздрогнула, услышав бодрый напев популярной маньчжурской песни:
Может завтра в эту пору
Нас на ружьях понесут,
И уж водки после боя
Нам понюхать не дадут…
– Как вашему санитару, – напрочь перечеркнул он лирический настрой.
– Вы не только бабочку, вы и меня напугали, – увидели во всю прыть несущуюся к ним Ильму.
– А что изволите читать, Наталья Константиновна? – потрепав псину, поинтересовался Глеб.
– Граф Сергей Рудольфович Игнатьев презентовал книгу рассказов Леонида Андреева, – повертела в руках томик. – К доктору недавно его друг приезжал, врач Вересаев, так они очень нелицеприятно отзывались о рассказе «Красный смех», – нашла нужную страницу.
– Никогда о таком авторе не слышал, – без интереса глянул на книгу Глеб, и для смеха продолжил: – Пушкина знаю, Лермонтова знаю, этого, как его, Гоголя, а Андреева не знаю… Это брат мой – знаток отечественной словесности, – не заметил, как дрогнула рука Натали, и она непроизвольно вздохнула. – Чем, интересно, эскулапам не понравился рассказ?
– Повежливее, господин казак, с господами врачами, – улыбнулась девушка, отбросив мысли об Акиме. – Как поведал потом доктор, его друг раскритиковал андреевский «шедевр», повествующий о дурацком смехе, присутствующем у воевавшего с японцами в Маньчжурской армии офицера.
– Эх–ма! И у меня иногда дурацкий смех пробивается, – опешил Глеб.
– У вас не такой. У вас от наивности души, а у героя рассказа от истрёпанных нервов, вызванных испугом от боёв.
– По Андрееву выходит, что и бабочка, которую я напугал, сейчас летает и ржёт…
– Ход мыслей достоин учёного–ботаника, но не совсем. Вересаев, видимо, хороший психолог. По его словам, упущена из виду самая странная и самая спасительная особенность человек – способность ко всему привыкать. Это произведение художника–неврастеника, больно и страстно переживающего войну через газетные корреспонденции о ней. Из газет–то он и узнал, что у нас тут очень жарко, в сравнении с Петербургом, и к тому же стреляют…