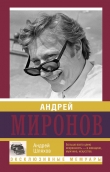Текст книги "Паровоз из Гонконга"
Автор книги: Валерий Алексеев
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 17 страниц)
– Да, еще! – оживился он. – К романее не привыкайте.
Тюрины молча смотрели.
– Как, не знаете еще? – изумленно спросил доктор Слава. – Медицинский спирт, протирочное средство, стоит гроши. Тюбик марганцовки для очистки совести в него засыпают, сперва краснеет, йотом белеет – и вся дрянь уходит на дно. Хлопьями, сами понимаете. Народные умельцы, хо-хо. Соком разбавил – и понеслось. Не знаете? Ну и славно.
Доктор поднялся.
– У меня пока все. Желаю доброго здоровья и делового поведения. А также многократных продлений контрактного срока.
8
Когда Тюрины вышли от доктора, уже стемнело. Стало холодновато, на главной улице засияли витрины, вспыхнули бегающие и мигающие огни реклам. Впрочем, приглядевшись, можно было заметить, что многие буквы рекламы не горят, другие заменены не по цвету. Однако, на щербатовский взгляд, вечернее оформление города было великолепным.
– Заграница! – с чувством воскликнула Людмила.
Шли параллельно главной улице по длинному переулку, замусоренному опавшими цветами и крупными фикусовыми листьями, в сопровождении летучих мышей, которые, выныривая из темных садов к лампионам, вершили свои ломаные полеты, то становясь ярко-белыми на свету, то пропадая во тьме.
– А неплохой дядька, этот доктор, добрый, веселый, – сказал Андрей единственно для того, чтобы проверить, помнят ли родители те загадочные слова о кверулянтной паранойе.
– Жулик он веселый, – ответила мама Люда и простодушием своим убедила мальчика в том, что ничего такого угрожающего доктор Слава не сказал. – Как это лекарств у него нет? Куда он их девает?
– Все у тебя жулики, – миролюбиво проворчал Андрей.
– А у тебя все хорошие, – возразила мама Люда, – кроме матери с отцом.
Но спорить никому не хотелось, и Людмила, помолчав, прижалась к локтю мужа и проговорила:
– Ой, Ванюшка! Хорошо, что ты нас сюда вывез.
И поскольку Иван Петрович расслабленно молчал, она повторила шепотом:
– Хорошо.
Однако инстинкт, наверно, подсказывал ей, что долго предаваться радости опасно, что именно в такие моменты блаженства и подстерегает человека настоящая беда, поэтому нужно все время держать ухо востро и при каждом удобном случае высчитывать варианты, откуда беда может прийти.
– Интриг тут, конечно, много, – задумчиво проговорила она. – Как бы нас с тобой не втянули… Плохо, если с самых первых дней окажешься игрушкой в чужих руках. Вот зачем нас послали к этим самым Аникановым? Свергнутое начальство, со Звягиным наверняка на ножах. Может, провокация, а, Ванюша? Как ты думаешь? Может, Звягин нас проверяет?
– Думаю, тягло это, повинность, – непонятно отозвался Иван Петрович. – Смысла нет ему нас пока провоцировать.
– Может быть, ты и прав, – сказала Людмила. – Но осторожность никогда не помешает.
Пансион «Диди», могучий, десятиэтажный, высился среди мелких особняков точно на указанном Матвеевым месте, в трех кварталах от офиса. Единственный подъезд со стеклянной дверью оформлен был, как титульный лист книги прошлого века, с рамочкой и виньетками по углам, даже с названием «Диди», начертанным прописными позолоченными буквами. Лифт в «Диди» не работал, кнопка вырвана с корнем, ручки двери замотаны медной проволокой. Впрочем, подниматься было невысоко, на второй, а точнее, с учетом цоколя, на третий этаж.
Дверь аникановской квартиры была гостеприимно открыта, на пороге стояла круглолицая белокурая женщина, одетая в длинное платье-балахон, ярко-лиловое, с желтыми бабочками на животе и груди, и тщательно, как-то по-немецки завитая. В одном щербатовском доме Андрей видел шикарную картину, которую с почтением называли трофейной, на ней фиалковыми красками была изображена точно такая же блондинка, с неотвязной нежностью глядящая на своего старообразного малыша. От этой, как и от той, исходило сияние. Мама Люда в своем голубом крепдешиновом платье, изрядно помявшемся и пропотевшем насквозь, с лоснящимся, взмыленным лицом на последних ступеньках замедлила шаг и стала торопливо обираться. Андрей, неравнодушный к красивым взрослым женщинам, стал зачем-то раскатывать рукава своей рубахи. Иван Петрович, если судить по выражению его лица, испытывал желание подтянуть галстук, но руки его были заняты дочкой, и он лишь подвигал подбородком и повертел головой.
– Здра-авствуйте, гости дорогие! – пропела блондинка. – Мы вас с балкона высмотрели. Видим, идут! С прибытием вас, проходите в наши апартаменты!
Аниканова была в меру фальшива и в меру возбуждена, только глаза у нее, большие, остановившиеся, с расширенными зрачками, неестественно блестели. У нее был странный круглый нос с круглыми ноздрями, очень глупый нос, в девичестве он многим, наверно, казался очаровательным.
Апартаментами щербатовцев уже нельзя было удивить, но приглашение, сделанное столь торжественно, обязывало к соответствующей реакции, и Людмила, остановившись в центре прихожей, прикинулась, что потрясена.
– Дворец! – замирающим голосом проговорила она. – Ну просто дворец!
Холл в этой квартире обставлен был деревянной дачной мебелью с плетеными сиденьями и спинками, на стенах висели резные зубастые маски, у одной за клык зацепился обрывок выцветшего новогоднего серпантина. Какою-то скорбью повеяло от этой блекло-розовой бумажной полоски…
Лицедейство мамы Люды, которое не обмануло бы даже корову, совершенно удовлетворило хозяйку: именно такой реакции Аниканова и ждала.
– Да, вот так! – с бездумной гордостью сказала она. – В Союзе такой квартиры у нас с вами нет и не будет.
Тут из внутренних комнат шало, как собачонка, мотая головой, выбежала кудлатая девочка Настиных лет, такая же круглолицая и беленькая, как мать, и принялась скакать вокруг гостей:
– А мне что принесли, а мне?
Мама Люда вручила ей коробку конфет, девчонка села на пол, тут же распотрошила коробку и набила рот шоколадом.
– Василий Семеныч! – крикнула в глубь квартиры хозяйка. – Убери свою наглую дочь!
– Иди ты в баню, – жуя, сказала малышка. Аниканова взглянула на гостей и звонко засмеялась.
– Ребенок, – сказала она, как будто это что-нибудь объясняло. – Иришка ее зовут. А меня зовите просто Валентина.
Из бокового коридорчика вышел долговязый и странно пузатый человек с лысой яйцевидной головой и длинным мокрым носом, он был в женском переднике с оборками и на ходу вытирал об этот передник руки.
– Я ж при исполнении, коша, – пробасил он. – У меня масло горит!
Тюрины церемонно представились.
– Это я ужинаю, – повернув к Насте перепачканное шоколадом лицо, деловито объяснила Иришка. – Сейчас сядут пьянствовать, а мы с тобой будем играть. Все люди – предатели.
Василий Семенович и Валентина дружно захохотали, как будто дочка сказала что-то необычайно остроумное. Тюрины-старшие им растерянно вторили.
– Ну, пойдемте за мной, – сказала, наконец, хозяйка. – Покажу вам квартиру, а то еще заблудитесь.
В чем Валентине нельзя было отказать, так это в словоохотливости.
Идя по коридорам и коридорчикам, из комнаты в комнату, она упоенно, безудержно хвасталась, даже не утруждая себя обернуться и поглядеть, слушают ее или нет.
– Три туалета у нас, две ванные комнаты. Спальных – две, у мужа отдельный кабинет, у меня – музыкальная комната с видом на море, пианино мы напрокат сразу, как приехали, взяли, многие на нас за это косились, но ведь я пианистка, мне руки надо в форме держать. Меня вся колония знает, я даже в посольстве давала концерт. А эта комната у нас называется «Буйная», видите – совсем пустая, как в сумасшедшем доме, хоть сдавай ее таким вот, как вы. Сюда мы Иришку запираем, когда она начинает безумствовать. Вон, все стенки изрисованы. Это она мне назло, не любит, когда мы устраиваем музыкальные вечера.
– Ну, теперь у нее будет подружка, – проговорила Людмила, несколько, впрочем, обескураженная открывшейся перед нею картиной. Однако Аниканова ее не слушала.
– Ох, мы такие концерты давали в офисе, и с кем на пару – не поверите! С Гришкой Звягиным. Да, с Гришкой Звягиным, вот здесь, за этим самым столом он сиживал, такой весь приветливый, как Пиночет. И я змею у нас в «Диди» пригрела на своей груди!.. Нет, он талантлив, даже одарен, у него память феноменальная, что говорить? Он целые куски из Достоевского наизусть мог читать. Не говоря уже о Чехове и Толстом. Гришка Звягин читает, а я ему аккомпанирую. В нужных, конечно, местах. Бал Наташи Ростовой, лермонтовский «Маскарад»… Советник от нашего дуэта прямо балдел. Один раз даже Надежда Федоровна присутствовала. В общем, была культурная жизнь! Все переменилось, увы! – с тех пор, как Гришка стал Злыднем. Я его теперь только так называю. У, это страшный человек! Как он возник, как он возник! Весь в черном дыму, словно джинн из бутылки, неузнаваем стал на другой же день. Свою подрывную работу он целый год проводил, он и с посольством, и с советником поладил, и даже Володичку Матвеева переманил. Володичка – вы не представляете, это такая нежная, робкая, чувствительная душа, а голос какой щемящий, лирический тенор, как у Пищаева, знаете? "В сиянье ночи лу-ун-ной я плачу и пою…" О, как он пел, как он пел! И что же? Куда все это девалось? Теперь он у Злыдня идеолог, отчетные доклады сочиняет. Чинуша, сухарь, едва здоровается… Нет, измена искусству даром не проходит… А это наша столовая. Ну как, ничего я вам стол собрала? Хай класс, по высшему разряду вас принимаем. За этим столом, между прочим, сам товарищ Букреев сидел.
– Спасибо вам, – растроганно сказала Людмила и моргнула Ивану Петровичу, чтобы он шел к хозяину на кухню, откуда раздавалось адское шипение масла и тянуло горелыми пирожками.
Скрестив на своей пышной желто-лиловой груди руки и милостиво улыбаясь, Аниканова отступила в сторону. Стол овальной формы, загромождавший почти всю комнату, был покрыт вместо скатерти простыней и поражал главным образом своими размерами, потому что сервирован он был более чем убого: разносортные чайные блюдца вместо тарелок, гнутые алюминиевые вилки, ножей всего три – один кухонный, другой перочинный, третий истинно столовый, даже мельхиоровый; взамен рюмок и бокалов тонкостенные и граненые стаканы, из одного совсем недавно были вынуты зубные щетки. Да и снедь оказалась скромна: большую часть ее составляли отечественные консервы. Украшением стола была миска с чем-то, напоминающим мясной гуляш. Город Щербатов при невысоком качестве жизни славился хлебосольством и пристрастием к хорошей посуде, ни одна щербатовская хозяйка не посадила бы гостей за такой стол.
Но Валентина, похоже, никакого убожества не замечала. Она с гордостью оглядывала праздничное великолепие и, едва дослушав слова изумления и благодарности, которые нашла в себе силы пролепетать мама Люда, сказала:
– Вот так. Живем по-людски. Даже мясо на столе держим. Хотела я студень затеять с солеными лимончиками, да лимончиков на базаре что-то не стало. Пойдемте, Людочка, я вам покажу свои припасы. И картошечка есть, и лучок, и бутылочки из дипшопа имеем. Жалко, муж не сумел себя отстоять. Вам, наверно, напели уже про нас, наплели… Люди такие изменники!
И, не слушая протестов мамы Люды, тетя Валя повела ее в кладовку.
Андрею было скучно ходить по этому безумному дому, и он вернулся в прихожую. Девочки и в самом деле играли, ползая по полу. Игрушек у Иришки никаких не имелось, точнее, ее игрушками были пробочки, жестяные баночки из-под напитков и разнообразные сигаретные коробки. Играла Иришка азартно и очень агрессивно.
– Ну что ты за идиотка такая? – кипятилась она. – Я же тебе русским языком говорю: «Данхилл» – твой, а «Ротманс» – мой. Ну, который «Интернэйшенел», синенький с золотом, ты что с ветки свалилась? Ох, и тундру присылают, прямо мочи нет!
Настя молчала: ей было неинтересно играть в коробочки и хотелось спать. Бесцельно переставляя Иришкины игрушки, она вопросительно поглядывала на брата: почему я должна все это терпеть? Почему ты не заберешь меня куда-нибудь?
Андрей и сам устал: при одной мысли о том, что еще сегодня на рассвете они были в Москве, затылок сводило судорогой. Он сидел в плетеном кресле, вытянув во всю длину ноги, и старался ни о чем не думать.
Взрослые в столовой гремели стульями, рассаживались, про детей никто не вспоминал: видимо, так было заведено в этом доме. Собственно, Андрей и не любил смотреть, как родители бражничают: хотя, надо отдать им должное, это случалось чрезвычайно редко, но все же случалось. Отец, подвыпив, становился зычноголосым и настойчиво требовал, чтобы его слушали, а мама Люда начинала кручиниться, и доходило до слез. Ужинать Андрею совсем не хотелось, а голос у Валентины Аникановой был такой пронзительный и звонкий, что в холле и так было слышно каждое ее слово.
– Горощук? О, это страшный человек! В Союзе, я слышала, в шесть кулаков его бьют: жена, тесть и теща. Ни дня без строчки. Пьют вместе, а как напьются – начинают бить Горощука. Ха-ха-ха! Тесть у него – генерал, он и командировку им сделал, и квартиру, и дачу… Нет, у меня в руках Игорек был послушным мальчиком. Я шлифовала его душу, его поэтический талант, но с тех пор как Злыдень прокрался к власти, вся моя работа пошла насмарку. О, это страшный человек, он, как анчар, все отравляет вокруг себя своим смертоносным дыханием…
"В школе пение преподает", – вяло подумал Андрей.
– Ростислав Ильич? О, это страшный человек! Я его зову «Ростик-Детский», ха-ха-ха! Строит из себя независимого, а почему? Потому что его Катенька была у Букреева переводчица, переводила рога на копыта, об этом вся колония знает. Как говорится, жена спит – у мужа служба идет.
– Что-то ты, коша, разыгралась, – добродушно остановил жену Василий Семенович. – Хватит с нас твоих бабьих сплетен, надо о делах потолковать. Я, бывало, усажу новоприбывшего вот сюда, за этот стол, и гляжу ему в глаза, ни о чем не спрашивая, в душу ему заглянуть пытаюсь, что за человек, каким идеалом живет. Я человеку замыкаться на себе не давал. Как не вижу кого три дня – прямо сердце не на месте: чувствую, что там зреет проступок, набухает гнойник. Вызываю к себе человека – и часа полтора с ним беседую. Многих этим от высылки спас. Был один любитель лифтоф, в смысле – передвижения на попутных. Мы, значит, на собрание по жаре – ножками, а он подъезжает на «мерседесе» с кондиционером! И кто там, в этом «мерседесе», за рулем – одному богу известно. Ну, я с ним четыре часа беседовал. После в ноги мне падал. "Душу ты мне спас, Василий Семенович, не анкету, а душу!"
Видимо, хмель уже взял свое, потому что беседа в столовой расплелась надвое. Мужчины толковали о своем, а Валентина настойчиво внушала маме Люде, что она довольна жизнью.
– Да брось ты мне это все! – забыв о своей музыкальности, кричала она. – Отлично я живу! С Нового года, как мы в отставку ушли. Сижу себе дома, музицирую для себя. И с ужасом – да, с ужасом, не спорь ты со мной! – с ужасом вспоминаю то время, когда мы руководили группой. Что ни день – то хрипоты. Нет, конечно, я не ханжа, отрицать не стану, что были и преимущества. На представительском складе бери, что душа пожелает. Тушенку, сайру, московские сигареты, даже крупу гречневую – о чем разговор?
Мама Люда заговорила, но Аниканова ее оборвала.
– Образование! – вскричала она запальчиво. – Ну кого интересует твой диплом? Это же аппарат, пойми! Ап-па-рат! Там все построено на человеческом доверии!
Тут тете Вале пришлось замолчать, потому что мужчины заспорили: отец уже перебрал.
– Не верю и никогда не поверю! – шумел он, стуча по столу кулаком. Что ты мне, как доктор Слава, какие-то сказки рассказываешь? "За это высылают, за то могут выслать…" Глупости! Меня работать сюда направили, по работе и будут судить! Деньги какие на одну дорогу затрачены! Кто это вам позволит высылать меня по своей прихоти да за государственный счет?
– Ну, ну, – гудел Аниканов, – не горячись, тебя пока никто не высылает. Не за что еще, погоди.
– О чем шумите? – спросила его Валентина.
– Да вот, – сказал Василий Семенович, – сомневается Ваня, что советник может любого из нас в двадцать четыре часа…
– Ой, что вы… – понизив голос, страшным шепотом произнесла Аниканова. – Ой, что вы, сколько раз уже было! Семейные ссоры, ненужные встречи… да мало ли что!
Слушать эту пьяную чушь было невыносимо, и, чтобы отвлечься, Андрей предложил девочкам почитать вслух какую-нибудь книжку. Иришка с готовностью притащила три книжки-раскладушки: «Теремок», «Колобок» и "Курочку Рябу".
– И это все? – удивился Андрей.
Ничего не ответив, Иришка убежала и вернулась с целым ворохом растрепанных каталогов. Но там были одни лишь фотографии женщин, которые, широко расставив ноги и целомудренно улыбаясь, демонстрировали всяческую одежду, от лифчиков до манто. Сердце у Андрея встрепенулось, когда он увидел двух манекенщиц, немолодую и юную, в желтом с ирисами. Все странички, и эта в том числе, были зверски исчирканы, особенно досталось тем частям тел, которые располагаются ниже талии.
– Это у них понос, – объяснила Иришка.
А из столовой донеслись бравурные аккорды фортепьяно, и гости переместились в музыкальный отсек.
– "В бананово-лимонном Сингапуре, где на базаре нету ни черта, – пела Валентина своим резким, оглушительным голосом, – и где не купишь ты для хачапури собачьего хвоста…"
Дальше шла какая-то самодельная несуразица, и после непродолжительного совещания хор взрослых подхватил припев:
– "Да-да! Да-да-да! Мы не зря приехали сюда, сюда!"
Пение продолжалось целую вечность… Наконец взрослые утомились и вышли в прихожую, Андрей с облегчением подумал, что все позади, но не тут-то было: Валентина вынесла и разложила на спинках кресел разноцветные балахоны, расписанные мотыльками, попугаями и цветами. Начались охи, ахи, восторги.
– Ой, Валюшечка, миленькая! – умиляясь и кручинясь, по-разному складывая ручки – то прижимая их к груди, то ломая пальцы, говорила мама Люда, и конца этому театру не было видно. – Ты мне покажешь, где они продаются? Валечка, золотко, покажешь? Ой, хочу! Ой, хочу!
Разумеется, это была одна комедия, поскольку даже представить себе было трудно, на что эти гигантские балахоны могут понадобиться малорослой маме Люде.
– О, коль желание быть приятной действует над чувствами жен! – звучно произнес Иван Петрович, и хозяева с недоумением на него посмотрели: это, конечно же, был князь Михаила Михайлович, но слишком многое нужно было тут объяснять.
Наконец распрощались. Иришка, запертая в "буйной комнате", рыдала и сквернословила, Анастасия мирно, как в люльке, спала у отца на руках. Тетя Валя что-то громко кричала им сверху, с балкона, но нельзя было ничего разобрать: поулыбались в ответ, помахали руками – и побрели под синеперыми деревьями, опасливо ступая на опавшей листве. Мама Люда споткнулась на тротуарной выбоине, пришлось Андрею взять ее под руку. От мамы Люды пахло распутством, она шаловливо, как девочка, взглянула снизу вверх на высокорослого сына и прижала локтем его руку к своему мяконькому бочку.
– Ну-ну, без маразма, – сказал Андрей. – И если вы и дальше собираетесь так жить, то отправляйте нас с Настасьей к тете Наташе. Это не жизнь, а скотство, доложу я вам.
– Сынулечка, никогда! – залепетала мама. – Мы больше не будем!
– Мы только приехали, – виновато проговорил отец. – Надо ж было с кем-то подружиться.
Андрей не стал возражать.
– Ладно, давайте ключ, – буркнул он. – И чтоб ни звука, когда войдете в прихожую! Ясно?
В квартиру вошли на цыпочках. Хозяин затаился где-то в глубинах своих многочисленных комнат, свет был всюду погашен, но чувствовалось, что Матвеев не спит. Андрей представил себе, как он лежит на кровати с открытыми глазами и, блестя приплюснутым носом и выпуклым лбом, беззвучно поет: "В сиянье ночи лу-унной…"
9
Утром Андрей проснулся от чужеземной переклички автомобильных гудков и не сразу сообразил, где находится. Сквозь густую металлическую сетку окошка вязко и желто протекала теплынь. Он лежал поверх скомканных простыней непокрытый, было жарко, как летом в деревне, только мух не хватало. На соседней кровати, тоже в одних трусах, по-домашнему уютно сидела Анастасия, она перебирала свои детские книжки.
Несколько смутившись, Андрей прикрыл глаза и попытался вспомнить, не снилась ли ему сегодня ночью красная палатка, это был тяжкий, постыдный сон, который вот уже много месяцев его донимал. Но ничего как будто не снилось: сплошная черная яма, косматый разрыв между вчера и сегодня. Видимо, вчера он был измочален, а на такие сновидения требуются физические силы.
Красную палатку Андрей видел наяву прошлым летом, и не сказать, чтоб воспоминание о ней было мучительным, скорее наоборот, но вот сновидения на этой основе возникали безрадостные и неуправляемые. Очень противно было то, что он видел палатку не один. Даже так: долговязый приятель его, которого все звали в городе «Керя», подмигивая и мелко смеясь, поманил Андрея пальцем: "Гля, че делают! Во автотуристы че вытворяют! Москва…" Сам Андрей, если б увидел первый, ни за что бы не позвал. Этот самый Керя не давал проходу ни одной девке от тринадцати до тридцати, все-то ему нужно было схватить, сграбастать, притиснуть, и они этому не слишком противились. Керя так и звал с собой: "Айда девок ловить". У него было узкое лошадиное лицо с впалыми щеками и длинной челкой, косо падавшей на дикий, словно бы бельмастый глаз, товарищ он был незаменимый, потому что ему вкусно было жить, и он хотел, чтобы все вокруг тоже всхрапывали от удовольствия…
Дело было ранним утром, на лугу у Ченцов, куда они с Керей пришли проверять поставушки. Поставушками в пригородах Щербатова называли нехитрую снасть: бечевка или прочная леска, привязанная к ракитовому кусту, на конце – большой крючок, лучше тройник, а на этот крючок нацеплен за губу лягушонок. Забрасывается поставушка (лягушат обыкновенно ловят у самой реки, по дороге), а уж на рассвете надо успеть ее вытащить, потому что, сколько ни маскируй, если попадется голавль он так пригнет куст, так его будет трепать, что слепой, и тот не пройдет мимо. Ченцовские чужих поставушек не трогали, как будто заклятье на них было (или не позволяла рыбацкая честь), а вот свой брат, щербатовский, прибывший на автобусе, мог и пользоваться, снять чужую добычу с чужого крючка, да и сам крючок унести, и ничего не докажешь.
Откажись он идти вслед за Керей и заглядывать в эту чужую красную пещеру, жил бы просто, как жил. А теперь смотрел на встречных молодых женщин и не мог себя заставить не думать: "И эта так же, и эта будет так, а эта – уже… может, даже вчера". Приходилось прятать глаза: они каким-то образом чувствовали и глядели в ответ вызывающе или лукаво. Не конфузилась ни одна, а краснел и стеснялся именно он, ни в чем не повинный…
Между тем Настасья, даже не глядя в его сторону, почувствовала, что Батя проснулся, и, как бы продолжая прерванный разговор, сказала:
– А у меня зато книжек полный портфель и с игрушками большая сумка. А мы больше к ним не пойдем, правда, Батя?
Видно, безумная Иришка произвела на нее неизгладимое впечатление.
– Конечно, не пойдем, – отозвался Андрей.
Он вскочил, подбежал к балконной двери и настежь ее распахнул.
– Ух ты! – завистливо произнес он.
Для декорации, сколоченной наспех, к прибытию Эндрю Флейма город был выстроен уж слишком добротно. Небоскребы тесно громоздились вокруг, вознося в ярко-синее небо свои пестро раскрашенные балконы, галереи, террасы и лоджии. Прозрачно-зеленые зонтики акаций, усыпанные крупными сиренево-голубыми цветами, пошевеливались от жаркого ветра у самых его ног.
За спиной его гулко хлопнула дверь, он обернулся. Из ванной вышла мама Люда, она была в красном купальнике.
– Жарко, Андрюшенька! – как бы оправдываясь, сказала она. – Воду кипячу для питья.
– А где отец?
– Полчаса как на службу уехал. Все хорошо, сыночек. Только вот… на базар бы сходить, а я, безъязычная, боюсь. На тебя вся надежда. Мальчик насупился от важности.
– Какой разговор?
Он себе нравился сегодня с утра: бодрый, веселый, уверенный, лишних вопросов не задает, только по делу, истинный Эндрю Флейм в голубых отечественных джинсах с бордовой прострочкой… Только бы отучиться краснеть.
Матвеев, босой и полуголый, в коротких штанах с бахромой, стоял на кухне возле мраморного разделочного столика и ел из кастрюли холодную гречневую кашу, запивая ее кока-колой. Лицо у него было умиротворенное и даже симпатичное. Черт его знает, подумал Андрей, может, и в самом деле чуткий человек.
– А, квартиранты! – проговорил Матвеев жуя. – Молодцы, вчера тихо вернулись. На вылазку? В добрый час.
– Вы не подскажете, как на рынок пройти? – спросила Людмила.
– Подскажу, отчего же. Вон, видите в конце проспекта ржавый купол? Это и есть рынок. Только не купите вы там ничего: поздно встали…
Вдруг Матвеев насторожился, потянул носом воздух.
– Балкон открывали? А кто разрешил? – гневно спросил он. – Тараканов напустить захотели? Выселю к чертовой матери!
И, круто повернувшись, ушел к себе.
…Здание рынка оказалось похожим на подвергшийся бомбардировке вокзал: внушительный, с колоннами вестибюль, за ним – металлический остов высокого купола крыши. Крыша эта некогда была, конечно, застеклена, а теперь стекла побились, ячейки кое-где были забраны фанерой и целлофаном, провисшим от застоялой дождевой воды. Под этой символической защитой от солнца и дождя стояли ряды облицованных мрамором прилавков с выдолбленными в них лоточками и желобками: для мелочи, догадался Андрей, и для стока крови и сока. Но стекать было нечему, прилавки были пусты и сухи, сонмы синих мух реяли над головой совершенно бесцельно, да еще тараканы с фырчанием перепархивали с одного стола на другой. Кое-где среди голого мрамора сидели унылые торговки в цветастых цыганочьих платьях. Какие-то корзины под ногами у них стояли, но, перехватив любопытствующий взгляд покупателя, торговки начинали озабоченно расправлять свои широкие подолы, прикрывая ими товар. На прилавках для видимости лежали жухлые капустные листья и пучки свекольной ботвы.
Мама Люда была расстроена:
– Одно видильё, – пробормотала она, озираясь, – одно видильё!
Несколько оживленнее было в рыбных рядах, точнее – в тех, от которых пахло рыбой. Там на мраморных столах лежали горы ракушек, по виду наших речных, издыхающих, с высунутой требухой, и других, плотно замкнутых, очень мелких и, должно быть, несокрушимо твердых, торговки заботливо поливали их водой. Возле одного прилавка даже собралась небольшая очередь местных: там ровным слоем рассыпаны были мокрые полые сучки, внутри них шевелились толстые светлые гусеницы, точно как наши ручейники. Андрей не удержался от искушения, показал их сестренке, Настя заволновалась:
– Ой, что это? Батя, зачем их торгуют?
– Чтобы кушать, – безжалостно объяснил Андрей.
– А как их кушают?
– Очень просто. Высасывают, как из косточек мозг.
– Живых? – с ужасом прошептала Настя и захлопнула ладошками рот.
– Будешь ты мне девку дразнить? – рассердилась мама Люда хотела стукнуть Андрея по загорбку, но удержалась, потому что вспомнила, где находится и зачем пришла.
Она присмотрела торговку поприветливее, искательно улыбнулась ей, та замахала руками: нет, мол, нет у меня ничего, проходите мимо. Однако маму Люду это не смутило.
– Ну, Андрюша, будут у нас сейчас витаминчики. Смотри, как дела за границей делаются.
Она взяла Настасью за плечо, выдвинула ее вперед и сказала торговке:
– Вот ребенок маленький, фруктов хочет, фрукты ему нужны. То есть ей, девочка она, Анастасия зовут.
– Мама, – покраснев, гневно сказал Андрей, – ты соображаешь? Она ни слова не понимает!
– Понимает, молчи, – бросила ему через плечо мама Люда. – А это старший мой, такой грубиян, не слушается ничего, дерзит бесконечно. Но тоже фрукты любит. Может, есть у вас для нас что-нибудь? Поищите, пожалуйста.
Торговка выслушала очень внимательно и серьезно, потом выставила вперед розовую ладонь и, проговорив "Уэйт э литл", полезла под прилавок.
– Она говорит: "Подождите немного", – прервал Андрей.
– А то я без тебя не знаю, – ответила мама Люда.
Торговка поднялась и молча протянула ей пучок белой редиски.
– Шейс-дейс, – сказала она, и мама Люда поняла с такой легкостью, как будто всю жизнь разговаривала на ломаном русском.
– Шестьдесят копеек? – переспросила она. – Смотри-ка, недорого. И витаминчики.
Торговка вновь нырнула под прилавок и вытащила связку красноватой кустистой травы.
– Щавель надо? – спросила она. – Щавель, кисло, мадам! Харчо, мадам, харчо!
Людмила с недоверием отщипнула листок, пожевала, сплюнула.
– И правда, хорошо. Вот вам и суп, и салат.
Расплатившись, мама Люда устремилась в дальние ряды, занавешенные соломенными циновками. Боже мой, чего тут только не было: коврики, корзиночки, коробочки, кепочки, даже кресла и журнальные столики, все искусно сплетенное из соломки и тростника. Глаза у мамы Люды разгорелись.
– Нет, нет, не сейчас, – бормотала она, жадно ощупывая плетености и как будто уговаривая себя, – перед отпуском накупим. Будут сувениры, всему Щербатову хватит!
Однако возбуждение это быстро прошло: соломой ведь сыт не будешь…
Вышли на улицу и побрели восвояси. Солнце палило, как безумное, все вокруг стало душным, пыльным, вонючим. Плиты тротуара дыбились под ногами, грязная бахрома полотняных навесов неприятно задевала по лицу, из тусклых витрин так и лезли в глаза некрасивые и ненужные вещи: покоробившиеся парусиновые чемоданы, шерстяные шапки с наушниками, пластмассовые сандалеты с блестками, канцелярские дыроколы циклопических размеров, деревянные вазы и бумажные цветы – очень похожие на те, что росли вокруг офиса.
– Хлебушка бы купить, – сказала на ходу мама Люда. – Где у них тут хлебные магазины?
Забрели в проходной дворик между небоскребами, мощенный мрамором, тенистый, даже прохладный. Посередине должен был журчать фонтан, в овальном бассейне стояла зеленая вода, в уютных нишах расположены были маленькие магазинчики. Продавцы в синих безрукавках, все как один смуглолицые и черноусые, с любопытством смотрели на своих потенциальных клиентов, не проявляя ни малейшего желания предложить им свой товар. Да и предлагать было нечего: полки в нишах уставлены были литровыми бутылками с сиропом таких сумасшедше-ядовитых цветов, что при одном только взгляде на них пробирала икота. Одна из лавчонок называлась «Жаклин», так развешены были женские пояса на шнуровке, которые мама Люда брезгливо назвала «грациями». Пояса эти сшиты были как будто бы из брезента, трудно было представить себе, как можно их надевать на нежное женское тело – тем более при такой жаре. Охотников покупать эту сбрую не находилось. Между тем торговца это, по всей видимости, не волновало: сидя в глубине ниши, он вел неторопливый разговор с таким же жгучим брюнетом в синей безрукавке, продававшим в соседней лавке очки, и со спокойным ожиданием поглядывал поверх прилавка на остановившихся поблизости Тюриных. По всему видно было, что душевный его покой и достаток не имеют ничего общего с заскорузлыми «грациями» и что если мама Люда попросит его показать хоть одну, он, пожалуй, оскорбится или расценит это как дикое извращение.