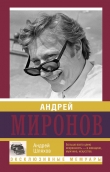Текст книги "Паровоз из Гонконга"
Автор книги: Валерий Алексеев
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 17 страниц)
– Ну, как устроились? – спросил советник и, не дожидаясь ответа, сказал: – Если у вас ко мне какие-то вопросы, то на улице караулить меня не нужно. Запишитесь у дежурной – и в течение десяти дней я постараюсь вас принять.
– Нет, нет, спасибо вам огромное! – залепетала Людмила, как бы пунктиром обозначая, что она – женщина, и пользуясь особым голоском, который Андрей называл «заплаканным». – Мы только мужа проводили. Он на собрание пришел, а мы уже уходим. К врачу хотим забежать, у девочки что-то с животиком.
Букреев внимательно ее дослушал.
– И ты тоже Тюрина? – обратился он к Настасье с непередаваемой интонацией руководителя, беседующего с народом, как бы заранее досадуя на неуместный ответ.
– Тоже Тюрина, – задрав головенку, серьезно ответила Настя., – А вы Букреев?
– Да, я Букреев, – сказал ей Виктор Маркович. – Чем могу быть полезен?
– Ничем, – ответила Настасья. – Вы нас не вышлете?
– Смотря как будешь себя вести.
И, сказав это, Букреев круто повернулся на каблуках и пошел к машине. Его мадам, глядя в сторону, всем своим видом подчеркивала, что устала от этих демократических причуд.
– Какой человек! – восхищенно проговорила Людмила, когда машина отъехала. – Подошел, поздоровался за руку, поговорил… Нет, Ванюшка: при таком руководстве ты должен требовать как минимум справедливости. Ну ладно, ступай, тебе пора, а мы пошли к доктору Славе.
Андрей заколебался: сказать, что он хочет остаться и послушать? Да нет, конечно же, нет, мама Люда придет в ужас, а отца его присутствие будет стеснять, и лучше, если он вообще ничего не узнает. Значит, что? Значит, нужно увести женщин подальше от калитки, а после – по обстоятельствам.
Обстоятельства, как оказалось, благоприятствовали его планам. Едва расстались с отцом и завернули за угол, как услышали звенящий оклик:
– Тюрины! Стойте, Тюрины!
И они, оглянувшись, увидели Аниканову Валю. В коротком халатике, обтягивающем ее туго, как репку, Валя широкими энергичными шагами догоняла Тюриных, волоча за собою прогулочную детскую коляску.
– Мама, там Иришка, я не хочу! – захныкала Настя.
Но она ошибалась: в коляске лежала хозяйственная сумка, набитая пакетами гречки, риса и муки. В наряде домохозяйки Валентина выглядела куда проще и доступнее, чем в балахоне первой леди, и даже речь ее приобрела простонародные черты.
– Вот – отоварилась на складе, – запыхавшись, сказала Валя, – кому нельзя, а мне – пожалуйста! Что значит сила искусства! А вы куда держите путь? Не ко мне ли, случайно? А меня дома нет. Ха-ха-ха! Шутка, конечно.
Андрею было стыдно смотреть на нее: застиранный блеклый халатик ее был так тесен, что расходился между пуговицами, как наволочка на пуховой подушке, в самых потаенных местах, а на боку чуть выше талии вообще был порван и широко открывал чисто-белое, совсем не загорелое тело.
– К врачу? А зачем вам к врачу? – Аниканова так возмутилась, как будто намерение Людмилы было оскорбительным лично для нее. – Лекцию о погоде он вам прочитал? Про сертификаты в плавках рассказывал? Чего вам еще от него понадобилось?
– Да вот… животик у девочки, крутит и крутит. Лицо у Аникановой стало светски-любезным.
– После ресторана "Эльдорадо"? – осведомилась она.
– Что ты, что ты! – с притворным ужасом замахала на нее руками Людмила. – Там зараза одна. Открепились и справочку взяли, сами готовим.
Валентина на секунду огорчилась, но тут же, видимо, сама позабыла, о чем спрашивала.
– Так вот, слушай меня с предельным вниманием, – зловещим голосом, наклоняясь к маме Люде, заговорила она. – Во-первых, про животик никому лучше не заикайся. Хочешь, чтобы вместе с дочкой выслали? Или чтоб в Центральный госпиталь ребенка твоего законопатили – без права посещения?
– Ну, уж так сразу и в госпиталь, – пробормотала мама Люда, испугавшись, а Настя вцепилась в своего «Батю». – А если я хочу посоветоваться?
– Нет, это просто непостижимо уму! – вся вибрируя от странного восторга, звонко выкрикнула Валя. – Посоветоваться! Да у доктора Славы один разговор: не в госпиталь – так на родину поезжай. Доктор Слава, если хочешь знать, никогда живых больных не видел…
– Это как? – не поняла мама Люда.
– А вот как! – Валентина снова захохотала. – В морге он работал. Да шучу, шучу. Административный работник, всю свою жизнь бумажки перебирал, а как сюда попал – я думаю, не нужно тебе объяснять…
Андрей напрягся – но поплавочек стоял неподвижно, как будто вплавленный в зеленое стекло. "Не нужно тебе объяснять… Не нужно тебе объяснять… Уж тебе-то, конечно, этого объяснять не нужно, уж ты-то знаешь, как такие становятся достойными …" Может, прошло? – с надеждой спросил он себя. Отпустило? Привык? Нет, душа, как и прежде, болела, в волдыри изожженная стыдом. Просто сейчас этот стыд перекрыт был другим, более простым и сладким: Валентина теснила его, обступала его со всех сторон, хотелось куда-нибудь от нее деться, пропасть, провалиться сквозь землю…
– Здесь, моя милая, не принято доктора Славу своими болячками беспокоить… – Голос Валентины был мучительно звонок, надавить бы какую-нибудь кнопку, чтоб его отключить. – Все со справками сюда приезжают, все практически здоровы. Это просто ваше счастье, что вы меня встретили. Прямо в паутину к нему летели, а он именно вас и сидит дожидается. Это же страшный человек!
– Погоди, – остановила ее Людмила. – Почему именно нас дожидается?
– О, господи! – Аниканова театрально возвела очи горе и выдержала паузу. – Да потому, что проторчал он здесь пять лет, и сейчас вопрос о шестом годе решается. Представляешь? О шестом! Очень строгий он стал, чтобы рвение и бдительность показать. Теперь срубила? У него и так за шкурой много блох. Жена консула к нему чадо свое привела, так он представляешь, жена консула, не какого-нибудь Сидора Кузьмича! – он посев кала на стеклышко сделал, вместо посева крови, ты меня поняла? И послал это стеклышко в лабораторию Центрального госпиталя. Там врачи из Швеции кишки себе надорвали. Это ж ляп, это ж надо как-то загладить: кого-нибудь излечить – или вас, чудаков, на родину отправить. А ты кресло у него видела? Из Парижа выписал, на казенные деньги, вот он у нас какой, доктор Слава. Собирался платное обслуживание наших женщин налаживать. Ну, тут пригрозили ему, затих… Что ты так гримасничаешь? Что моргаешь?
Аниканова с жадным, звенящим и сверкающим любопытством заглянула ей в лицо, потом повернулась к Андрею.
– А, сын… Да не понимает он ничего! Молочный совсем.
Тут глаза ее заблестели каким-то странным стеклянным блеском, и она, сделав попытку стянуть на груди расползающийся халатик, вдруг без всякой связи с разговором сказала:
– Растолстела я что-то последнее время. Все консервы и крупы проклятые…
– Ладно, я пойду, – буркнул Андрей, поспешно отворачиваясь, чтобы Валентина не успела увидеть его ошпаренное стыдом лицо.
– Никуда ты не пойдешь, – властно сказала Валентина. – Ты нам нужен.
И, считая, должно быть, что Андрей должен теперь стоять как вкопанный, она вновь обратилась к маме Люде.
– Пошли ко мне. У меня, как в Швеции, все лекарства есть. В долг могу дать – или оплатишь в зарплату чеками. Мужчины на собрании, Андрей с наглыми нашими девками посидит, а мы с тобой помузицируем, Горького почитаем.
– Горького? – переспросила Людмила, и Аниканова рассмеялась. Зубы у нее были ослепительные, белые, как сахар, и она об этом знала. Но оснований командовать чужими сыновьями это ей не давало.
– Мама, я пойду, – упрямо повторил Андрей.
И, к его удивлению, мама Люда его поддержала.
– Сходи, сыночек, к папе, сходи, – сказала она. – Предупреди, чтобы знал, где нас искать. А хочешь – подожди его там, в беседочке, газетки посмотри, вместе и придете.
– Ну, вот еще, газетки… – недовольно проговорила Валентина. – Делаешь из парня пенсионера…
"Но не няньку", – подумал Андрей и, не сказав больше ни слова, пошел назад, к офису.
На углу он обернулся: желто-голубая Настасья обреченно плелась между двумя женщинами, и по спине ее видно было, что она не ждет ничего хорошего от судьбы.
14
Калитка офиса оказалась приотворенной: видимо, кто-то из группы Звягина не захлопнул ее за собой, а дежурной было лень подниматься, и она сидела, глядя в свое окошечко, и ждала, когда кто-нибудь появится. Лицо у нее при этом было приветливо-строгое, как у дикторши первой программы Центрального телевидения. Появился, однако, не тот, кому положено, и, когда Андрей ступил на коврово-гравийную дорожку, дежурная выбежала ему навстречу – с покосившейся высокой прической и искаженным от гнева готическим лицом. Административные женщины предпочитают высокие, пышно взбитые прически, это Андрей уже успел заметить, хотя объяснения этому феномену не искал. Зная, впрочем, что разумное объяснение непременно имеется.
– Куд-да? – зашипела дежурная, растопырив руки, и даже присела, как будто Андрей собирался прошмыгнуть у нее между ног. – Куда идешь, тебя спрашивают?
Была она, по рассказам Валентины Аникановой, женой представителя «Сельхозтехники», фигуры в аппарате советника очень влиятельной, и ходила в подругах самой Надежды Федоровны, ей давно уже перевалило за сорок, однако звать ее полагалось исключительно "Ляля".
– Газеты иду просматривать для политчаса, – ответил Андрей, зная, что слова «конференция», «семинар» и вообще все, что начинается с «полит-», действует на взрослых парализующе.
И точно: лицо Ляли привычно соскучилось, словно ее охватила унылая дремота, и она отступила, давая Андрею дорогу к беседке. Но, когда мальчик проходил мимо нее, она машинально взглянула на застиранный ворот его белой тенниски – и содрогнулась от злобы. Как-то в Щербатове, возле временного моста, Андрей проходил мимо сложенных в штабель металлических труб, была весенняя теплынь, и все равно его удивило, что из прогретых солнцем труб на него пахнуло жаром. Точно такой же тепловой импульс был и здесь.
– Усмехается еще, дрянь такая, – проговорила Ляля.
Андрей вовсе не усмехался. Он как раз думал: что такое у нее в голове? Почему она его так ненавидит? Сторожевой инстинкт… Нет. Классовая ненависть хорошо одетого человека… Опять-таки нет: мы тоже не лыком шиты. "Она чувствует во мне переходящее Я – и боится. И правильно боится. Я ее передумаю".
– Я не дрянь, – сказал Андрей, остановившись и глядя ей в лицо. – Я не дрянь, я советский человек, ясно? Такой же человек, как и вы.
Жаркий день разгорался. Ни ветринки, ни облачка, самый воздух, казалось, разъедал глаза чем-то резким, словно с неба, на которое было больно взглянуть, беспрерывно сыпался сухой золотой порошок. В этом движущемся знойном свете неподвижно и отдельно застыл каждый жесткий лист, каждый папиросно-бумажный цветок, каждый высохший прутик.
Миновав алебардно-кинжальные клумбы, Андрей вошел в павильон, на ходу доставая из кармана штанов перочинный ножик. Ступил на скрипучий дощатый пол, с удовольствием окунувшись в пахнущую стружкой деревенскую осень, подошел к дальней стенке с ячейками, аккуратно соскоблил с перегородки фамилию «Сивцов» и написал огрызком карандаша "Тюрин".
Выполнив таким образом сыновний долг, он обстоятельно расположился за столом с подшивками (в библиотеках и читалках он чувствовал себя как дома) и с удовольствием отметил, что деревянную решетку еще не успела оплести буйная зелень: отсюда отлично видна киноплощадка, залитая бешеным солнцем, на свежевыбеленный бетонный киноэкран было невозможно глядеть.
Группа Звягина расположилась в центре киноплощадки, на самом солнцепеке. В проходе между рядами сиреневых скамеек, сейчас казавшихся почти белыми, поставлен был небольшой столик на алюминиевых ножках, накрытый зеленой скатертью. За этим столиком спиной к экрану и лицом к решетчатому павильону сидели Звягин и Матвеев, оба в пиджаках и галстуках. Звягин истекал потом и поминутно промокал лицо и шею потемневшим от сырости платком. А вот Матвеев рожден был для президиумов: приплюснутый нос его, синеватые губы, прижмуренные глаза под выпуклым лбом – все излучало прохладное довольство.
Совсем близко, в пяти шагах от решетки павильона (нет, в пятнадцати, решетка сама производила какой-то оптический эффект), среди чужих затылков и спин Андрей видел сутулый загорбок и плохо подстриженный затылок отца. На памяти Андрея Иван Петрович ни разу не ходил в парикмахерскую, тенистый чуб его подстригала мама Люда. По правую руку от отца сидел розовокудрый Ростислав Ильич, по левую – Василий Семеныч, длинноголовый и остроухий, сияющий своей косоплешью, заботливо прикрытою тремя длинными прядями золотистых волос. Еще Андрей отыскал Игоря Горощука, остальные члены группы были ему незнакомы.
Андрей впервые видел отца в академической среде. Он испытывал естественную для всякого мальчишки потребность своими глазами взглянуть на отца в деловой обстановке и убедиться, что это действительно другой человек. Покамест кудрявый затылок отца и его серьезно оттопыренные уши среди других затылков и ушей выглядели вполне благопристойно и даже солидно: никто не хихикал над отцом, не тыкал в него пальцем, значит он принят как свой.
Между тем Звягин, по лбу которого и по щекам широкими потоками лилась влага, что-то говорил, сурово глядя на решетку павильона. Решетка приближала изображение, но не звук, и слова едва долетали до Андрея, однако темно-красные червячные губы Звягина шевелились очень энергично. Впечатление было такое, что он обращается к самому Андрею. Сидя против солнца, Звягин вряд ли что-нибудь мог разглядеть внутри павильона, но на всякий случай мальчик отодвинулся поглубже в тень.
– На сегодняшней повестке, – сердясь на жару и потливость, говорил Звягин, – на сегодняшней повестке у нас три вопроса: представление нового члена нашей группы, утверждение характеристики отъезжающего и отчет о работе группы за истекший период. Собрание важное для каждого из нас, в значительной степени этапное. От того, насколько единодушно и энергично мы его проведем, будет зависеть наше дальнейшее продвижение вперед. Хочу сообщить вам приятную новость: на нашем сегодняшнем собрании обещал присутствовать лично Букреев Виктор Маркович…
Аплодисменты.
– …что свидетельствует об авторитете нашей группы и о том исключительном внимании, которое уделяет нам аппарат… Что такое, в чем дело?
Раздраженный вопрос этот был обращен к Ростиславу Ильичу, который, привстав с места, по-ученически поднял руку.
– Виктор Маркович уехал в корпункт "Известий"! – высоким мальчишеским голосом выкрикнул Ростислав Ильич. – И быть никак не может.
Звягин и Матвеев переглянулись. Осведомленность Ростика им была неприятна.
– Это… надежная информация? – учтиво и в то же время с оттенком недоверия спросил Матвеев.
– Абсолютно! – ответил Ростик и сел.
– Ну, что ж, – вытирая платком шею и лицо, сказал Григорий Николаевич, – в таком случае не будем ждать и начнем. Игорь Валентинович, прошу.
Горощук поднялся.
– В нашей группе – пополнение, – покачиваясь и вихляясь, как второгодник, вызванный к доске, заговорил он. А что Игорь Валентинович мог с собой поделать? Куда вообще деваются вихлявые юнцы? Вырастают и становятся вихлявыми мужиками. И плодят вихлявых детей. Другого пути у них нету. – На замену кандидату физико-математических наук Анатолию Витальевичу Сивцову прибыл Иван Петрович Тюрин, прошу любить и жаловать.
Игорь театрально протянул руку, отец поднялся и с достоинством поклонился. Он держался прилично, только кромки ушей его покраснели от волнения.
– Иван Петрович – старший преподаватель кафедры математики Щербатовского политехнического института, – продолжал Игорь. – Стаж работы в высшей школе – двадцать лет, опыта работы с иностранцами не имеет. С отличием окончил курсы иностранного языка. Женат, двое детей, за рубежом находится впервые.
Было странно, что Горощук говорит просто и ясно, не пересыпая речь корявыми английскими словами, нарочно переделанными на русский манер. Но таков, наверное, был порядок.
– Есть какие-нибудь вопросы к Ивану Петровичу? – спросил Звягин.
Андрей был уверен, что никаких вопросов не окажется, однако он ошибался.
– У меня вопрос, – поднялся худой, кадыкастый, губастый и очкастый дядечка, похожий одновременно на молодого ученого и на пожилого студента, такие с юности и до глубокой старости выглядят ровно на сорок лет. – Как Иван Петрович понимает цель своей командировки?
Пытка продолжалась, она приняла совершенно изуверский характер. Отец дернулся и раскрыл было рот, чтобы ответить, но его опередил Звягин.
– Надо полагать, Иван Петрович понимает ее правильно, – с нажимом произнес он. – А собственно говоря, Саша Савельев, дорогой наш Александр Сергеевич, какой ответ ты хотел бы услышать? Не в первый раз ты уводишь нас в сторону высоких словес, и всегда я тебе удивляюсь. Может, ты не физик, а лирик? Тогда так и скажи, мы переведем тебя на филфак. Соскучился по болтовне об извечных истинах? Мала тебя пичкало аллилуйщиной предыдущее руководство? Нет, уважаемый, не услышишь ты здесь высоких словес. Мы – реалисты, люди новой формации, мы приехали сюда работать. Работать, а не распускать словесные сопли, в этом заключается наш долг и наша цель. Так понимает это и Иван Петрович Тюрин, я в этом уверен. Если не так – пусть выскажется сам.
Очкарик солидно кивнул, как будто бы получил ответ, за которым обращался, и сел на свое место. Андрей был благодарен Звягину за то, что он не дал в обиду отца, он опасался, что это еще один способ продлить мучительство. Так оно и оказалось.
– Ну, что ж, – выждав паузу, сказал Звягин, – если больше вопросов нет, пожелаем коллеге побыстрее адаптироваться в стране пребывания и в нашем коллективе и стать достойной заменой незабвенному Анатолию Витальевичу…
Облегченно вздыхать было рано: интонация последнего слова свидетельствовала о том, что Григорий Николаевич еще не все сказал.
– Хотя надо признать, это будет трудно, – закончил свою реплику Звягин, – Если возможно вообще.
Все дружно захлопали в ладоши, и Иван Петрович опустился на свое место.
Можно было перевести дух… От стыда и муки за отца Андрей весь взмок. Подозрения его окончательно подтвердились: все всё знают, и с этим уж ничего не поделаешь. Это – данность, с которой придется жить. Спасибо отцу хотя бы за то, что он не успел ничего сказать и не навлек на себя еще большего сраму.
Между тем группа Звягина стала обсуждать характеристику Бородина Бориса Борисовича, который сидел в отдалении от всех, был очень бледен, то и дело приглаживал дрожащей рукой свою черную челочку и делал вид, что снисходительно улыбается. Странным Андрею казалось лишь то, что Бородин уезжает вчистую, пробыв в командировке два года и даже не дождавшись квартиры.
– Реакклиматизации тебе в Союзе, Борис Борисович! – с отеческой улыбкой произнес Звягин, когда характеристика, выдержанная в хвалебном духе, была единогласно утверждена. – Ну, теперь ты вольная птица, не смеем тебя задерживать. Ступай, укладывай багаж, закупай сувениры, если еще не весь рынок скупил, а мы, как говорится, вернемся к своим баранам.
Лицо Бородина, широкое, как блин, с прилизанными наискось черными волосами, маслилось от жары, слова "закупай сувениры" его почему-то обозлили.
– Рано хороните! – тонким голосом выкрикнул он. – Пока я получаю зарплату как член группы, имею право сидеть на собраниях. И докажите мне, что это не так.
– Ну, не знаю, не знаю, – с досадой сказал Звягин. – Ладно, сиди, если тебе делать нечего…
– Мне есть что делать, – возразил Бородин. – Я только хочу послушать, что Матвеев скажет о своей роли при прежнем руководстве.
– А вот это уже личный выпад! – разгневавшись, проговорил Звягин. – В народе о таких говорят: "Мертвый хватает живого". Так вот, Борис Борисович, я знаю, что тебя печет, и удовлетворю твое любопытство. В полном согласии с Букреевым Виктором Марковичем…
Аплодисменты.
– Погодите, дайте договорить! – подняв руку ладонью вперед, повысил голос Звягин. – В полном согласии с аппаратом советника руководство группы решило поставить перед инстанциями вопрос о продлении пребывания Матвеева Владимира Андреевича еще на один год, и предварительная разведка показала, что этот вопрос будет решен в самое ближайшее время и решен положительно. Надеюсь, моих слов достаточно, чтобы наступить на язык кое-кому, кто так и не сумел отрешиться от слуховщины предыдущего периода, от аникановщины, как ее назвал, выступая в январе перед нами, товарищ Букреев, да простит меня Василий Семенович за то, что я называю вещи своими именами, меня вынуждают напоминать о прошлом…
Аниканов мило улыбнулся и ничего не сказал. А Андрею почему-то вспомнился обрывок новогоднего розового серпантина, зацепившийся за деревянный клык…
– Позвольте! – задыхаясь, Бородин поднялся.
– Я еще не кончил! – побагровев, гаркнул Звягин. Удивительно, какой диапазон был у его голоса: от певучего говорка до мощного баса.
– Нет уж, позвольте! – фальцетом выкрикнул Бородин. – Курс лекций Матвеева по экономической географии полтора года назад завершен, да-с, завершен, и никакой нагрузки у него нет вообще. В течение восемнадцати месяцев, дорогие друзья! Я поражаюсь, как Владимир Андреевич еще не повредился в рассудке за эти полтора года, как у него восемнадцать раз поднималась рука расписываться в платежных ведомостях! Непотопляемый товарищ: при Аниканове он пел романсы, при Звягине сочиняет отчеты. Неудивительно, что руководство продлевает его на очередной год – чтобы он бродил по своей колоссальной квартире и тихо сходил с ума. Да, я отвечаю за свои слова! Как он поступил с Тюриными, вам известно?
Андрей обомлел. Ну, мама Люда! Ну, сорока! Нашла кому жаловаться…
– А как он поступил с Тюриными? – закричали вокруг. Что такое? Мы ничего не знаем!
И тут Андрей с ужасом увидел, как рука отца начала медленно подниматься… сначала до высоты плеча, потом выше головы, с судорожно выпрямленными, словно закостеневшими пальцами. "Что он хочет делать? Что он будет говорить? Папочка, миленький, не надо!"
Лицо Матвеева налилось кукурузной желтизной.
– Давай, Иван Петрович, скажи! – многозначительно проговорил Звягин. – Все, что накипело, что наболело, как это принято между своими. Не в кулуарах, не в гостиничных закоулках, а прямо в лицо.
Оцепенев, Андрей наблюдал, как отец встает, расстегивает пиджак, расправляет плечи.
– С большим недоумением я только что услышал… – невнятно заговорил он.
– Громче! – крикнул кто-то.
– С большим недоумением я только что услышал, что якобы Владимир Андреевич обошелся с нами как-то не так. С любезного разрешения Владимира Андреевича мое семейство провело под его кровом сутки – в ожидании, когда освободится номер в «Эльдорадо». Пользуюсь случаем, чтобы еще раз поблагодарить Володю Матвеева за гостеприимство и раз и навсегда пресечь какие бы то ни было спекуляции на этот счет.
Группа дружно зааплодировала – неизвестно чему: то ли Матвеевскому гостеприимству, то ли Тюринскому заявлению. Бородин пытался что-то кричать, но ему не давали.
Андрей почувствовал облегчение – и что-то вроде сладкой тошноты. "Наверное, так и надо, – вяло подумал он, – наверно, так и нужно делать, когда недостоин …"
Тут кто-то энергично тряхнул Андрея за плечо. Это было так неожиданно, что у него чуть не разорвалось сердце. Он обернулся – за его спиной стоял молодой переводчик в рыжих очках с белесыми усами под розовым, совершенно глянцевым носом.
– А ну, давай отсюда, – негромко сказал усач. – И быстро, му-хой!
– А что я такого?.. – выбираясь из-за стола и чувствуя себя унылым халдой, пробурчал Андрей. – Кому я мешаю?
– Иди, иди, – парень снова взял его за плечо и легонько, но настойчиво подтолкнул к выходу. – Вопросы еще будет задавать… Советский человек.