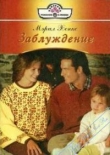Текст книги "Лгунья"
Автор книги: Валери Уиндзор
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 15 страниц)
Это, конечно, загадка. Почему я ему понравилась? Мы были знакомы каких-то десять минут, а он уже пригласил меня в кино. Когда я сообщила матери: "Я сегодня вечером иду гулять с тем мальчиком, которого встретила в холле", она терпеливо улыбнулась и сказала: ладно, только возвращайся не слишком поздно, потому что миссис Такая-то, хозяйка гостиницы, запирает двери в половине одиннадцатого.
Не помню, какой мы смотрели фильм. Там без конца гонялись друг за другом на машинах, – довольно скучное зрелище, но тогда мне было не до кино. Еще до начала рекламы Тони обнял меня за плечи. Он не отрываясь смотрел на экран, как будто поведение его руки совершенно его не касается, будто он не имеет к ней ни малейшего отношения. Мне было и тревожно, и любопытно, но больше любопытно. Когда начался сам фильм, он вдруг повернулся, лицо его нависло надо мной, устремилось навстречу, как огромный черный дрозд, и он впился мне в губы. Его губы оказались приятными на вкус, пахли мятой и чем-то менее чистым, этот запах был сильнее. Мне было интересно. Он довольно неуклюже положил мне руку на левую грудь и ритмично сжимал. Когда прошел первый панический ужас оттого, что меня там трогают, это же запретное место, ко мне никто ещё так не прикасался, я решила, что мне это вовсе не нравится. У меня так и не хватило духу намекнуть, что он мог бы по-другому до меня дотрагиваться, нежнее, более эротично. Когда кино закончилось, он проводил меня до гостиницы, то и дело останавливая и прижимая к стене. Я приняла это за страсть. Старалась как можно больше запомнить, чтобы рассказать об этом моей подруге Дженифер. Мысленно оглядываясь назад, я думаю, что вела себя очень покорно. Делала все, что хотел Тони. Я не знала, как ещё можно себя вести. И к тому же, не видела смысла делать что-то иначе. Однажды он пожаловался:
– Ты никогда ничего не предложишь! Почему ты никогда не берешь инициативу на себя?
И тогда я предложила вместо кино пойти прогуляться.
– Прогуляться? – спросил он. – Куда? С чего это тебе приспичило гулять? Я не люблю ходить пешком.
– А я люблю, – сказала я.
И мы пошли в кино.
Однажды я попросила его не приезжать на выходные, отложить до следующих. Наверное, он мне немного наскучил. Хотелось провести уик-энд одной. Его реакция меня напугала. У него был такой вид, словно я его ударила.
– Ты не хочешь, чтобы я приезжал? – спросил он. Потом надулся. Потом взорвался. Обвинял меня во фригидности, говорил, что я эгоистичная сука, что лгу ему. Возможно, так все и было. Мне всегда было трудно защищаться в спорах с Тони, так как в главном я с ним соглашалась. А если не соглашалась, то только потому что его обвинения были настолько абсурдны, что я просто лишалась дара речи. В общем, после этого разговора мы обвенчались.
Много лет спустя я его об этом спросила.
– Помнишь, тогда, в Ковентри, – сказала я. – Почему ты хотел со мной снова увидеться?
Вопрос его разозлил.
– Наверное, потому что ты мне нравилась. А почему ещё люди хотят с кем-то снова увидеться?
– Но почему я тебе нравилась?
– Не знаю. Много почему.
– Так, может, это было сексуальное влечение? – спросила я. Только не дружеские чувства. Не то чтобы мы разговаривали часами, забывая о времени, рассказывали друг другу о своей жизни, смеялись вместе, не было между нами и пленительного сопереживания; мы не открывали друг другу никаких тайн о себе – возможно, были слишком молоды, чтобы знать о них. Так что же мы делали? Ходили в кино. Проводили уйму времени за поцелуями или в постели в дешевых отелях, что быстро мне надоедало, хотя мне никогда не хватало духу в этом признаться.
– Ну да, отчасти сексуальное влечение, – сказал он. – Но не только.
– Что же еще?
Он был очень подозрителен.
– Что ты хочешь узнать? К чему все это?
Да к тому, что я не могла поверить, просто не могла поверить, что он нашел во мне хоть что-то мало-мальски привлекательное. Тело мое всегда приводило меня в ужас: я считала его отвратительным. Я заподозрила (на основании журналов, бережно хранимых Тони на дне шкафа под спортивной сумкой), что чувство, которое он на самом деле испытывал к моему телу, было сродни презрению, и это его возбуждало. Я его понимаю. Я тоже презираю свое тело. Невыносимо видеть его голым в зеркале. Оно всегда было вдвое толще, чем мне хотелось – за исключением тех мест, где его как раз должно быть много – и слишком резко отличалось от всех этих фотографий на календарях Пирелли и распростертых соблазнительных девушек из журналов, которые Тони покупал и прятал. Так что не знаю – и никогда не знала, – что он во мне нашел. Подозреваю, что его привлекала моя аморфная пассивность. Что с самого начала наших отношений он увидел, что имеет надо мной полную власть, и ему это понравилось. А кому, собственно, не понравится? Он был очень молод. Разбирался только в машинах. Возможно, считал, что женщины и машины – это по сути одно и то же. Если и так, то не мне его судить. Думаю, я предоставила ему не слишком много доказательств, свидетельствующих в обратном.
– Ох, Мэггс, ради бога, – сказал он. – Ну чего ты теперь хочешь добиться? Я в тебя влюбился, понятно? А почему ещё люди женятся?
О-о, по многим причинам. Среди которых любовь стоит далеко не на первом месте. Я его не любила, не припомню такого, хотя мысль о том, что он в меня влюблен, произвела на меня сильное впечатление. Я вышла за него, потому что в те дни так было принято, а ещё потому что боялась его расстроить. Все будет хорошо, убеждала я себя. Моей маме он нравится. И отчиму нравится. Он всем нравится. И мне нравится. И я знала, как мама обрадуется всей этой свадебной суете. Нет, вру. Это я радовалась. Мне нравилось быть в центре внимания: нравилось, что люди мне завидуют и не скрывают удивления; нравилось быть частью важного ритуала, в котором я исполняю роль героини и символической жертвы. Но я никогда особо не задумывалась о том, что будет после церемонии. Здесь наступал предел моего воображения. Как будто это конец сказки. И жили они счастливо – на литературном языке это означает "Конец", пора закрыть книгу и ложиться спать. Я сидела нарядная в машине рядом с Тони и, помнится, подумала: это совсем не то, что я имела в виду. Хотелось остановиться и сказать: Это ошибка, давай вернемся, пожалуйста! Я мечтала о свадьбе, конечно, мечтала, но не предвидела последствий: я думала, все кончится совсем по-другому, как-нибудь более жертвенно, более поэтично. Помню, я сидела в машине, смотрела на свои руки и с удивлением думала: неужели это мои руки, неужели это я, реальная я с этими вот странными белыми руками, сижу в форде "Кортина" на пути к Уитби. "Что ж, вот ты и сделала это", помню, сказала я себе. За Йорком начался дождь, и небо почернело. Мы ехали по ровным, мокрым дорогам. "Дворники" на ветровом стекле монотонно качались, туда-сюда, раздвигая струи дождя. Меня переполняла такая невыносимая печаль, что я с трудом дышала.
Тони положил руку мне на колено.
– Счастлива? – спросил он.
Я улыбнулась и кивнула, потому что не могла говорить. Так и пошло. И чем меньше оставалось во мне уверенности, тем Тони, в той же пропорции, наполнялся уверенностью в себе, он был прямо набит уверенностью, как плюшевый медведь – опилками. И тем не менее целых шестнадцать лет мы ухитрились прожить довольно счастливо. По крайней мере, всем так казалось. Особенно мне.
Я лежала на кровати, не в силах пошевелиться, парализованная внезапно открывшимся доступом к памяти, и строила отчаянные планы. Меня мутило. Как только войдет доктор Вердокс, мне придется просить его связаться с Тони. Между тем, необходимо придумать убедительное объяснение для Тони: почему я ловила попутку на дороге, ведущей на юг. Я прокручивала в голове фразы, торопливые, беспомощные фразы, которые обрывались незавершенными. Зато мне отлично удавались язвительные вопросы, тонкие укоры, болезненное молчание: бесконечная расплата, которая мне грозит.
Наконец явился доктор Вердокс, принес кипу английских газет.
– Я подумал, вы захотите что-нибудь почитать за завтраком, – сказал он. Несколько медсестер помогли мне принять сидячее положение, подоткнув меня со всех сторон подушками, как куклу без костей. – Они немного устарели, – сказал он, извиняясь. – Вот... – он протянул мне "Дэйли мэйл", – самая свежая. Вчерашняя.
Меня поразила дата. Три недели ухнули в никуда. Доктор Вердокс бросил на кровать остальные газеты. Там оказалось две "Дэйти телеграф", "Гвардиан" и "Сан". Я начала с "Мэйл". Странное ощущение – потерять целых три недели, не знать, с чего начиналась половина описываемых историй, но страннее всего было обнаружить, что в мире-то как раз почти ничего не изменилось. Я только что прочла о французской оппозиции плану какого-то исполнительного комитета, или ещё чего-то, и переворачивала страницу, как вдруг на глаза мне попалась маленькая, расплывчатая серая фотография рядом с заголовком статьи. Я взглянула на неё мельком. Даже немного посочувствовала оригиналу этого снимка, кем бы он ни был: могли бы выбрать фото поприличней, подумала я. И вдруг у меня комок застрял в горле. Мне был знаком этот панический взгляд, это бледное, застывшее лицо трупа, прислоненного к плиссированной занавеске. Я прочитала заголовок: "Загадочное исчезновение англичанки остается тайной". Я заставляла себя сосредоточиться, медленно прочесть каждое слово, но глаза мои метались по странице, как крабы в истерике, перескакивали через слова, упускали смысл.
Французская полиция все ещё обследует район Лиможа в поисках тела миссис Маргарет Дэвисон, 36-летней секретарши из Сток-он-Трент, которая исчезла три недели назад, находясь на отдыхе в Париже. Ее муж, Энтони Дэвисон, 39 лет, начальник отдела реализации и сбыта, вчера вечером сделал объявление по французскому телевидению, прося откликнуться тех, кто мог видеть его жену. Одежда миссис Дэвисон была найдена местным фермеров в зоне розыска.
Я лихорадочно просмотрела остальные газеты. Ни в "Телеграф", ни в кратких, на четыре колонки, сводках "Гвардиан" ничего не было. На центральных страницах "Сан" я нашла фотографию Тони, он ссутулился, поднял руки к лицу, заслоняясь от камеры. Я поняла, что это Тони. Поняла сразу, ещё до того, как прочла заголовок: "Энтони Дэвисон, чья пропавшая жена считается жертвой французского убийства на сексуальной почве".
Я долго пялилась на страницу, кружилась голова. Я не знала, что и думать. По иронии судьбы, благодаря какому-то чуду, то, чего я желала больше всего, но считала безвозвратно утерянным, вернулось ко мне. Я перестала существовать. Я была никем. Маргарет Дэвисон, тридцатишестилетняя домохозяйка и секретарша из Хенли, мертва. Так говорилось в газетах. Полиция ищет её тело. В конце концов, подумала я, – во мне пробудилась способность рассуждать, даже испытывать сострадание, – в конце концов, если ты пропала и считалась мертвой в течение трех недель, значит, для Тони самое худшее уже позади. Дольше он не станет по тебе убиваться. Так зачем же снова его беспокоить? Оставайся мертвой.
Это была до того соблазнительная, до того простая мысль, что я почти позволила себе поддаться её соблазну. Почти. Вместо этого я закрыла газету, аккуратно сложила её – созерцать сутулые плечи и прикрытое руками лицо Тони было слишком мучительно – и приняла разумное решение рассказать правду. И к тому времени, когда вернулся доктор Вердокс, я как раз набралась храбрости это сделать.
– По-моему, я должна вам кое-что сказать... – начала я, но мне до сих пор было трудно справиться со сложной комбинацией слов.
– За дверью ждут полицейские, – сказал он. – Хотят с вами побеседовать.
Вообще-то говоря, эти полицейские появились очень кстати, ибо у меня был шанс додумать фразу, которую я собиралась произнести, и не нужно будет повторять эти скучные объяснения дважды. Хотя, если подумать, то мне и один раз не придется давать объяснений, потому что они меня тут же узнают. Уже три недели моя фотография из паспорта украшает стены каждого полицейского участка во Франции.
– Вы достаточно окрепли, чтобы с ними разговаривать? – спросил он.
– Да, – ответила я.
Полицейских было двое: один довольно высокий, лысоватый, в кожаной куртке, другой маленький, темноволосый. Маленький все время озирался, будто от скуки, и втягивал щеки. Он был похож на миниатюрную версию Алена Делона. Я сидела с газетой "Дэйли Мэйл", открытой как раз на моем фото, готовая, если понадобится, предъявить его в качестве доказательства.
Высокий и лысоватый представился. Я забыла, как его звали. И с самого начала стало ясно, что он меня не узнал. Его первые слова:
– Мэри-Кристин Масбу?
– Прежде чем вы продолжите, я должна кое-что объяснить. Я вовсе не та, за кого вы меня принимаете, – сказала я.
Нет, не сказала. Зачем я теперь-то вру? Увидев двух полицейских, я тут же отчетливо поняла, что не собираюсь им ничего говорить.
– Мэри-Кристин Масбу? – спросил высокий в кожаной куртке, и я не сделала ни малейшей попытки возразить ему. Почему бы на несколько дней не одолжить у Крис её имя, покуда я не наберусь мужества? Ей оно уже не понадобится. Я решила не говорить им ни правды, ни лжи. Пусть они мне сами все скажут, думала я. Пусть сами решают. А у меня на коленях пусть лежит открытая газета – по крайней мере, хоть в чем-то поступлю честно. Если они того пожелают, то смогут запросто увидеть снимок; смогут прочесть статью. Захотят – поймут. Я же буду соглашаться со всем, что они скажут. Это проще всего.
Высокий, лысеющий полицейский присел на кровать. Он понял так, что я направлялась на юг от Кале, верно? По-английски он говорил очень недурно. Могу ли я сказать ему, куда держала путь, или у меня до сих пор проблемы с памятью?
– Нет, – сказала я. – Я очень хорошо все помню. Я ехала в Фижеак.
По крайней мере, буду отвечать как можно правдивее, подумала я.
– В отпуск? – спросил он. Это даже не было вопросом. Он просто хотел, чтобы я подтвердила то, что он и так считал непреложным фактом, поэтому я ничего не ответила. На меня накатило приятное безразличие, словно все это происходило с кем-то другим.
– А как насчет вашей семьи? – спросил он.
Я встревожилась.
– Какой семьи?
Он взглянул на меня с удивлением. Мы тупо смотрели друг на друга, как будто он использовал совершенно неподходящее слово. На секунду я вообразила, что под "семьей" он подразумевал Тони, а потом сообразила, что речь шла, разумеется, о семье Крис.
– Вашей семьи, – повторил он с легкой неуверенностью, словно заподозрил, что и в самом деле использовал неверное слово. – Есть у вас кто-то, кого мы должны известить?
Я покачала головой.
– Нет, – сказала я. – Никого.
Он протянул руку к маленькому полицейскому приятной наружности, который вручил ему пакет.
– Мы попытались сделать запрос у властей в Англии, но они не сумели найти ближайших родственников. Есть у вас родные в Англии?
Я издала неопределенный звук и улыбнулась.
Он вытащил из пакета два паспорта.
– Подтвердите, если сможете, ваши ли это документы.
Он передал мне один из паспортов, открытый на первой странице. На странице справа была приклеена немного недодержанная фотография Крис. Я поняла, что это Крис, хотя с тем же успехом это мог оказаться кто угодно, кто-то очень молодой и серьезный, с некрашеными каштановыми волосами до плеч и пухлым лицом.
– Старая фотография, – заметила я.
– И не слишком хорошая, – сказал лысеющий.
– А мне кажется, хорошая, – честно призналась я.
Он смешался, а может, смутился.
– Нет, я хотел сказать, что она... – он поморщился в поисках подходящего слова, и я ему помогла.
– Не слишком похожая? – подсказала я. – Да, давно это было. – Я взглянула на расплывшуюся дату штампа. Указала на то, что когда делали снимок, я была намного моложе. И правда, намного. На девять лет. Мне было двадцать семь, а Крис, стало быть, двадцать три. – С годами лица меняются.
Второй, невысокий, покачал головой:
– Les yeux, – пробормотал он. – Les yeux, ils ne changent jamais34.
– Трудность, конечно, с ростом, – лысеющий указал на графу, где рядом со словами Рост/Taille было написано 5 ф. 4 д. – Пять футов четыре дюйма, сказал он.
– Cent soixante-cinq centimetres35, – сказал другой.
Они озадаченно смерили взглядами мою длину в кровати.
Я пожала плечами и улыбнулась им. Мне было все равно. Пусть что хотят то и думают.
– Здесь ошибка? Предположил лысеющий. – Сколько в вас? Cent soixante-quinze36?
– Пять футов семь дюймов, – сказала я.
Они переглянулись.
– В паспортном столе ошиблись?
– А вы так и не исправили?
– Не подумала, что это может быть важно.
– И у вас никогда не возникало проблем с властями?
– Нет, – сказала я. – Никогда.
Они с недоверием качали головами, удивляясь недосмотру чиновников из паспортного стола.
– Вас никто не останавливал?
– Никогда.
Лысеющий сказал:
– Вы должны будете это исправить, Mademoiselle. Как только вернетесь в Англию.
– Хорошо, – послушно сказала я. – Ладно, исправлю. Первым же делом.
Лысеющий – по-моему, его звали Пейрол, что-то вроде этого – забрал у меня паспорт и дал мне другой: тонкий гостевой паспорт. Я открыла его. И чуть не рассмеялась. С разворота на меня смотрела совсем недавняя фотография Крис. Я её мгновенно узнала. Светлые крашеные волосы колечками, лицо более худое и резкое, чем на раннем снимке. Она улыбалась. Слева на странице я прочла: Катрин Анжела Хьюис. Возраст – 30 лет, прочла я. Особые приметы – не имеет.
– Это та самая девушка, которую вы подвозили? – спросил Пейрол.
– Да, – сказала я. – Это она. – Это была первая серьезная ложь. Потом маленький, симпатичный произнес нечто настолько непонятное, что мне ничего не оставалось, кроме как продолжать врать.
– Теперь о деньгах, – сказал он. – Расскажите нам о деньгах.
– О деньгах?
Глаза его стали острыми, как булавки. Скуку с него как ветром сдуло. Все его внимание было сосредоточено на моей особе.
– О деньгах в машине.
– Каких деньгах? – тупо повторила я ещё раз.
– Мы нашли огромную сумму английских денег, спрятанных в вашей машине.
– Это была не моя машина. Я её наняла.
– Спрятанную в нанятой вами машине.
– Я ничего не знаю ни о каких деньгах.
Они смотрели на меня, явно не веря. Они ждали, чтобы я им ещё что-нибудь сказала, но я понятия не имела, что сказать, и потому просто повторила:
– Я ничего об этом не знаю.
Темноволосый коротышка фыркнул и что-то быстро пробормотал по-французски.
Пейрол перевел:
– Вы пытаетесь сказать нам, что это не ваши деньги?
– Конечно, не мои.
– Так вы предполагаете, что эта девушка, которую вы посадили в свою машину, эта Катрин Хьюис, что она прятала 20 000 фунтов стерлингов в багажнике нанятой вами машины? Двадцать тысяч в аккуратной банковской упаковке?
В таком изложении это действительно звучало неестественно. Я понимала, почему они с трудом мне верят.
– Должно быть, так и было.
Я была удивлена не меньше них. Мне показалось, что это не в её стиле, для Крис скорее подошли бы международные мандаты (аккредитив) (доверенность, имеющая силу заграницей) и банковские чеки. С другой стороны, а что я вообще знала о её стиле? Возможно, она частенько разъезжала по стране с двадцатью тысячами в банкнотах, и в этом случае ей нужно было где-то их прятать.
– Где вы её посадили?
– В Париже, за чертой города.
– В какое время?
– Сколько у неё было багажа?
– Она проявляла нервозность?
Вопросы сыпались один за другим. Было раннее утро, сказала я. Около шести. У неё был при себе один чемодан, солгала я. Они кивнули друг другу и перебросились парой фраз по-французски, из которых я поняла, что паспорт был найден в la vasile rouge37.
– Верно, – сказала я. – Он был красный.
– Значит, два чемодана ваши, а красный – ее?
Я неопределенно кивнула. Что тут такого, может, я захотела просто размять мышцы шеи.
– Куда она направлялась?
– В Тулузу, – сказала я. – К сестре.
Они хотели досконально знать, где мы в тот день останавливались. Я сказала, что не могу вспомнить. Завтракали где-то между Орлеаном и Божанси, сказала я. Городишко с площадью и Кафе де Спортс. На подъеме вдохновения я рассказала, что мы заходили в супермаркет в Божанси и купили продуктов для обеда. Но, похоже, вдохновение ошиблось адресом. Вид у них был удивленный. Они сказали, что в машине не было обнаружено никаких следов еды.
– Нет, – сказала я. – Мы не в машине обедали. И к тому же, почти все доели на ужин. А остальное я выбросила. – Я была немного обижена, что они во мне сомневаются. Я до того живо все это себе представила, словно так и было на самом деле. Я видела, как моя рука выбрасывает половину длинного французского батона и недоеденный кусок сыра в мусорный бак у дороги.
– Когда вы останавливались в кафе, вы оставляли машину без присмотра?
– Вы уходили в туалет? – спросил темный коротышка.
– Да, – честно ответила я. – Уходила.
– А она ходила с вами?
– Нет. Она подошла к стойке бара и оплатила счет.
– Могла она это сделать, а потом выйти к машине, пока вы были в туалете?
– Ну, могла.
– А как насчет машины? Она была заперта?
– Наверное. Да.
– Вы когда-нибудь давали ей ключи? Чтобы что-то вынуть из машины?
– Нет.
– А багажник? Вы могли оставить багажник незапертым?
– Понятия не имею, – сказала я, в восторге от того, насколько легко было отвечать на их вопросы, причем фактически говоря правду, в буквальном смысле этого слова. – Наверное, могла. Не помню.
Я лежала, откинувшись на подушках, и наблюдала, как они жарко обсуждают это по-французски. Они полицейские, думала я, вот и пусть решают. Только поскорее, а то у меня снова начали болеть ноги. Я ерзала от боли, перемещая вес тела с одной ягодицы на другую, и случайно столкнула на пол газету. Пейрол наклонился и поднял её. Он держал мою фотографию перед глазами: все, что ему нужно было сделать, это опустить взгляд и мысленно провести параллели. Но он этого не сделал. Мельком, без интереса, взглянул на неё и передал мне.
– Вы замужем? – внезапно спросил он, наблюдая, как я складываю газету.
– Нет, – сказала я – вторая серьезная ложь.
– Если вы недавно вышли замуж, вы также должны известить об этом власти, – сказал он.
– В этом случае я непременно так бы и поступила, – сказала я. – Но я не замужем.
И только отодвигая стакан воды, чтобы освободить на тумбочке у кровати место для газеты, я поняла, что этот вопрос был вызван видом моего обручального кольца. Я ношу его уже шестнадцать лет, и так привыкла к нему, что перестала замечать.
– А-а, так вы об этом? – сказала я. – Оно у меня очень давно. – И сняла его, как будто оно ничего для меня не значит, и я надеваю его изредка, только чтобы пофорсить, причем на любой палец, лишь бы налезло. Чтобы это подчеркнуть, я с трудом протиснула в него сустав среднего пальца другой руки.
После ещё нескольких вопросов вошел доктор Вердокс и прогнал их. Он посчитал, что они меня утомили, и очень рассердился. У меня действительно болели ноги и спина, но я была слишком возбуждена, чтобы почувствовать усталость. Да, я знаю, возбуждение – неуместная реакция в данной ситуации. Знаю, что я должна была ощущать нечто иное, но я тогда много чего должна была чувствовать и не чувствовала, или должна была сделать и не сделала. Начать с того, что я должна была прямо сказать им, кто я такая, но я все ждала – или, может, это всего лишь оправдания – ждала, что они вот-вот увидят, что на обоих паспортах фотография одного и того же человека. Я думала, они поймут, что я не могу быть Крис Масбу. И просто ждала, когда они мне об этом скажут. Вот и все что я делала. Я бы сама призналась, честное слово, призналась бы, но коль скоро мне предоставлялся выбор – ведь мне, кажется, впервые в жизни предоставлялся выбор – то я бы предпочла не быть Маргарет Дэвисон, тридцатишестилетней женщиной из Хенли. Как беспристрастные зрители, вы должны признать, что факты как раз свидетельствовали не в мою пользу. (Даже я признавала, что поверить в это трудно, но в тот момент я себе верила). И, несмотря на это, все остальные были убеждены, что я – Крис Масбу из Шепедс Баш, тридцати двух лет от роду.
В бледном круге света от настолько лампы я порвала единственную фотографию подлинной Маргарет Дэвисон. Обрывки я затолкала в бумажный пакет, куда складывала грязные салфетки и банановую кожуру. Так, ну ладно, сказала я себе в порыве благоразумия, ладно, если быть Маргарет Дэвисон ты не хочешь, а быть по-честному Крис Масбу не можешь, то какие альтернативы? – и ни одной не смогла придумать, ничегошеньки. Кроме как снова убежать. Зачастую побег – единственный ответ. Так или иначе, я всегда убегаю.
Однако бежать – я имею в виду бежать физически – когда ноги у тебя закованы в гипс, весьма затруднительно. Даже опытный беглец вроде меня, даже человек, обладающий большой сноровкой в этом деле, не может преодолеть такое обстоятельство, как невозможность самостоятельно подняться с кровати. Кроме того, я постепенно полюбила эту белую комнату, где однажды парила между раем и адом, без веса, без лица, комнату, по которой медсестра ходит так тихо и плавно, словно тоже парит в невесомости. Там я была счастлива. Все остальные виды побега я практиковала с привычной ловкостью. Я спала, я дремала, я старалась ни о чем не задумываться, особенно о вещах неприятных, например, о том, что же делать, когда меня окончательно починят.
Раз или два я думала о Крис, обычно это случалось после приходов полиции. Они навещали меня несколько раз. Хотели побольше узнать о Катрин Хьюис. Их английские коллеги никак не могут понять, кто она и откуда. Меня это, разумеется, нимало не удивляло, но я молчала. Я старалась не вспоминать о втором паспорте в красном чемодане и о деньгах, спрятанных в багажнике. Они были как крошки от печенья на влажной простыне, эти мысли. Так что я их стряхивала и спала, спала.
Днем заходил доктор Вердокс, садился на кровать и разговаривал со мной вежливо и формально обо всем и ни о чем. Я подозревала, что он хочет попрактиковаться в английском. Иногда он задавал мне вопросы о моей работе, а я без конца улыбалась и отвечала, что работала в офисе. Большая кампания, говорила я. Что ж, большая – понятие относительное. Оно означает всего-навсего "больше, чем маленькая", что тоже относительно, и если подходить с таким мерилом, то я и вправду работала на большую кампанию. Всякие финансы, говорила я. Это уже чистая правда. Однажды он спросил, играю ли я в шахматы. Нет, сказала я, боюсь, что нет. Потом до меня дошло, что Крис-то наверняка умела играть в шахматы. Возможно, даже очень хорошо играла. Как-то мы заговорили о Франции. Я поехала в отпуск одна? спросил он.
– Да, – ответила я.
– Во Францию?
– По Франции.
Куда же я держала путь, хотел он знать, когда произошла авария? Не задумываясь, я поведала ему то, что говорила мне Крис: мол, ехала в Фижеак, к родственникам. И в тот момент, когда я это произнесла, в тот момент, когда слова сорвались с моих губ, я поняла, что совершила грубую ошибку.
– Так у вас родственники в Фижеаке? – спросил он, взгляд у него стал внимательный и удивленный.
Я начала юлить.
– Ну, как бы это выразиться, не то чтобы близкие родственники, сказала я. – Вообще-то я совсем их не знаю. Они и не подозревают, что я к ним еду. И не ждут меня.
Выкручиваясь таким образом, я вдруг сообразила, что все это должно быть правдой. Если бы Крис ждали родные, они бы непременно забеспокоились, когда она не появилась и не позвонила. И сразу обратились бы в полицию. Это избавило меня от проблемы, над которой я до сих пор даже не задумывалась. Слава богу, ко всему прочему мне не хватало только неожиданного посещения родственников Крис.
– Нет, я собиралась просто заскочить, если подвернется возможность.
Выражение "подвернется", употребленное в таком контексте, не входило в лексикон доктора Вердокса. в результате мы углубились в обсуждение бесчисленных фразеологических оборотов со словом "подвернется": подвернуться под руку; все, что подвернется; первый подвернувшийся; подвернуться кстати. Он посетовал на то, что в употреблении английских предлогов нет никакой логики, их невозможно запомнить. Я возразила, что как раз английские предлоги очень логичны, а французские используются совершенно произвольно. Чем глубже мы погрузимся в грамматику, рассчитывала я, тем скорее он забудет об этой моей семье из Фижеака.
Однажды утром пришли две медсестры и отвезли меня в кресле по длинным коридорам в кабинет, где доктор Вердокс снимал швы. У меня было пятьдесят четыре шва только на голове и лице. Напоследок меня ещё заставили пройти на костылях до лифта. Боль адская. Пока я доковыляла до двери лифта, я вся дрожала, меня тошнило, а они, похоже, остались очень довольны. Все заживает, сказали они. И с тех пор заставляли меня ходить каждый день. Ноги, живот, ягодицы – после этих мучений все ныло от усталости, иногда острая боль пронизывала ребра; но я рассуждала так, что если они правы, утверждая, что я быстро иду на поправку, то мне необходимо как можно скорее встать на ноги. Безмятежная жизнь кончалась, полиции не потребуется много времени, чтобы меня раскусить. Пора уносить ноги, и чем скорее, тем лучше.
Когда я приспособилась ходить на костылях, и лицо мое покрылось огромными, твердыми сухими корками, однажды утром в палату вошла сестра Мари-Тереза с двумя чемоданами и сумкой. Из её упрощенного до предела французского я уяснила, что полиция оставила их, чтобы я проверила содержимое. Я сидела на кровати и перебирала вещи из сумочки Крис, старательно делая вид, что вижу их не впервые. По сравнению со всеми моими сумками, в этой царила удивительная чистота. Здесь был кошелек, полный денег – денег и вправду было довольно много, восемь тысяч франков (я пересчитала) – и ещё одна сумочка поменьше, где лежали зеркальце, карандаш для ресниц, тушь и помада. Была чековая книжка, гарантийный дорожный чек, кредитная карточка, водительские права, все бумаги, связанные с прокатом машины, международная водительская лицензия, почтовая открытка, ручка, щетка для волос, солнечные очки и какие-то ключи. Все. Никакого мусора, никакого песка на дне, никакой мелочи вперемешку с грязными леденцами и скомканными квитанциями. Она была совершенно безликой. Я прочла открытку. Ни штампа, ни адреса. Там было написано: "Воспользовалась твоим советом. В Кале. Позвоню дяде Ксавьеру, когда доберусь до Фижеака. Крис".
Обоим чемоданам здорово досталось во время аварии. Они были продавлены и перевязаны бечевкой. В них оказалась только одежда, обувь, краска для волос – и тому подобные личные вещи.
– Bon, – сказала я сестре Мари-Терезе. – C'est tout38. – От этого вранья стало немного не по себе: словно я сделала что-то неприличное.