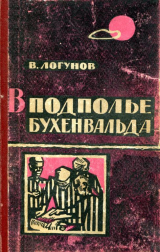
Текст книги "В подполье Бухенвальда"
Автор книги: Валентин Логунов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 15 страниц)
Вспоминаю, как в октябре 1942 года нас, полуживых от истощения, заставляют бежать 200 метров. Большинство падает; их отводят в сторону и расстреливают. Я добежал с помощью одного своего товарища и поэтому остался жив. Четырнадцать километров пешего марша до шталага 4-Б, около города Мюльберг, отняли третью часть людей, потому что отстающих пристреливали.
Громадный лагерь-город шталаг 4-Б наводнен многочисленными агентами РОА и, как котел, кипит разбушевавшимися страстями. Вся наша группа включается в борьбу и моментально обрастает надежными сторонниками. Истощение доходит до предела: на 172 сантиметра моего роста едва приходится 46 килограммов, веса. Только жгучей ненавистью да неиссякаемой верой в победу теплилась жизнь, и питалась наша энергия.
Вспоминаю рабочую команду на бумажной фабрике в городе Требсене на Мульде. Обнаруживаем засекреченный цех, производящий взрывчатку. Организуем аварию и бежим. Ночные переходы по затаившейся Германии; дневки там, где застанет рассвет. Штрафная команда в маленьком городке Майнерсдорф. Команда грузчиков на станции города Лимбах, отказ грузить в вагоны снаряды, отправка в военную комендатуру в краевой город Рохлиц, допросы, побои, карцер. Чуть живого отправляют в «офицерскую команду» на сельскохозяйственные работы в местечко Доберенц. При помощи простых немецких крестьян за месяц немного восстанавливаю здоровье и вместе с Иваном Ивановым опять бежим. На этот раз наш побег длился несколько недель, и за это время мы проходим значительную часть Германии, выходим в Чехословакию, потом, сами того не замечая, оказываемся в Польше. Наконец нас сонных захватывают в заброшенной водопроводной будке на дне оврага. Опять допросы, побои, этапы. Неудачный побег из городской тюрьмы города Майнца на Эльбе, кандалы, несколько дней в тюрьме города Галле и «беглецкий» лагерь Хартсмансдорф. В Хартсмансдорфе не просто пленные. Здесь собраны беглецы – самый отважный, непокорный, преданный Родине народ. Случай помогает мне бежать после вечерней поверки, но в лагере остался мой товарищ, спутник по прошлому побегу, и я ночью пытаюсь устроить побег Иванову и группе товарищей. Предательски загремевшее железо крыши привлекает внимание часовых, и опять допросы, побои, карцер и штрафная команда «Риппах». Только шесть дней работаем в этой команде, осушая болото по грудь в жидкой грязи, а в ночь на седьмой организуем общий побег, причем за нами уходит вся команда из 32 человек. Трудно, очень трудно в то время было бежать по территории Германии. На всех дорогах, на всех перекрестках, мостах и тропинках устраивались засады. Специальные отряды, организованные из гражданских нацистов, прочесывали по ночам леса и овраги. Даже дети имели заинтересованность в выдаче беглецов, потому что получали за каждую «голову» по 25 марок. Наша группа в 7 человек около города Вайсенфельс наткнулась на засаду. Под огнем преследователей мы пытались рассеяться в разные стороны, но поднятые по тревоге окрестные села устроили на нас настоящую облаву с собаками. Два человека навсегда оставили свои кости в неуютной земле около Вайсенфельса, а мы, пятеро оставшихся в живых, первую ночь простояли во дворе маленького лагеря военнопленных лицом к стене со связанными за спиной руками. Еще с вечера пленные того лагеря уговорили охранявшего нас конвоира и отдали нам все, что у них нашлось съестного, а еще позже, открыв окно и делая вид, что вслух читают власовскую газету «Клич», сообщили, что войска Украинского фронта освободили Каменец-Подольск. Утром явившееся за нами «начальство» удивилось, застав нас в приподнятом, радостном настроении. Перед тем, как посадить в крытую автомашину, наши связанные за спиной руки соединили одной веревкой, и Женя Зайковский, один из моих товарищей по побегу, очень спокойно сказал в лицо ткнувшему его унтеру:
– Подожди, недолго осталось, гад!
– Вас ист «гад»? – заинтересовался тот.
Находившийся при этом переводчик из пленных, не моргнув глазом, объяснил:
– Гад, это почти то же самое, что гид, только показывающий не памятники древней культуры, а основные принципы новой культуры великой Германии.
– Зо? Дас ист гут. Карашо.
И опять «беглецкий» лагерь Хартсмансдорф. Опять допросы, избиения, карцер с черным крестом на дверях камеры. Это смертная камера, из которой люди идут только на расстрел или в гестапо, что почти одно и то же. Около двух недель ожидаем смерти. Но вместо ожидаемой безносой появляются три молодчика в штатском, и я вместе с Иваном из пленных превращаемся в политических заключенных. Крытая арестмашина – и мы в гестапо в городе Хемнице. В глубоком подземелье нас разбросали по разным бетонированным одиночным камерам с железными скобами в стенах и стоком посреди пола, скорее для крови, чем для воды. Даже сквозь массивные стены все время доносятся леденящие душу вопли. Помню, как шел на допрос, до боли стиснув зубы, с твердым решением не кричать. Но кричать пришлось. Уж очень опытными оказались следователи и очень велико было их желание найти в моем лице агента Коминтерна. Раскаленное железо, хруст костей левого мизинца в специальном станке, иголки под ногтями и темнота. Темнота и тогда, когда пришел в сознание в одиночке, мокрый до нитки на мокром полу. Потом городская тюрьма в том же Хемнице, месяц отдыха на «поправку» здоровья и подготовку к новым мучениям, и опять побег с пятого этажа по связанным одеялам. Кто бы мог предположить, что один из заключенных поляков сразу же даст знать дежурному надзирателю? И вот тревога, мотоциклы, полицейские машины, собаки-ищейки, погоня по городу, через сады и дворы, чердаки, и опять допрос в гестапо. Очнулся с кандалами на ногах. Ночью тюремная машина, клетка тюремного вагона, тюрьма в городе Галле, опять тюремный вагон, тюрьма в городе Лейпциге, опять этап, тюрьма в городе Веймаре, опять тюремные автомашины и ворота Бухенвальда.
УРОКИ ИСТОРИИ
Сергей Котов небольшого роста. Крупная голова, несколько втянутая в плечи, кажется еще больше и шире от ежика волос по бокам «штрассы» – простриженной просеки от лба до затылка. За большими роковыми очками колючие черные глаза, постоянно изучающие, словно старающиеся проникнуть в самую суть собеседника, чтобы рассмотреть его изнутри, с изнанки. Такие глаза бывают у опытных педагогов, у врачей и, должно быть, у опытных следователей. Товарищи добродушно называют его – «наш Мацуоко», так как по первому впечатлению он несколько напоминает японца. Его очень уважают и почему-то побаиваются. Мало кто знает, что затертые до дырок кусочки бумаги со сводками Совинформбюро вышли из его рук. Бывало, что написанная под его диктовку бумажонка, пройдя сотни рук, таинственно и доверительно совалась к нему в руку.
– Прочти, Сергей! Вот здорово. Есть, оказывается, и у нас люди.
Сергей читал и с сомнением пожимал плечами:
– Слушай, а откуда это все?
– Э, брат, есть люди, которые и сейчас не теряют связи с Родиной. Ты посмотри на дату-то. Позавчера! Понял? А ты говоришь.
– Вообще-то похоже на правду, – говорит Сергей. – Но откуда оно взялось?
– Эх ты, тютя. Тут, брат, есть люди, не то, что мы с тобой. Тут люди не спят.
– Ну, а ты-то спишь? – спокойно спрашивает Сергей.
– Я? Да если б мне… да я… да хоть сейчас, за милую душу…
– А что за милую душу?
– Что? Да ты не финти, очкарь. Ты скажи, что делать?
– А ты что сейчас делаешь?
– Как что делаю? В ДАВ работаю. Доски строгаю и так далее. Ведь я столяр.
– И хорошо работаешь?
– Да я-то? Да у нас можно сказать в семье «династия». Ты понимаешь, что такое династия?
– Немножко понимаю.
– Ну вот то-то. У нас в семье еще никто плохо не работал. Даже поляки, что со мной работают, удивляются, как у меня все ладно получается.
– И я тоже удивляюсь.
– А ты-то чего?
– Да так, ничего. Ты что делаешь-то?
– Ну, зарядные ящики, передки и всякую прочую муру. А что?
– Да так, ничего. А ты знаешь, что обозначают эти три буквы: ДАВ? Нет? Не знаешь? По-немецки это называется – «Дойче аусрюстунгс верке», а по-русски – германский завод военного снаряжения. Что? Еще непонятно? А ты свою почетную «династию» кладешь к ногам врага. Да как тебя, сукиного сына, твоя «династия» советской рабочей семьи примет, если ты сумеешь вынести отсюда свою паршивую шкуру!
– Нет, Серега, да ты что? Да ты постой? Ты что говоришь-то?
– Да ничего я с тобой не говорю. Мне с тобой говорить противно. Тоже мне, «династия».
И человек, привыкший гордиться потомственной славой столяров-умельцев, задумывается.
А Сергей? Сергей в это время говорит с многими. Говорит не сам, а через свою сеть подпольщиков-коммунистов. Его слова бьют, одобряют, издеваются и напутствуют. Это слова жестокие, беспощадные, но это слова партии, Родины.
Вот он сидит за столом штубендинста нахохленный, сердитый, и из-под насупленных бровей очень внимательно наблюдает за блоковым. Альфред Бунцоль взволнованно ходит по комнате и с присущей ему горячностью пытается опровергнуть неумолимые доводы Сергея.
– Ты назвал меня жандармом. Меня, который девять лет не видел свободы, меня – старого коммуниста-функционера. Ты еще спокойно учился, когда я делал революцию в Германии.
– Ты ничего не сделал, Альфред.
– Как ничего не сделал? А ты сделал? Это твой отец делал революцию в России, а ты пришел на готовое. А я маленьким мальчишкой уже расклеивал прокламации, умел прятаться от шпиков, знал, что такое конспирация. Ты еще носил короткие штаны, когда меня уже били жандармы.
– И как тебе это нравилось? – спокойно спрашивает Сергей.
– Что нравилось? – не понимает Альфред.
– Да жандармские побои?
– Почему нравилось? Они меня били потому, что видели во мне врага. Классового врага. Понятно?
– Нет, не понятно. Жандармы били тебя потому, что ты их классовый враг. Это понятно. А вот сегодня утром, по твоей вине, твои товарищи лагершутцы били Ивана Погорелова, бывшего шахтера из Горловки, комсомольца, красноармейца… Что же, он тоже твой классовый враг? И за что били? За то, что парень не хочет работать на благо вашего проклятого «фатерлянда»? Вот это мне непонятно. Я слишком мягко назвал тебя жандармом за то, что ты оправдываешь действия лагершутцев. Ты поступил как фашист.
Альфред бледнеет, потому что в его понятии нет оскорбления более тяжелого, чем «фашист». Вот он растерянно стоит перед Сергеем, неожиданно забыв все русские слова, и вдруг садится за стол, спрятав голову в сложенные на столе руки.
Несколько минут длится тягостное молчание. Потом Альфред поднимает лицо и как-то глухо говорит:
– Иван Погорелов – кантовщик и лодырь. Он не ходит на работу и нарушает наш лагерный порядок, а не порядок наших врагов. Если каждый день на работу не выйдет тысяча человек, потом две тысячи человек, потом три тысячи человек, комендант скажет, что немецкие «политики» не могут руководить самоуправлением лагеря. Опять придут к власти «зеленые», бандиты, а ты, я и все политики пойдут в штайнбрух, а оттуда – в крематорий.
– Это понятно, Альфред. Понятно тебе, мне, понятно нашим людям, которые введены в курс дела, но это непонятно Ивану Погорелову и сотням таких же, как он. Пойми, что он тоже прав по-своему, потому что, укрываясь от работы, он с риском для жизни, по-своему тоже борется.
– Не нужна нам такая борьба одиночек, если они подводят под удар нашу организованную борьбу, борьбу масс. Ты назвал фашистом меня – немецкого революционера-профессионала и защищаешь отдельную личность только потому, что он когда-то был шахтером, комсомольцем, советским человеком. – Альфред выпрямляется на своем стуле и, заранее торжествуя, заканчивает. – Значит, я неправ только потому, что я немец? А где же ваш принцип интернационализма?
– Ты совсем запутался, Альфред, и мне тебя просто жаль. В данном случае Иван Погорелов не какая-то отвлеченная, одиночная личность, а часть массы. Да, да – это масса. Только по нашей с тобой вине это еще не организованная нами масса, не привлеченный к нашей борьбе человек, но уже стихийно ищущий способы сопротивления, способы борьбы. Когда мы пошлем его на производство не просто работать, а работать на нас, на организацию, вот тогда ты поймешь его ценность и красоту и тогда стыдно тебе будет за эту сегодняшнюю пощечину. В данном случае одиночкой оказался ты, Альфред, потому что кичишься опытом подпольщика-профессионала, а не понимаешь значения таких Иванов Погореловых, значения масс. Такие, как ты, играли какую-то роль в истории нашей революции во времена «Народной воли» и «Черного передела», но это уже пройденный этап, и возврата к нему не будет. Много еще с вами, чертями, придется работать, но мы все же повернем вам мозги в нужную сторону. В этом ты мне можешь поверить. Ну, давай, что ли, сигарету, а то уши пухнуть начинают.
Альфред выложил на стол начатую пачку сигарет, зажигалку и, глядя куда-то в пустоту, в угол, где за посудным шкафом начинали сгущаться вечерние сумерки, нехотя проговорил:
– Ты меня сильно обидел, Сергей. Мне сейчас больней, чем было Погорелову. Но я не сержусь за то, что ты ненавидишь немцев и Германию. Вы, русские, имеете на это право.
Сергей сел рядом с Альфредом и, положив на его ссутулившиеся плечи руку, очень проникновенно и взволнованно заговорил:
– Вот и опять ты неправ, дорогой Альфред. Как историк я всегда уважал вашу страну, ее славное прошлое, ее науку и искусство. Даже это богом проклятое место замечательно своим прошлым. Да, Тюрингия! Обжитая веками Тюрингия!..
Сергей уже не сидит. Он быстро ходит по комнате, задевая углы столов и скамеек полами полосатого халата. Глаза под очками светятся вдохновением, и даже ростом он кажется выше, стройнее. Альфред поворачивает голову вслед за шагающей фигурой Сергея, удивляясь перемене, происшедшей у него на глазах. А Сергей ходит, заложив за спину руки, и говорит о том, о чем, по-видимому, много думал.
– Да, Альфред! Прошло всего несколько дней, как срубили знаменитый дуб на вершине Эттерсберга. Могли предполагать Гёте, когда под этим дубом писал своего «Фауста», что это дерево доживет до иных дней, что этот дуб будет видеть, как черные волны человеконенавистничества зальют всю Германию, а на гордой вершине Эттерсберга загноится отвратительная кровавая рана человеческой культуры – концлагерь Бухенвальд. Давай, Альфред, закурим еще по одной в честь вашего хорошего прошлого и вашей культуры.
Вставив в мундштук сигарету и щелкнув зажигалкой, Сергей продолжал:
– Вот ты, Альфред, оправдываешь ненависть русских к вам, немцам. Но ведь этого не было. В нашей классической художественной литературе немцы изображались обычно добродушными, несколько чудаковатыми, честными тружениками, любителями сосисок, пива и хорового пения. Немецкие юноши были чувствительны и застенчивы. Немки обладали качествами хороших матерей и домашних хозяек. Для них пресловутые три «к» – киндер, кюхе, кирхе[31]31
Дети, кухня, церковь. (Нем.)
[Закрыть] были целью и смыслом жизни. И вот сейчас эти трафареты перечеркнуты историей. Мы видим «нежных и застенчивых» немецких юношей, которые зверски пытают свои жертвы. На фронте мы видели «добродушных» бюргеров, бросавших в огонь детей или разбивавших им черепа о булыжники. В бумажниках у них хранились семейные снимки вместе с порнографическими фотографиями проституток. Наконец, ты отлично знаешь, что из себя представляет Ильза Кох. Мы видели немецких дипломатов, которые за любезной маской скрывали звериный оскал хищника. Мы познали страну, которая под видом современного государства воскресила в своей общественной и политической практике инквизицию и средневековые пытки в таких масштабах, что знаменитый Торквемада кажется сейчас невинным младенцем по сравнению с Гитлером и его пособниками.
Будущие послевоенные историки Германии должны заранее готовиться к тому, чтобы дать ответ, как зародилась эпидемия садизма, ставшего неотъемлемой чертой гитлеровских молодчиков, как родился тот «белокурый зверь», появления которого жаждал Фридрих Ницше.
Ну, чего ты опять прячешь лицо? Я говорю правду я хочу, чтобы ты меня правильно понял и сделал для себя соответствующие выводы.
– Скажи, Сергей, ты был большим ученым?
– Нет, я просто русский коммунист. А почему ты говоришь «был»? Я был, есть и буду. Извини, но это закон диалектики. Пусть Сергей Котов сгорит в крематории, но я все равно буду, потому что я часть советского народа. Ну, хватит. Скоро поверка. Я пошел.
– Нет, подожди. А как же с Погореловым? Мне что, просить извинения?
– Не надо, Альфред. Я сам с ним поговорю, он поймет, а тебя прошу поддержать наше предложение, чтобы нам ежедневно выделяли определенное количество шонунгов, а кому их давать, мы сами будем смотреть. Кантовщиков не будет.
Прошло три недели. Косой дождь и ветер насквозь пронизывали полосатую одежду, вода хлюпала в колодках и по кистям рук струилась из рукавов. Продрогшие, бежали мы с аппель-плаца, подставляя спины ветру. Сергея догнал Альфред и, подхватив под руку, шутя потащил за собой.
– Скорей, Сергей, скорей. Очки простудишь!
В полутемном коридоре, отряхнувшись, как собаки после купанья, закурили предложенные Альфредом сигареты. Сергей достал откуда-то из-за пояса бумажный сверток и сунул Альфреду.
– Это продолжение нашего спора. Прочтешь сам и познакомь ваших товарищей. Гут нахт[32]32
Спокойной ночи. (Нем.)
[Закрыть].
Только после отбоя, когда в столовой комнате не осталось никого, кроме ночного дежурного, Альфред в своей штубе развернул мелко исписанную самодельную тетрадь из грубой оберточной бумаги и на первом листе прочел. «Национальный вопрос».
– Ты мне веришь, Сергей? – спросил я как-то Котова.
– Странный вопрос. Не имею основания и причин не верить. А почему ты задаешь такой вопрос?
– Видишь ли, я знаю, что конспирация имеет свои законы, но как-то не совсем полноценно себя чувствуешь, когда неясно представляешь все, что творится вокруг.
– В этом ты, пожалуй, прав. Это одна из самых отрицательных сторон конспиративной работы. Тут многое приходится принимать на веру. А тебя что, собственно, интересует?
– Ну, вот хотя бы, как возникла подпольная организация в Бухенвальде? Ведь с чего-то началось?
– Да, началось. Началось с того, что наша партия учит нас в любых условиях и при любых обстоятельствах оставаться верными своим принципам. Ну что ж, тебе-то я могу рассказать кое-что, хотя и не полагается, так как тебе, как одному из организаторов группы «М», следовало бы заниматься только чисто военными вопросами.
– А что такое группа «М»?
– Группа «М» – это военная секция, а название от слова «милитэр», то есть военный.
Весь вечер мы бродили по узким коридорам бухенвальдских улиц и не замечали, как разорванные хлопья тумана соединяются вместе и очень мелким, словно просеянным дождем орошают толевые крыши бараков, нашу одежду и вот уже образуют лужи на дорогах.
Сергей говорит, как всегда, с большим увлечением, и из его слов передо мной постепенно вырисовывается мрачная картина истории Бухенвальда.
– Первые заключенные Бухенвальда – это немецкие коммунисты-тельмановцы. Они же сами для себя строили этот лагерь, и уже значительно позже, когда чуть ли не вся Германия превратилась в сплошной концентрационный лагерь, в Бухенвальд начинают поступать социально опасные уголовные преступники, бандиты, саботажники и прочие. После убийства секретаря германского посольства в Париже фон Рата в Бухенвальд бросают 12 500 евреев. Их, буквально как селедки в бочки, утрамбовывают в пять временных бараков, отобрав все вещи, и несколько суток совсем не открывают бараков. Без воды, без пищи, в жутких антисанитарных условиях многие из них умерли, многие сошли с ума.
После оккупации Австрии, а потом Чехословакии в Бухенвальд загоняют первых иностранных заключенных, а в начале войны с Польшей, то есть с сентября 1939 года, в Бухенвальд потоком пошли поляки и особенно польские евреи. Рассказывают, что в особую клетку в 30 квадратных метров эсэсовцы умудрились загнать 104 партизанских стрелка из Польши и через месяц из них в живых остался только один человек.
Еще рассказывают, что по случаю покушения на Гитлера в мюнхенской пивной все евреи на трое суток были заперты в своих бараках без воды и пищи, а когда немецкие коммунисты организовали попытку поделиться с евреями едой, был наказан весь лагерь. Пять суток весь лагерь не получал пищи, и в результате сразу умерло более 1200 человек. А 16 сентября 1941 года заключенные Бухенвальда впервые увидели русских военнопленных. Только не в лагере, а по ту сторону колючей проволоки. Триста человек командиров и политработников Красной Армии провели в эсэсовскую конюшню, а оттуда вывезли в крематорий несколько крытых грузовиков трупов. Впоследствии из этой конюшни и оборудовали «хитрый домик», о котором ты, по-видимому, уже слышал. Много наших людей там сложило голову. Да это и понятно, если учесть всю ненависть, которую питают гитлеровцы к нам, русским военнопленным, а причина этой особой ненависти тоже понятна. Они отлично сознают, что каждый советский солдат, воспитанный Коммунистической партией в духе высокой политической сознательности, не только военный, но прежде всего убежденный идейный противник фашизма и, следовательно, подлежит первоочередному уничтожению. В том же 1941 году в конце октября пригнали еще 2000 человек военнопленных для обслуживания лагеря. Многие из них погибли по дороге, многие уже здесь, и только часть оставшихся в живых живет и сейчас в лагере военнопленных на отгороженных проволокой блоках № 1, 7 и 13. Как ты знаешь, они не считаются заключенными, они просто военнопленные, хотя подвергаются почти такому же режиму, как и мы грешные, а вот уже весной 1942 года начали поступать русские политзаключенные, вроде нас с тобой. В основном это люди отборные, это наиболее активный боевой элемент советских военнопленных и гражданских лиц нашей Родины, партизаны, партийные и руководящие советские работники. Это люди, не смирившиеся с условиями плена или рабства на оккупированных территориях, это люди, уже закаленные борьбой с фашизмом, имеющие опыт подпольной работы и изведавшие всю прелесть гитлеровского «нового порядка» в тюрьмах и застенках гестапо. Естественно, что такие люди не могли оставаться пассивными даже в условиях Бухенвальда. Вокруг наиболее активных, энергичных товарищей, в основном коммунистов, уже весной 1942 года начинают возникать небольшие разрозненные группы. Перовыми сколотили такие группы Василий Азаров, Василий Жук, Иван Ашарин, Александр Купцов и еще ряд товарищей, не подозревая о существовании друг друга, не подозревая, что в лагере военнопленных тоже существует несколько подпольных групп, созданных Николаем Симаковым, Степаном Баклановым, Михаилом Левшенковым. Само собой разумеется, что каждая из таких групп, действуя самостоятельно, не могла добиться каких-то существенных результатов и вносила разнобой в общее дело сопротивления фашизму. Помогло то, что все эти группы искали связи с немецкими коммунистами, имевшими уже тогда сильную подпольную организацию. Руководитель интернационального политцентра Бухенвальда немецкий коммунист Вальтер Бартель дает задание чешскому коммунисту Кветославу Иннеману связаться с руководителями русских групп и попытаться их объединить. И вот в марте прошлого года Николай Симаков из лагеря военнопленных созывает совещание руководителей этих разрозненных групп, и тогда избирается состав первого политического русского центра, и работа пошла планомерно, организованно, охватив все сферы лагерной жизни. Разработанная центром программа действий подпольной организации включает в себя и борьбу за моральный облик советского человека, и оказание помощи товарищам, и проведение антифашистской агитации и пропаганды, и укрепление интернациональных связей, и вредительство и саботаж на предприятиях, и что самое главное и основное – это подготовку вооруженного восстания. За каждый из пунктов этой программы отвечают определенные люди, а центр контролирует и направляет их работу. Вот так-то, дорогой Валентин.
– Здорово! Значит, я в Бухенвальд попал уже на готовое?
– Не, совсем так. И состав центра, и его отделы несколько раз пополнялись более способными, более нужными товарищами. Кроме того, когда мы с тобой попали в Бухенвальд, шел еще организационный период и нам удалось принять самое активное участие в осуществлении общей программы. Ты что, разве недоволен своим «детищем»? Я имею в виду твой ударный батальон.
– Я-то доволен, но я могу быть пристрастным, сам того не подозревая. Ведь они мне как родные, а вот как там, в центре, смотрят на мой батальон?
– Очень внимательно смотрят и тоже довольны. Большие надежды возлагают на твой батальон, поэтому и помогают, чем могут.
– Слушай, Сергей, а тебе что поручено? Если это не секрет, конечно, – спрашиваю я.
– Ишь ты, какой. Любопытство вообще считается пороком, а здесь, в Бухенвальде, тем более.
– Но ведь я не из праздного любопытства спрашиваю.
– Знаю, поэтому и отвечаю. Меня, Николая Кюнга и Ивана Ивановича Смирнова недавно ввели в состав центра. Руководит нашим центром по-прежнему Николай Симаков. Эх, если бы ты знал, Валентин, что это за человек. Умница! Мало сказать умница, это природный организатор. Теперь наш русский центр является русской секцией интернационального центра антифашистской организации Бухенвальда. Восемнадцать таких секций входит в состав интернационального центра, а мне почти со всеми из них приходится возиться.
– А до иностранцев-то какое тебе дело?
– Самое прямое, Валентин. Самое прямое. Меня назначили руководителем подпольного политотдела организации, так как же я могу допустить, чтобы у иностранцев оставалось такое исковерканное представление о Советском Союзе и советских людях? Приходится потихоньку поворачивать их мозги в другую сторону.
– И получается?
– С трудом, со скрипом, но получается. Уж очень голова у многих забита антисоветской пропагандой. Вот сейчас, кроме немецких товарищей, я занимаюсь с французами, югославами, поляками, итальянцами. Другие мои товарищи занимаются с группами других национальностей. Мы показываем иностранцам советскую действительность, разъясняем основные моменты ленинской национальной политики, вопросы строительства социализма в СССР, основные моменты из гражданской войны и начала Отечественной войны, вопросы истории нашей партии, вопросы философии и другие. Вместе с Кюнгом и Степаном Бердниковым удалось написать несколько брошюр, и сейчас их переводят и изучают наши иностранцы. Особенно удачными получились: «Дружба национальностей СССР», «Советская конституция», «Ноябрьская революция в Германии 1918 года», «Пятилетний план развития народного хозяйства в СССР», «О героизме и фанатизме», «Разгром немецких войск под Москвой», «Две тактики» Ленина и еще ряд других.
– Как же у тебя времени хватает на все это?
– У тебя же хватает, чтобы возиться с твоим батальоном? Спать приходится поменьше, только и всего. Да что иностранцы, и с русскими нелегко было первое время. Ты же знаешь, в каком психически-подавленном состоянии были люди первое время, сколько было самоубийств. Очень нелегко было бороться за душу советского человека, за его моральный облик, тем более когда знаешь, что за каждое неосторожно сказанное слово ожидает смерть после страшных пыток. Теперь значительно легче. Теперь работает широкая сеть политработников, теперь люди почти ежедневно знают сводки Советского Информбюро, знают о победах нашей армии. Теперь люди имеют надежду.
– Слушай, Сергей, а как удается получать сводки Совинформбюро? Меня давно интересует этот вопрос, но я как-то стеснялся тебя спросить.
– Как? По радио, конечно. Раньше нам немецкие товарищи давали, когда считали нужным, а теперь!.. Теперь у нас свой собственный радиоприемник и мы ежедневно знаем, что творится на фронтах.
– Здорово! А как же удалось достать приемник? Ведь его же где-то надо хранить?
– А его не доставали. Сами сделали. А хранится он в таком месте, что эсэсовцы частенько цепляются за него ногами или перешагивают, не догадываясь, что это приемник.
– Здорово! – опять восхищаюсь я. – До чего же наши люди – хороший народ! Это же такая силища!
– Не торопись, – перебил Сергей. – Всего год тому назад эти же люди перерезали себе вены, вешались или искали смерти, бросаясь на электрическую проволоку. Сейчас – это другие люди. Сейчас это люди, организованные Коммунистической партией, воодушевленные ею и выполняющие ее волю.
Большая, искренняя дружба связала меня с человеком со шрамом на щеке – Сергеем Семеновичем Пайковским, который занимался изучением нашей группы с первых дней ее прибытия в Бухенвальд. О многом узнал я от него. Человек большой души и неиссякаемой энергии, до войны партийный работник и политработник в армии, он был одним из первых инициаторов подпольной борьбы в Бухенвальде. Он дружит со многими немецкими коммунистами-подпольщиками и знает много такого, чего не знают другие заключенные.
– Вот ты проходишь иногда мимо крематория и думаешь, что это просто помещение, оборудованное для сжигания трупов. А тем не менее у бухенвальдского крематория есть и другое, не менее «благородное» назначение.
– Знаю, Сергей Семенович, – возражаю я, – знаю, что там жир для мыла вытапливают, знаю, что обгорелые кости на удобрения перерабатываются.
– Ничего ты не знаешь, а тоже суешься перебивать. То, что ты знаешь, все знают, а нужно, чтобы ты действительно знал все и своим ребятам порассказал, чтобы злее были. Видишь ли, крематорий не только уничтожает трупы, он еще и делает трупы.
– То есть?
– Очень просто. Почти каждую ночь к узенькой калиточке, что ведет во двор крематория, подходят крытые автомашины, и с них ссаживают закованных в цепи людей и выстраивают в очередь вдоль забора. Потом по одному вталкивают в калитку и, подкалывая сзади штыком, гонят по узкому тротуару, выложенному большими плитами вдоль стены крематория. Человек, конечно, ускоряет шаг и неожиданно проваливается вниз, а опустившаяся плита при помощи специальных пружин поднимается и становится на место. Тогда в калитку вталкивают следующего, и так далее, без всякого шума и сопротивления. Провалившийся человек скатывается с четырехметровой высоты по-крутому желобу, окованному гладкой белой жестью, и оказывается в подвальном помещении крематория. Там его уже поджидают эсэсовский офицер и Мюллер со своими помощниками. Ты знаешь Мюллера, капо крематория?
– Это «зеленый», который каждое утро с маленькой собачкой прогуливается? – и я вспоминаю плотную фигуру немолодого человека с зеленым значком уголовника на груди и мутными оловянными глазами.
– Вот, вот. Собачку он свою очень любит, а вот людей ненавидит страшной ненавистью, потому что боится. Кроме должности капо крематория, он выполняет еще обязанности главного палача. Так вот, оглушенного неожиданным падением человека он собственноручно бьет по голове тяжелой деревянной колотушкой, выточенной из дубового, дерева, а его помощники надевают на шею короткую петлю и вешают на крюк, для верности. Там в подвале все стены белым кафелем выложены, а в стены вделаны 48 больших крюков с заостренными концами.









