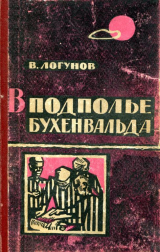
Текст книги "В подполье Бухенвальда"
Автор книги: Валентин Логунов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 15 страниц)
В подполье Бухенвальда
JEDEM DAS SEINE
Торопливо выпрыгиваем из темных, душных автомашин. Горький опыт, приобретенный в лагерях военнопленных, достаточно научил, к чему приводит промедление. Мне с Ивановым приходится прыгать вместе, так как моя левая рука короткой цепью прикована к его правой. Неудобно – зато крепко.
Глаза режет нестерпимо синее небо. Высоченные стволы сосен, облитые осенним солнцем, колышут где-то вверху темной хвоей разлапистых крон. Среди этих зеленокудрых гигантов особенно плюгавыми кажутся притиснутые к земле длинные щитовые бараки, окрашенные в темно-зеленый цвет. После тюремных камер, тюремных вагонов, тюремных автомашин, после постоянной тесноты и зловония хвойный настой осеннего воздуха дурманит голову.
Резкий свист плети и испуганный вскрик возвращают к действительности. Оказывается, запрещено смотреть по сторонам, запрещено оглядываться, запрещено разговаривать. Не запрещено повиноваться и пока еще дышать.
Всю нашу группу, прибывшую в двух тюремных машинах, выстраивают попарно и куда-то ведут. По теням на песчаной дорожке насчитываю 16 пар. Значит, нас прибыло 32 человека. Подводят к одному из длинных зеленых бараков. Скосив глаза, читаю над дверью белую надпись на черной дощечке: «Политабтайлюнг», т. е. политическое отделение, гестапо. Чувствую, что хорошего это не предвещает, т. к. всего месяц тому назад меня и моего товарища по побегам Иванова в городе Хемнице, в таком же заведении, пытали, загоняя спички под ногти. Всех выстраивают в одну шеренгу, вплотную лицом к стене. По-видимому, происходит передача нас новым хозяевам, так как за нашими спинами дважды проходят люди в форме СС, тыча в спины рукояткой плети.
Опять свист плети и вскрик. Кто-то оглянулся.
Долго стоим не шевелясь, пока в помещении совершаются какие-то канцелярские формальности.
Вот выходят два офицера и, брезгливо покосившись в нашу сторону, идут через пересеченную песчаными дорожками площадь.
Опять открывается дверь, и вместе с солдатом к нам подходит какой-то человек в темно-синем кителе и берете такого же цвета.
– Кончай стоять! – дает непонятную команду. – По-вашему «вольно», – и неожиданно хорошо, по-человечески смеется.
Осторожно отрываем носы от темно-зеленых досок барака, оглядываемся. Конвоя нет. Один только этот «темно-синий» с солдатом.
Обежав взглядом нашу шеренгу, он подходит к человеку с роскошными усами и, ткнув ему в грудь пальцем, спрашивает:
– Ты подполковник Смирнов?
Тот удивленно таращит на него глаза.
– Я подполковник Смирнов, – говорит стоящий рядом со мной пожилой человек в аккуратной солдатской шинели.
– Значит, я ошибался… Нет, ошибся… так правильно?
Кроме хороших, доброжелательных и, как ни странно в этих условиях, смеющихся глаз, обращает на себя внимание белозубая улыбка.
Солдат достает из кармана ключи и снимает с меня и Иванова наручники. «Темно-синий» с уважением осматривает статную фигуру моего друга и спрашивает:
– Ты Валентин? Логунов? Да? Бегун? Нет, беглец? Так правильно?
– Ты так все небо пальцем протыкаешь, – отвечает ему мой молчаливый товарищ Иван Иванов и тоже смеется, так как нельзя не ответить взаимностью на эту доброжелательность, сквозящую в каждой черте незнакомца. – Валентин вот, – и указывает на меня.
Человек с разочарованием и каким-то сожалением осматривает мою изможденную, тщедушную фигуру и достает из кармана пачку сигарет.
– Это для тебя. Голландские, – и совсем тихо, – ребята дают… нет? …передают.
Солдат уходит, позванивая снятыми с нас наручниками. Но кто же этот «темно-синий»? Судя по произношению – он поляк. На левой стороне груди его кителя нашит треугольник из черной материи с белой латинской буквой «P», на левом рукаве – широкая черная повязка с надписью белыми буквами: «Капо».
Но вот выношена опустевшая пачка от сигарет, вот обжигает пальцы последний курильщик, и наш капо разражается такой речью:
– Прежде всего спокой. Это Бухенвальд! Политический лагерь. Отсюда никто не убегал. Нельзя. Ты тоже не убежишь, Валентин. Чтобы жить – нужно помогать. Ты помогаешь, тебе помогают. – фройндшафт – это по-немецки дружба. Хорошее слово. Не забывайте этого слова. А сейчас по два человека в контору.
Тесно заставленная канцелярскими столами комната. Вороха серых папок, треск пишущих машинок. Среди всего этого кажущегося хаоса уверенно копошатся какие-то люди невоенного вида. Почти у всех на груди нашит красный матерчатый треугольник и номер, напечатанный черной краской на белом лоскуте.
Около стола оказываюсь вместе с подполковником Смирновым. Обычные, осточертевшие формулярные вопросы на смеси немецкого, польского, чешского языков. Мы уже научились немного разбираться в этом филологическом винегрете и отвечаем то, что считаем выгоднее для данного момента. Вскоре убеждаемся, что очень врать не имеет смысла, так как эти странные канцеляристы уже знают о нас из документов если не все, то очень многое. Как это ни странно, но из вопросов, которые нам задают, чувствуется, что эти люди стараются нам помочь. На вопрос о партийности подполковник Смирнов спокойно отвечает: «коммунист». Человек с одутловатым лицом старательно выводит на плотном бланке личной карточки: «Партайлёс», то есть «беспартийный».
– Так лютше… – и подмаргивает озорноватым глазом.
Когда выходим из канцелярии, в глаза бросается стенной календарь с жирной цифрой 23, и мельче «1943 год, октябрь».
У входа наши товарищи опять стоят лицами к стене, но на этот раз руки у всех заложены за затылок.
Пока спрашивают и регистрируют остальных, покорно стоим в нелепой, неудобной позе. Закинутые за затылок руки немеют, в душе зреет лютая злость.
По-видимому, один из эсэсовцев заметил, как я пытался переменить положение затекших рук. Удар кулака по затылку дублируется ударом носа о стену. Во рту солоноватый привкус крови, и вот она уже противными теплыми струйками сочится из разбитого носа, из разбитых губ. Совершенно непроизвольно делаю движение, чтобы зажать рукой разбитый нос, но острая боль обжигает сзади шею и часть щеки – второй удар плети рассекает на плече истлевшую от времени и пота гимнастерку. Догадываюсь, что ни при каких обстоятельствах нельзя снимать руки с затылка. Слезы бессильной ярости бегут по лицу, смешиваются с кровью, впитываются в нагретый солнцем песок у моих ног.
Наконец в канцелярии заканчиваются формальности по обработке нашей группы. Уходят куда-то эсэсовцы. Опять появляется добродушный поляк с повязкой «Капо» и разрешает пока опустить руки.
– Ждать будем. С завода идет колонна, – заявляет он.
Пользуясь отсутствием солдат, привожу свое лицо в относительный порядок и очень удивляюсь, когда один из соседей из рукава в рукав передает мне раскуренную сигарету.
– Писарь передал. Из канцелярии. Через форточку, – шепчет сосед.
Незаметно затягиваюсь из рукава терпким дымом крепкой сигареты и по неписаному закону советских военнопленных пытаюсь передать драгоценный окурок подполковнику Смирнову.
– Не надо, у меня есть. Кури сам, – чуть слышно шепчет Смирнов, и немного погодя так же тихо: – А это, оказывается, чехи. Там, в канцелярии.
Откуда-то издали начинает доноситься непривычный трескучий звук. Вскоре мы видим, как из-за поворота дороги вслед за группой идущих впереди конвоиров тянется длинная колонна людей в полосатой арестантской одежде. Их ноги, обутые в глубокие колодки, выдолбленные из дерева, издают своеобразный, ни с чем не сравнимый звук. У каждого на груди треугольник из цветной материи и пониже черный номер. У многих на одежде зловещей ржавчиной выделяются бурые пятна крови. По бокам колонны конвоиры с автоматами и хрипящими на сворках откормленными овчарками звероподобного вида.
Идут полосатые люди, едва переставляя в изнеможении ноги, и не чувствуется в них ничего живого, человеческого, одушевленного. Кажется, собрали много тысяч скелетов из всех анатомических музеев, облекли их в эту уродливую полосатую одежду, из рукавов и штанин которой бессильно болтаются конечности, лишенные плоти, и этот сухой треск издают не деревянные колодки, а кости в полосатых костюмах. Сколько нужно пережить голода, унижения и мучений, чтобы эти впалые глазницы приобрели такое равнодушное и безучастное выражение.
Колонну замыкают две громадные повозки, похожие на автомобильные прицепы, которые тащат сами арестанты. Повозка доверху наполнена человеческими трупами, прикрытыми рваными кусками толя. Большинство покойников голые; из-под толя виднеются закоченевшие руки и ноги, неестественно сведенные последними судорогами жизни. На обнаженных ногах мертвецов химическим карандашом крупно выведены номера. Проходит перед нами наше будущее, наше завтра во всей его неприкрытой откровенности.
Снова появляются эсэсовцы и вместе с капо строят нас парами. Опять идем по дорожкам, посыпанным желтым песком, и почти сразу же за поворотом выходим на широкую асфальтированную дорогу, ведущую к длинному приземистому зданию.
Покуда конец полосатой колонны, как улитка в раковину, втягивается в ворота-туннель, устроенные в центре этого здания, мы стоим на обочине дороги и осторожно оглядываемся, благо наши конвоиры, занятые разговором, не обращают на нас внимания.
Прямо над широкими воротами, в центре первого бетонированного этажа, возвышается надстройка второго, значительно меньшего по размеру, плоская крыша которого, обнесенная решетчатыми перилами, напоминает палубу военного корабля. Сходство дополняют установленные там спаренные пулеметы, мощные прожекторы, а в центре еще одна надстройка, еще меньшего третьего этажа, вроде мезонина, увенчанного башенкой с большими часами.
В обе стороны от бетонного здания разбегаются железобетонные столбы. Густой паутиной между ними тянется колючая проволока, прикрепленная к фарфоровым изоляторам, а на равных промежутках вдоль этого колючего забора возвышаются высокие, трехэтажные бетонированные вышки с застекленными кабинами наверху. Там видны солдаты около направленных на лагерь пулеметов.
– А проволочка-то под током. Видишь, на каких изоляторах укреплена. Не иначе как высокое напряжение, – шепчет кто-то сзади.
За длинным зданием огромная площадь и за ней приземистые длинные бараки. Судя по виднеющимся черным толевым крышам, бараков очень много. Дальше за ними тянутся мрачные, каменные двухэтажные корпуса. Целый город.
Видно, как колонна полосатых людей, пересекая площадь, втягивается в одну из улиц между домами и растекается по лагерю.
– Да! Местечко веселенькое, – констатирует высокий, худой военнопленный в непомерно длинной шинели, и сейчас же злой окрик:
– Руэ! Молчать! – глаза нашего капо из доброжелательных становятся злыми, колючими. Из правого рукава, как черный уж, высовывается плеть, неизвестно как там укрепленная, покачивая головкой утолщенного конца.
– Это брама. – кивает он на длинное здание с воротами в лагерь. – Здесь каждый должен молчать.
Замечаем, что от этой «брамы» вихляющейся походкой направляется в нашу сторону высокий эсэсовец.
Из-под пилотки выбивается клок белобрысо-рыжих волос. Бесцветные, глаза до странности пусты и невыразительны. Неряшливый мундир нелепо топорщится под слабо затянутым ремнем, отвисшим под тяжестью кобуры парабеллума. Да и сам пистолет поместился как-то не у места, посреди живота.
Широко расставив длинные ноги в непомерно больших сапогах, он рассматривает нас скучающим, безразличным взглядом, играя толстой плетью, искусно сплетенной из тонких проволочек.
Четверо из сопровождавших нас эсэсовских солдат щелкают каблуками и уходят.
– Марш! – картаво командует наш рыжий начальник и сам, не оборачиваясь, идет к воротам.
Торопливо идем за ним в сопровождении одного из оставшихся конвоиров и поляка с повязкой «Капо».
Широкий проезд под башней здания внутри прегражден чугунными решетчатыми воротами. Пытаюсь понять значение литых чугунных букв, искусно вмонтированных в верхнюю часть входной калитки: «Jedem das seine».
– «Каждому свое», – переводит кто-то шепотом.
– Звучит многообещающе, – так же шепотом отвечают сзади.
– Митцен аб! – неожиданно орет рыжий эсэсовец и для того, чтобы его правильно поняли, очень ловко, натренированными ударами сбивает концом плети шапки с голов идущих в передних рядах. Урок достаточно нагляден, и с обнаженными головами проходим под сводами нависшего над нами здания. Сзади металлической челюстью щелкает захлопнувшаяся за нами калитка с зловещей надписью, и вот мы в Бухенвальде, о котором кое-что слышали. Казалось бы, что после всего перенесенного бояться уже нечего, но все-таки жутковато.
Рыжий эсэсовец опять, расставив длинные ноги, долго рассматривает нас пустыми глазами и вдруг начинает быстро говорить.
При всем старании ничего не могу понять из его картавой речи, хотя за время скитания по немецким концлагерям сносно изучил немецкий язык. Вся его фигура расхлябанно болтается как на испорченных шарнирах, тонкие бесцветные губы кривятся не то в улыбке, не то в гримасе, руки беспорядочно жестикулируют. Говорит он долго, но когда кончает, то капо очень немногословно, но выразительно переводит:
– Пан командофюрер говорил, что на воротах брамы написано: «Каждому по-своему»… нет… каждый получит по работе… нет… по заслугам. Так правильно. Еще он говорил, что это есть один вход в лагерь. Другой вход нет. Выход из лагеря Бухенвальд тоже есть один. Вон там!
Мы дружно поворачиваем головы за его указательным пальцем и видим приземистое широкое здание, крытое черепицей. Широченная квадратная труба пачкает предвечернюю синеву осеннего неба густыми клубами черного дыма.
– Это крематориум. Все там будем. Я тоже. Только вы вперед, я – потом. Каждому по заслугам, – и опять смеется неожиданно добродушно. Так и хочется спросить, когда там будет этот рыжий эсэсовец. Но, так же неожиданно посерьезнев, поляк продолжает:
– Пан командофюрер сказал: кто будет хорошо себя водить… нет не водить… кто будет хорошо себя вести, хорошо работать, тот может иметь честь доживать до победа великой Германии и поехать в своя… в свою паршивая (так сказал командофюрер) фатерлянд… нет… отечество. Кто будет плохо вести, нарушать лагерный орднунг… нет – порядок, плохо работать для победы… для победы его фатерлянда – того ждет вот это!
Мы опять дружно поворачиваем головы за его пальцем, указывающим куда-то назад, в сторону ворот, и опять по нашим спинам бегут противные мурашки ужаса.
К бетонной стене правого крыла здания, под которым мы только что прошли через чугунные ворота, прикованы за шеи два человека. Впившаяся в мясо проволока туго стягивает руки, скрученные за спиной. Охватывающие шею стальные ошейники прикреплены к стене на такой высоте, что человек должен стоять в неестественно согнутой позе. Один, совершенно голый, без признаков жизни, висит на ошейнике, не доставая земли подогнутыми коленями. Фиолетовая голова обращена лицом к стене, как будто в последнюю минуту человек застеснялся своей позорной смерти. Другой, обнаженный до пояса, из последних сил старается удержаться на полусогнутых ногах. На распухшем лице еще живут и дико вращаются налитые ужасом глаза. Черный провал рта судорожно втягивает воздух. Скелетообразное тело иссечено багровыми полосами, во многих местах разорвавшими кожу. По кровоточащей спине и лицу ползают большие зеленоватые мухи.
Стоим бледные, подавленные. Даже капо смотрит как-то строго, сосредоточенно. Только в пустых глазах эсэсовца, внимательно наблюдающего за нами, вдруг появляются какие-то сатанинские искорки удовольствия.
– Гут? Карашо? – и, довольный, громко хохочет.
ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА
Баня! Наконец-то баня. В длинном, совершенно пустом помещении поспешно раздеваемся и прямо на пол, вдоль стены, складываем аккуратными стопками свою одежду, чтобы не перепутать. От воздуха, насыщенного жаркой сыростью, запахом мыла и какого-то ядовитого лекарства, от предвкушения горячей воды тело начинает нестерпимо зудеть и чесаться.
Повинуясь движению руки сопровождающего нас рыжего эсэсовца, голые, выстраиваемся около противоположной стены и замираем по стойке «смирно». Наш властитель проходит расхлябанной походкой вдоль аккуратного ряда сложенной нами одежды и, загребая левым сапожищем, сдвигает все в общую беспорядочную кучу. Большинство из нас относится к этому равнодушно, так как с нашими вещами терять нам почти нечего, исключая вшей, приобретенных в фашистских тюрьмах и лагерях военнопленных. Очень волнуется только один – худой высокий военнопленный.
– У меня же там фотокарточки. Из дома. Как же я их найду? – взволнованно шепчет он.
С неожиданной ловкостью эсэсовец делает громадный прыжок, свистит плеть, и от виска до подбородка высокого вспухает кровавый рубец. Дико вскрикнув, наш товарищ закрывает лицо руками и тут же падает от короткого удара кулаком под ложечку.
Эсэсовец, удовлетворенно посмеиваясь, уходит куда-то в полураскрытую дверь и оттуда гулко слышится его картавый разговор с кем-то из обслуживающих бани.
Стоявшие рядом поспешно ставят высокого на ноги. Капо приносит кружку холодной воды и тихо, но очень быстро говорит:
– Ну зачем болтаешь, пся крев? Это же Ганс Вернер. Он убьет за каждый слово. Если хочешь жить… нет, немножко больше жить – делай все бистро. Бегом. И молчи. Только молчи. Это Бухенвальд. Я говорил… – и неожиданно орет польские ругательства, остервенело замахиваясь на кого-то плетью. Оказывается, входит Ганс Вернер в сопровождении двух людей в чистой полосатой одежде с зелеными треугольниками на груди. Один из них вносит длинную скамейку, другой ставит на конец этой скамейки большой ящик с машинками для стрижки волос, бритвами, помазками и прочими парикмахерскими приспособлениями. Один из банных служителей, человек с толстым обрюзгшим лицом, дыша густым винным перегаром, деловито осматривает наши головы, сортируя нас на две группы, и приступает к странной обработке. Все в нашей группе в основном оказались со стрижеными волосами, но каждый проходил предыдущую стрижку в разное время, поэтому у одних волосы длиннее, у других короче. Первыми обрабатывались люди с короткими волосами. Им просто нулевой машинкой выстригалась «просека» от лба до затылка шириной в два с половиной сантиметра. Тем, у кого волосы оказались длиннее, той же машинкой выстригали обе половины головы, оставляя посредине, от лба до затылка, несостриженный гребешок волос шириной тоже в два с половиной сантиметра.
После такой стрижки даже за пределами лагеря легко можно узнать заключенного концлагеря по этой издевательской «прическе». Пока продолжалась эта «обработка», другой служитель быстро орудовал бритвой, освобождая заключенных от растительности на теле.
В это время Ганс Вернер поочередно выводит из смешавшейся общей толпы трех человек и заставляет их встать на скамью с поднятыми за головой руками. Три голых человека удивленно переминаются с ноги на ногу, не понимая, для чего их поставили на это возвышение. Но Вернер приносит несколько газет, свертывает одну из них в трубку и деловито щелкает зажигалкой. Начинаю догадываться о невероятном замысле Вернера, потому что обращаю внимание на то, что тела всех трех гуще, чем у остальных, заросли волосами. Крайним на скамье стоит невысокий, мускулистый армянин. Его грудь, руки и ноги почти сплошь покрыты черной, курчавой шерстью. Вот огонь бумажного факела лизнул его обнаженные ноги. Затрещали горящие волосы, армянин вскрикивает и дергает ногами. Свистит плеть и поперек лба и наискось через нос вспухает кровавая полоса. Демонстративно расстегнув кобуру пистолета, Вернер спокойно продолжает опаливание. Армянин скрипит зубами, но уже не кричит, не дергается. Двое других стоят бледные, окаменевшие, ожидая своей участи. Но вот шлепок по заду, и армянин спрыгивает со скамьи. Он неистово прыгает, дует себе на грудь, машет ладонями, пытаясь охладить обожженные места. Запах горелой шерсти вытесняет специфические запахи бани. Второй выдерживает такую же процедуру опаливания с удивительным мужеством. Ни стона, ни движения, только обильный пот ручьями струится по лицу, и капли его шипят, падая на горящую бумагу.
Третий – стройный, худощавый, очень молодой. В глазах мечется тоскливый страх.
Вернер с очередной зажженной газетой в руках очень внимательно рассматривает его тело, лицо и, неожиданно погасив свой «факел» сапогом, за руку стаскивает свою жертву со скамьи.
Вкрадчивым и даже ласковым голосом тихо спрашивает по-немецки:
– Ты еврей?
Парень из бледного становится каким-то синеватым. Он отрицательно мотает головой.
– А это что? – ревет вдруг Вернер, и страшный удар кованого сапога между ног заставляет его жертву, переломившись пополам, рухнуть на пол.
Откуда-то появляется миска с холодной водой. Вернер обрызгивает водой лицо молодого еврея и, когда тот медленно открывает глаза, опять тихо спрашивает:
– Скажи, ты еврей? – и дает ему напиться.
Сделав несколько глотков, тот отстраняет миску и с большим трудом медленно поднимается с пола. Вот он уже выпрямился во весь рост и стоит перед Вернером, неожиданно стройный и подтянутый. Что-то необыкновенно красивое, гордое появляется в его лице, осанке. С трудом верится, что этот человек всего минуту назад получил страшный, предательский удар.
– Да! Еврей! Доволен, собака? Я комсомолец и плюю на тебя, фашистский выродок. Понял?
Вернер несколько озадачен и рассматривает этот необычный, по его мнению, экземпляр.
– Я, я, ферштейн. Ком мит, ком мит[1]1
Да, да, понял. Идем со мной. Идем со мной. (Нем.)
[Закрыть], – очень ласково говорит он и, заботливо придерживая еврея под локоть, ударом ноги распахивает дверь в соседнее помещение. Дверь за ними остается полуоткрытой, и через эту дверь виднеются спускающиеся сверху душевые рожки.
Очень гулко в пустом помещении звучит пистолетный выстрел, и через полминуты Вернер возвращается, лениво вкладывая в кобуру еще дымящийся пистолет.
В течение нескольких минут, пока длилась эта трагедия, черный капо сбросил китель, засучил рукава и уже действовал бритвой, помогая банным парикмахерам. Первым он обработал человека с красивыми пушистыми усами, которого вначале принял за подполковника Смирнова, и странно, что, когда эти усы упали на бетонный пол, лицо обладателя их вдруг приобрело типичные еврейские черты.
– В кучу иди, до кучи, в середину, жидовская морда, пся крев, – и дает увесистый подзатыльник, после чего тот сразу же втискивается в самую середину нашей голой толпы.
Я заметил, что подполковник Смирнов понял, что я тоже слышал предостерегающий шепот черного капо, и, улучив минуту, почти не разжимая губ, он шепнул мне на ухо:
– Прикрывать надо. Якова-то! – я понял значение этих слов и передал то же Иванову. Пока продолжалась стрижка и бритье, Яков все время был окружен нами и скрыт от глаз Ганса Вернера.
Кажется, все «обработаны». Прокричав что-то непонятное в переговорную трубку, Вернер погнал нас в душевое помещение. Недалеко от двери, на полу, корчился молодой еврей с простреленным животом. Сквозь пальцы рук зажимавших рану, пузырилась кровь, маслянистой лужей растекаясь по цементному полу. Страшно входить. Мозг и нервы уже не переваривают этого концентрата ужасов, но сзади опять зловеще свистит плеть, и мы входим.
Из душевых рожков сначала клубится пар, потом брызжет вода. Мы получаем по маленькому кусочку шероховатого мыла, более похожего на наждачный брусок.
Кроме Ганса Вернера, появляется конвоир эсэсовец и становится в дверях, щелкнув затвором автомата. Он, по-видимому, подражая своему командиру, как-то лениво, небрежно прислоняется к косяку двери и натягивает на свое лицо презрительно-безучастное выражение. К отвисшей нижней губе прилепился окурок сигареты.
Справа от входа большой чугунный чан, наполненный зеленовато-грязной жидкостью, источающей ядовитый запах не то скипидара, не то карболки.
Черный капо тихо советует:
– Только скорее. Заплющи очи и скорее.
По очереди окунаемся в этот чан с головой. С диким подвыванием выскакивает из чана опаленный армянин и бросается под струи горячей воды. За ним окунаюсь я. Впечатление такое, что на выбритые части тела насыпали кучу раскаленных углей. Хочу тоже броситься под душ, но следом за мной окунается Яков, а его нужно «прикрывать» от глаз Вернера. Вместе с Ивановым помогаем Якову выбраться из чана и вместе бежим под душ.
Вода действует удивительно благотворно. Отросшими ногтями с наслаждением скребем друг другу спины, не замечая, что делается вокруг нас.
А в это время худой высокий военнопленный, который так беспокоился о пропаже фотографий и вошедший в душевое отделение в числе последних, только сейчас увидел молодого еврея с простреленным животом, плавающего в луже собственной крови. Он дико вскрикивает и пятится к двери, но, получив от солдата пинок в спину, падает около дезинфекционного чана. Один из полосатых служителей хватает его за шею и локоть и без видимых усилий, очень легко бросает в чан. Фонтаном разлетаются зловонные брызги. Когда из чана высовывается голова с широко открытым ртом и дико вытаращенными глазами, рука того же служителя опять погружает эту голову в вонючую жидкость, и так несколько раз. Через короткое время это барахтанье прекращается. Через борт чана безжизненно свисает голова с закрытыми глазами и широко открытым ртом. Худая неестественно длинная шея подергивается конвульсивными судорогами.
– Прочь! – рычит Вернер, и полосатый прислужник, угодливо улыбаясь, выбрасывает тело захлебнувшегося на цементный пол. Несчастный похож на рыбу, выброшенную на прибрежный песок. Спазмы рвоты чередуются с потугами глотнуть воздух. Как большой червяк, он извивается на полу длинным худым телом.
Естественно, что никто не моется. Все застыли, замороженные ужасом, не обращая внимания на струи горячей воды.
Вернер замечает это и, выхватывая пистолет, орет:
– Продолжай мыться! Быстро!
Его помощник, стоящий в дверях, вскидывает автомат. Мы моемся и незаметно наблюдаем за сценой у чана. Странно, что в безжизненных глазах Вернера опять появляется определенное выражение. Эти глаза горят торжеством победителя, упиваются властью, ликуют. Не важно, что эти голые беспомощные люди побеждены не им. Да и побеждены ли? Он чувствует их моральное превосходство, но не может упустить случая полакомиться хотя бы суррогатом, эрзацем торжества победителя. И он пользуется.
Рука с направленным на нас пистолетом дрожит, но он все же наступает кованым сапогом на горло лежащего перед ним человека и… давит.
Он не видит, как у человека под его ногой вылезают из орбит глаза, вываливается язык, он не может оторвать глаз от нас, потому что страшно боится, несмотря на нашу слабость и беспомощность.
Но всему бывает предел. Какая-то пелена туманом застилает мне глаза, в груди что-то перевертывается…
Как потом выяснилось, нас бросилось несколько человек. Меня перехватила сильная рука Якова, и, когда я упал, на меня повалились подполковник Смирнов, Иванов и еще несколько человек. Прикрыли.
Автоматная очередь, прострочив голую толпу, трех человек прошила насмерть, двух тяжело ранила.
Оставшихся 25 человек, голых, ведут по длинному коридору. Сопровождает нас только конвоир с автоматом и черный капо. Вернера не видно.
– Пошел шнапс пить, – сообщает капо, – у него нервы слабые, – и опять хорошо смеется.
Большое светлое помещение перегорожено большим барьером вроде прилавка. По ту сторону стеллажи с аккуратно сложенной одеждой. На полу кучи глубоких деревянных колодок, выдолбленных из дерева. За столами несколько человек, сравнительно хорошо одетых и не очень истощенных. Только по цветным матерчатым треугольникам на груди, преимущественно красного цвета, да по нашитым под ними номерам можно догадаться, что они тоже заключенные.
Капо отзывает одного из них к краю прилавка и по взглядам, бросаемым в нашу сторону, можно понять, что он рассказывает о всем случившемся.
Конвоирующий нас эсэсовский солдат невозмутимо усаживается на конец скамьи, около двери, приклеивает к отвисшей нижней губе очередную сигарету, щелкает зажигалкой и, кажется, забывает о нашем существовании. Даже не верится, что это он только что стрелял по толпе голых людей.
По личным карточкам по одному вызывают к прилавку и, окинув беглым взглядом, вручают охапку одежды самой разнообразной по качеству, фасону и изношенности. Обувь выбираем сами из кучи деревянных колодок на полу, но все старания подобрать по «размеру» все равно ни к чему не приводят. Дерево есть дерево. Там жмет, там режет, там трет. Кое-как облачившись, не узнаем друг друга.
Подходит человек, только что разговаривавший с капо, раздает нам по три комплекта красных матерчатых треугольников с латинской буквой «R», таких же, как у него самого, и по три номера на белых матерчатых лоскутах.
– Ну вот, товарищи, с этого момента можете забыть фамилии, имена, отчества. Некоторые забывают даже отечество. Помните только эти номера. Вы уже не люди, а «хефтлинги», т. е. каторжане.
– Простите. А вы сами уже забыли Отечество? По этой тряпочке я догадываюсь, а по языку уверен, что вы русский? – спокойно спрашивает Смирнов.
– Вы не ошиблись, товарищ подполковник, – и совсем тихо добавляет так, что слышим только я и Смирнов: – Я был, есть и буду русским, Отечество не забывал и никому не советую. – Его серые, внимательные глаза и красивое молодое лицо становятся строгими и непреклонными.
– Позже мы еще поговорим. Времени у нас хватит, – и, уже отходя от нас, добавляет: – А те фотографии мы найдем. И вернем их его родным, и расскажем о его большой любви и трагической смерти.











