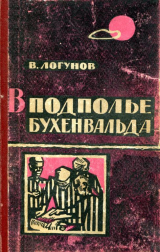
Текст книги "В подполье Бухенвальда"
Автор книги: Валентин Логунов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 15 страниц)
МАЛЫЙ ЛАГЕРЬ
Мы в малом лагере. Карантинные бараки, или, как их называют, «блоки», отгорожены от основного, большого, лагеря колючей проволокой. Это вместительные помещения сборно-щитовой конструкции, до предела набитые самой разношерстной толпой. Раскрытые настежь двери в противоположных концах здания, несмотря на постоянные сквозняки, не в силах очистить спертый воздух. Днем тусклый свет проникает сверху из небольших окошек, вделанных в устроенный над крышей световой фонарь. Все здесь напоминает, больше складское помещение или мастерские, чем жилье. Вдоль стен четырехъярусные нары вертикальными перегородками разделены на клетки. В каждую клетку ложатся по 6—7 человек головами к среднему проходу, для удобства подсчета «поголовья». Вдоль всего прохода длинные столы и деревянные скамейки.
Малый лагерь в самой северной части Бухенвальда, и прямо от колючей проволоки, отгораживающей этот карантин, на север, вниз по склону горы Эттерсберг, тянется «гертнерей», т. е. огород, а еще дальше главная ограда лагеря – проволока под током высокого напряжения. Сторожевые вышки сверху кажутся маленькими, не настоящими. За главной оградой, в глубину широкой долины, постоянно покрытой туманной дымкой, сбегает пустынный склон с игрушечными селениями вдали и разноцветными заплатами обрабатываемой земли.
Всех нас, 25 человек, оставшихся после бани, поместили в 59-й блок. Разношерстная одежда и лагерная стрижка с полосой посреди головы до неузнаваемости изменили нашу внешность.
У каждого из нас на левой стороне груди и на правом бедре нашит красный треугольник материи, «винкель»[2]2
Значок.
[Закрыть], с буквой «R», а пониже пятизначный номер на белом лоскутке.
Буква «R» обозначает, что мы русские, а красный цвет справедливо утверждает, что заключены мы за «политические» преступления. Как потом выяснится, преступления у нас почти одинаковые и заключаются в том, что все мы изо всех сил, при всех обстоятельствах старались оставаться советскими людьми.
В виде профилактики против побегов на спинах разномастной одежды у всех вырезаны четырехугольные «окна» с вшитой в них заплатой из полосатой материи.
Я и мой товарищ по прошлым побегам Иванов удостоены особой «чести», так как из всей нашей группы только мы двое одеты в полосатые арестантские костюмы из редкой, холодной ткани и, кроме винкелей и номеров, нас украшает дополнительный знак «флюгпункт», обозначающий, что мы особенно опасны в смысле побега. Это большой круг из белой материи, величиной с блюдце средних размеров с маленьким красным кружком в центре. Такие мишени у нас на правой стороне груди, на спине и на левом бедре, пониже кармана.
Понемногу знакомимся с основными законами жизни малого лагеря, где нам предстоит прожить 14 карантинных дней.
Каждый блок обслуживается четырьмя – пятью «штубендинстами»[3]3
Обслуживающий помещение.
[Закрыть], которые являются чем-то вроде постоянных дневальных или уборщиков. Они приносят и раздают пищу, следят за чистотой и под руководством блокового, тоже заключенного, но обязательно немца, осуществляют административные функции внутри блока.
В первые же часы нашей жизни в малом лагере один из штубендинстов, Димка, обстоятельно объяснил нам, что, кроме красных винкелей политзаключенных, существуют зеленые, обозначающие профессиональных уголовников, бандитов, черные – саботажников, фиолетовые – бибельфоршеров – сектантов, которые по религиозным убеждениям отказывались брать в руки оружие, и т. д. Причем немецкие заключенные носят чистые винкеля, без букв, а у иностранцев на винкеле печатается первая буква названия их национальности.
Как-то, отозвав в сторону меня и Иванова, штубендинст Димка шепотом предупреждает:
– А вы, ребятки, остерегайтесь. У нас флюгпунктщики подолгу не живут. Эту мишень не зря вам нашили. Вот после карантина погонят вас в «штайнбрух» (это каменный карьер), так вы старайтесь работать подальше от стены и быть все время среди людей. Как отошел чуть в сторону, тут тебя пуля и клюнет. За пресечение каждой такой «попытки к бегству» солдатам по трое суток отпуска дают.
– Спасибо, Дима! Примем к сведению.
Первые дни очень мучают деревянные колодки. Выдолбленные из цельного куска дерева, каждая из них имеет свой неуживчивый характер. Если правая во время ходьбы в кровь растирает косточку лодыжки, то левая давит большой палец и, как тисками, сжимает всю ступню. Со временем освоились с техникой пользования этой обувью. Где стеклом подскоблили, где тряпочку подложили.
Каждое утро, в 5 часов, штубендинсты, понукаемые блоковыми, энергичными толчками поднимают нас с нар и обнаженных по пояс гонят из блока к длинным умывальникам. За дверями клубится холодный, промозглый туман, мгновенно пронизывающий до костей наши истощенные тела. После умывания, посиневшие от осеннего холода, стуча зубами, стремглав мчимся в вонючую духоту барака, и начинается самое священное в нашей карантинной жизни. На столах уже лежат несколько буханок хлеба. Буханки аккуратно разрезаются на ровные кусочки, и старший каждого стола, вооружившись самодельными весами, из палочек и веревочек, подравнивает эти кусочки почти с аптекарской точностью.
Чтобы избежать споров при делении этих порций, кто-нибудь отвертывается к стене, а другой, прикасаясь к одному из кусков, кричит:
– Кому? – и отвернувшийся вразнобой называет присутствующих по именам, кличкам, особым приметам и т. д. Иногда старший стола дает «кричащему» список номеров своего стола, и тот вразнобой называет номера.
Пока идет эта дележка, штубендинсты приносят несколько бачков с черной, горьковатой бурдой, имеющей привкус жженной корки и именуемой кофе, и полулитровым черпаком делят по мискам. Иногда на барак дают несколько кубиков маргарина, и на порции хлеба раскладываются микроскопические кусочки этих «жиров».
Хлеб отдавал скипидаром. При его изготовлении к отрубям добавлялось до 50 процентов обыкновенных древесных опилок. Как потом стало известно, инициатором рецептуры изготовления хлеба для заключенных был не кто иной, как генеральный имперский уполномоченный по рабочей силе в Германии Заукель. Этот просвещенный государственный муж в одном из своих директивных писем с присущей нацистам наглой откровенностью требовал: «Всем мужчинам следует давать такое количество пищи, и предоставлять такого рода помещения, и обращаться с ними таким образом, чтобы это потребовало от нас наименьших затрат при максимальной их эксплуатации». Согласно этим инструкциям заработал целый аппарат при министерстве снабжения Германии и плодом «гениального творчества» этих ученых была создана рецептура эрзац-продуктов для заключенных и в частности для русских военнопленных. В одном из документов, попавшем в руки историков, чиновники министерства снабжения докладывали: «Попытки изготовить для русских специальный хлеб показали, что наиболее выгодная смесь получается при 50 процентах ржаных отрубей, 20 процентах отжимок сахарной свеклы, 20 процентах целлюлозной муки и 10 процентах муки, изготовленной из соломы или листьев». Потом кто-то из гуманных государственных деятелей, заботясь об экономических интересах «третьей империи», внес рационализацию, заменив сложную рецептуру древесными опилками, и это привилось. Сначала человек худел, становился слабым, анемичным, потом появлялись голодные отеки и, как было принято говорить, после двух-трехмесячной подготовки мог претендовать на место в раю посредством транспортировки через трубу крематория.
Мгновенно проглотив ничтожную суточную порцию эрзац-хлеба, запив ее горьким эрзац-кофе, не насытив, а только раздразнив свой желудок, по определенному сигналу все строятся на утреннюю поверку.
Выстраивались спиной к своему карантинному блоку, по десять человек в ряд, в затылок друг другу. Затейными громадами каменных блоков на главной площади лагеря шуршали об асфальт колодки, слышались звуки оркестра, чувствовалось дыхание громадной массы людей. Сквозь клубы густого тумана с трудом пробивался свет мощных прожекторов, заревом поднимаясь над крышами каменных блоков, слышались глухие, растворенные туманом команды через мощные рупоры. Что делалось там, на главной площади лагеря, какие там совершались таинства – нам было неизвестно, но стоять приходилось часа два, неизвестно чего ожидая. По какой-то непонятной команде все сдергивали шапки и замирали по стойке «смирно». Появлялись эсэсовцы, бегло просчитывали десятки, сверялись с данными блоковых и поспешно уходили. Боялись заразы и брезговали карантинными условиями.
Разбавленная рассветом, постепенно светлеет туманная мгла. Лицо, руки, одежда становятся влажными. Сырой холод проникает в самое нутро, так что кажется, человека можно выжать, как губку.
Получив команду расходиться, стремимся проникнуть в барак, чтобы согреться, но там идет уборка помещения. Штубендинсты, в основном хорошие, душевные ребята, отбивая натиск толпы, начинают звереть. Наш знакомый, Димка, закрывает широкой спиной дверь и, размахивая шваброй, неистово орет:
– Назад, вам говорят! Назад, идолы. Дайте хоть немного навести чистоту. Ведь вам же, паразитам, в чистоте легче сохранить вашу паскудную жизнь. Ведь чистота не для немцев, а для нас с вами. Ну как вы не понимаете, черти полосатые!?
И замерзшие полосатые черти, хотя и с трудом, но начинают понимать. Несмотря на слабость, многие прыгают на месте, бьют себя по бокам руками, чтобы как-то согреться. Некоторые садятся к самой стене, свертываются в три погибели и, натянув на голову свою скудную одежонку, пытаются согреться собственным дыханием.
Проходит еще часа полтора, и бухенвальдское утро вступает в свои права. Клочья разрозненных туч летят над нашими головами, цепляясь за верхушки деревьев, пропитывают все сыростью, и кажется, что нет уже ничего сухого в этом проклятом месте.
Наконец уборка закончена, и громадной толпой вваливаемся в помещение. Пахнет вымытыми полами и лизолом, который добавляют в воду для дезинфекции.
Четырнадцать дней карантина мы сами располагаем своим временем, и уже сейчас начинают проявляться индивидуальные особенности каждого. Вот пожилой украинец по-хозяйски усердно пришивает к подкладке своего пиджака большой кусок материи. Изобретает внутренний карман. Вот худой, дрожащий от холода человек носит на вытянутой перед собой ладони полпорции хлеба и, выпячивая большой кадык на худой шее, как-то очень жалко повторяет:
– За две закурки. Всего за две закурки.
Небольшой рыжеватый паренек с глазами навыкате самозабвенно хохочет, рассказывая трем собеседникам какой-то анекдот. Смеется только сам рассказчик, а двое его слушателей, хотя и смотрят на него, но не только не слышат, а пожалуй, и не видят, каждый думая о чем-то своем, далеком. Третий неожиданно зло, сквозь зубы бросает только одно слово:
– Балда! – и, круто повернувшись, уходит. Парень недоуменно хлопает глазами и умолкает.
Мой товарищ и спутник по побегам Иван сидит на краю нижних нар, уперев локти в колени и спрятав в ладони лицо. Все его большое, сильное тело выражает глубокую, безысходную тоску. О чем он думает? Может быть, о том, как в 1942 году пытался посадить свой горящий бомбардировщик и очнулся в плену? Или перебирает в памяти свою не очень длинную жизнь? Или вспоминает наши совместные побеги и скитания по штрафным лагерям и тюрьмам Германии?
Вокруг подполковника Смирнова, как всегда, крутится народ, и я замечаю, что не только авторитет старшего командира тому причиной. Вот он сидит за столом, сцепив пальцы сложенных перед собою рук. У него простое умное лицо и какое-то особое обаяние пожилого, повидавшего жизнь и умудренного ею человека.
Высокий лоб, широкие скулы, чуть курносый нос и очень внимательные серые глаза. Иногда эти глаза излучают отцовское тепло, разбрасывая к вискам лучики добрых морщинок, иногда отливают непримиримой ненавистью, но всегда в них чувствуется непреклонная твердость и воля. Разговор в этом кругу постоянно вертится около военных событий.
Сам Иван Иванович Смирнов говорит мало, сухо констатируя факты, ничем не выражая своего к ним отношения. Незначительным на первый взгляд вопросом или репликой он поддерживает разговор и дает ему нужное направление.
Кому-то возражая, он спокойно говорит:
– Военная история доказывает, что непобедимых армий не бывает. А немцы тем более не имеют сейчас оснований кичиться своей непобедимостью. Провал блицкрига – это уже первое поражение, спутавшее все их карты, несмотря на то, что тогда мы еще отступали. А поражение на Северном фронте, а под Москвой и наконец под Сталинградом! Вот и в эти дни оставляется один населенный пункт за другим, для выравнивания линии фронта. О чем все это говорит?
– Это говорит о начале конца, – хрипловатым баском констатирует Яков Никифоров.
– Это чей же конец ожидается? – угрюмо вопрошает свесившаяся с верхних нар голова с завязанной щекой. – Пока что-то будет, а нам здесь конец уже наступает. Попродавали всех еще в сорок первом, а теперь хорохорятся. Командиры!
– Постой… Так что же, по-твоему, сейчас немцы из Советского Союза по собственному желанию бегут, – ершится молодой паренек, – или их кто-то все же гонит?
– А ты друг, кстати, немецкого языка не знаешь? – обращается Яков к голове с подвязанной щекой.
– Ну, знаю. Третий год в плену. А что?
– Да так, ничего. Я недавно читал в немецкой газете, что с 1 февраля 1943 года, со дня завершения окружения группировки Паулюса, введено обязательное изучение немецкого языка.
– Где? У нас в армии? – спрашивает кто-то.
– Нет. Черти в аду изучают немецкий. Ожидают большое пополнение, – очень серьезно отвечает Яков.
Смеются все. Смеются не столько не совсем удачной остроте, сколько тому, каким она сказана тоном. Яков – неподражаемый мастер какого-то своеобразного, только ему присущего, юмористического тона.
Иногда вечерами, уединившись куда-нибудь в укромный уголок с небольшой группой более близких людей, Иван Иванович рассказывал о своей службе в армии. Рассказывать ему есть о чем, так как с 1918 года его жизнь неразрывно связана с армией. Тут и гражданская война, и борьба с интервентами, и долгие годы, посвященные обучению молодых командиров. В его рассказах чувствуется огромная любовь к родной армии, к нашим людям. Непосредственно о себе он почти никогда не говорит, и только от Якова Никифорова удается узнать, что глубокой осенью 1941 года начальник артиллерии дивизии подполковник Смирнов, дважды раненный, был взят в плен при выходе из окружения под Великими Луками. Тот же Яков рассказывает, что в Бухенвальд Смирнова бросили за активную антифашистскую агитацию в лагерях военнопленных, в которых им вместе пришлось побывать.
Яков Никифоров – почти полная противоположность спокойному, уравновешенному, выдержанному Смирнову. Может быть, и дружат они потому, что как-то дополняют друг друга. Яков – бывший артист Ростовского цирка. Врожденное чувство юмора, живой характер постоянно привлекают к нему людей. Это и хорошо, потому что Яков даже истощенных, потерявших веру в жизнь узников Бухенвальда может заставить смеяться, напомнить им, что они все-таки люди, и плохо, потому что после потери знаменитых усов лицо выдает его еврейское происхождение, а это не безопасно.
Как-то ночью, в зловонной духоте переполненного барака, под густой храп людей, спрессованных теснотой, мне пришлось услышать разговор Смирнова и Якова. Говорили они чуть слышным шепотом, и не моя вина в том, что я, притиснутый к ним, невольно все слышал.
– Главное – выжить, – шептал Иван Иванович.
– А толку?
– Толк найдем потом, когда освоимся.
– Выжить мы сможем. Штубендинсты обещали мне гитару достать. С гитарой я король в любой обстановке. Ведь я же музыкант-эксцентрик. Зря вы мою профессию не уважаете, Иваныч. Она кормит.
– Профессии я все уважаю. Плохо, если ты только с этой точки зрения смотришь на свою профессию.
– Ну, вам-то стыдно такое говорить, Иваныч. Вы же знаете, сами видели, что она кормит не меня, а сотни людей, которые в ней нуждаются. Ведь надо думать и о душе наших людей.
– Положим, душу виталисты выдумали.
– Да я же не о той душе говорю. Для меня важно, чтобы человек продолжал жить и не терять чувства своего человеческого достоинства. Для этого я и пытаюсь постоянно напоминать о том, что он, несмотря ни на что, – он человек. Вы же помните колонну «скелетов»? Они, наверно, забыли, что такое жизнь, и безропотно приготовились к смерти. Смирились. Эх! Добраться бы мне до этих «скелетов» со своей гитарой. Я бы их расшевелил.
– Трудно, Яша. Очень трудно. Вот и сейчас мы с тобой чувствуем запах горелого мяса. Это человеческое мясо. Это люди горят. Ты же видел, как круглые сутки над трубой крематория вместе с дымом выбивается пламя. Это горят «души», как ты их называешь. Страшно то, что люди теряют надежду, а следовательно, и способность сопротивляться.
– А может быть, если этим «душам» внушить, что они все же «человеческие» души, может быть, они больше не согласятся гореть?
– Вот в этом ты прав, дорогой. Вот отсюда и танцевать нужно. А пока… спать.
После этого невольно подслушанного разговора я долго не мог уснуть.
ЧТО ТАКОЕ ГЕРТНЕРЕЙ
Даже среди глубокой осени бывают дни, когда солнечные лучи выметают с неба грязные лохмотья разорванных туч и весь мир встает перед глазами человека в своей первозданной свежести и чистоте.
В один из таких дней мы сидели у стены своего барака, делясь слухами о событиях на фронтах Великой Отечественной войны. Подполковник Смирнов слушал наш спор, как обычно, рассеянно, лишь иногда бросая реплику – другую.
Тень от барака с противоположной стороны перекочевала на нашу сторону; не хотелось лишаться прощального привета осеннего солнышка, но и жалко было оставлять уютный уголок за бараком, где никто не мешал нам разговаривать по душам, без опасения быть подслушанными.
Только мы собрались уходить, как вместе с нашим штубендинстом Димой к нам подошел высокий молодой человек с круглым, свежим лицом, с веселыми черными глазами и большой щербиной между верхними зубами. Шепнув что-то Ивану Ивановичу, Дима сразу же ушел, а незнакомец, застенчиво улыбаясь, спросил:
– Ну как себя чувствуете, командиры?
– Того и тебе желаем, – ощетинился Яков. – Если бы ты, сапрофит, подошел ко мне два года назад, то, может быть, я стал бы с тобой разговаривать. Но сегодня мне почему-то твоя морда не нравится. Слишком она круглая на общем фоне, – закончил Яков хрипловатым баском.
Незнакомец не обиделся, очень спокойно сел на землю около Якова и, положив руку ему на колено, назидательно, как учитель неуспевающему ученику, начал объяснять:
– Голубчик, ты не прав. Я знаю, что сапрофит – это почти то же, что и паразит. Спасибо хоть за маленькое смягчение. Моя круглая морда мне самому не нравится, но что поделаешь, если мой кацапский организм даже из брюквы умеет извлечь все полезное. А поговорить нам следует, не считаясь с нашими симпатиями или антипатиями. Ты мне тоже меньше нравишься после того, как оставил в бане свои усы. Но все же я к тебе пришел и терплю твои грубости.
Всегда молчаливый и сдержанный, мой товарищ Иван, бесцеремонно взяв незнакомца за шиворот, поднимает его на ноги и, скосив на меня глаза, спрашивает:
– Я, наверно… провожу товарища?
– Отставить! – неожиданно властно бросает Иван Иванович, и это привычное по армии слово производит неожиданное действие. Незнакомец и Иван уже стоят по стойке «смирно», Яков убирает с лица ироническую улыбку, а я почему-то вынимаю руки из карманов.
– Садитесь, товарищи, – тихо говорит Иван Иванович и, подняв перед собой указательный палец, продолжает, упирая по-горьковски на «о»:
– Долг советского человека и мой жизненный опыт обязывают меня в какой-то мере взять на себя ответственность и за ваши судьбы. Кроме того, это моя обязанность как старшего по званию. Плен не снимает с нас наших солдатских обязанностей, поэтому прошу слушаться и… даже подчиняться. – Мы все, как по команде, встаем.
– Садитесь, садитесь. Это ни к чему. А теперь давай рассказывай.
Незнакомец усаживается около Ивана Ивановича на место, предупредительно уступленное ему Яковом, угощает всех сигаретами, причем сам оказывается некурящим, и очень задушевно говорит:
– Голубчики, вы в карантине всего шестой день, а я в лагере уже полтора года, поэтому нам следует, как у нас говорили, обменяться опытом. Меня зовут Василий. Через товарищей я примерно знаю всю вашу группу. Знаю подполковника Смирнова, знаю Якова Никифорова и даже о его очень успешных концертах в шталаге 4-Б, после которых власовские агитаторы боялись показываться в лагерь. Ведь было это, Яков Семенович?
– Гм! – удовлетворенно кашлянул в ответ Яков, по привычке проведя рукой по голой губе, где когда-то были усы.
– Знаю непримиримого беглеца Валентина, который вместе с Ивановым даже из Хемницкой, гестаповской тюрьмы сумел уйти. А удивляться этому не стоит. То есть моей осведомленности о всех вас. Война, к сожалению, кончится не завтра, а нам предстоит вместе жить. Мне кажется, что вам-то не следует разъяснять преимущество коллективного способа существования, причем в любых условиях. И вот я хотел…
В это время из-за угла барака выбежал человек в полосатой одежде, крича:
– Ребята, вы не брали белый кан (кувшин для воды)? – и, не дождавшись ответа, скрылся.
Василий мгновенно уселся на землю против Смирнова, усадив рядом с собой Ивана, образовав кружок. Потом каждому сунул в руки по несколько костяшек самодельного домино, сделанного из дощечек, с очками, нарисованными карандашом, быстро разложив на земле цепочку костей, соблюдая принятый игрой порядок, и принял вид человека, обдумывающего очередной ход.
Я пытался не выказывать своего удивления, Иван, как всегда, оставался бесстрастным, Яков откровенно хлопал глазами, выражая свое удивление, и только Иван Иванович от души смеялся.
Почти тут же подошел штубендинст Дима, посмотрел на нашу «игру» и как бы между прочим бросил:
– Кувшин-то нашелся, – и сразу же ушел.
Василий молча, ничего не объясняя, отнял у нас кости домино и сунул их в карман. Догадываюсь, что разговор о кувшине – какой-то условный разговор, какой-то пароль, а наш новый знакомый предложил пройти с ним на «экскурсию», как он выразился, «для первых впечатлений».
– Ну, чего-чего, а этих «первых впечатлений» у нас, пожалуй, уже более чем достаточно, – бурчал Яков.
Через переполненную разношерстной и разноязычной толпой улицу нашего маленького карантинного городка мы идем врозь, не теряя, однако, друг друга из вида. Этого почему-то потребовал Василий. Вместе собираемся в узком проходе между стеной одного из бараков и колючей проволокой.
– Вот садитесь и наблюдайте. Я приду через полчаса и объясню, что вам будет непонятно, – говорит Василий.
– Простите! Вы педагог? – спрашивает Иван Иванович.
– Да. Был педагогом, – и Василий уходит.
– Нет, каков гусь? – продолжает радоваться Иван Иванович.
– Это же силища, товарищи. Понимать надо!
– Простите! – очень похоже скопировал Смирнова Яков. – Мне непонятно, что вас приводит в такой восторг? Партнер забить козла в домино или его смазливая морда? Такие обычно встречаются на лубочных открытках с голубками, розами и неизменными поцелуями. Обычно она смотрит на него такими глазами, что можно подумать, что у нее в кармане уже лежит исполнительный лист на алименты, а он смотрит на нее как какой-нибудь начальник снабжения, заключивший незаконное трудовое соглашение. А где-то, в стороне, сердце! Неизвестно, кому из них принадлежит этот орган кровообращения, но обычно он бывает похожим на червонного туза и проколот стрелой, похожей на гарпун китобоя, и с конца этой стрелы…
– Не болтай, Яша. Тут, кажется, нужно как следует разобраться, – перебил Иван Иванович.
– Простите! – опять скопировал Яков, но тут неожиданно вмешался молчаливый Иван, произнеся всего одно слово:
– Конспирация!
– Как? Что? – удивленно уставился на него Яков. – Конспирация?
– Или провокация, – вставил я.
– Да… – задумчиво протянул Иван Иванович. – Может быть и то, и другое. Но даже если и провокация, то и то хорошо. Провоцируют тех, кого боятся. Это тоже чего-то стоит.
– Нет, вы посмотрите: чего они там носятся как оглашенные, – вмешался Яков, указывая за проволоку.
Я сам давно уже понял, что не зря привел нас Василий в этот удаленный уголок. За высоким, очень густого плетения забором из колючей проволоки, по сбегающему вниз склону горы, раскинулась большая площадь.
Кое-где еще темным бархатом огородной зелени тянутся длинные гряды. Местами сорванная ботва имеет золотистый, оранжевый или грязно-бурый цвет. Вдали черными провалами, как открытые гробы, зияют углубления парников. Рядом аккуратными штабелями сложены парниковые рамы. Еще дальше, за сооружениями, напоминающими стеклянные оранжереи, бегают полосатые люди. Не ходят, а именно бегают. Многие обнаженные до пояса, по двое, бегом таскают носилки. Кое-где виднеются фигуры вооруженных людей в черных шинелях, неподвижно наблюдающих за странной работой или медленно прогуливающихся. Людей в полосатой одежде очень много, и неестественная беготня своим темпом напоминает работу муравьев в растревоженном муравейнике.
Вот задний одной из пар, тащившей носилки, споткнулся и упал, уткнувшись лицом в землю. С уроненного конца носилок тотчас же на его голову плеснулась темная густая масса. Вот он вскочил на колени, пытаясь руками очистить залепленное чем-то лицо, но встать ему так и не удается. Подбегает какой-то человек в гражданской одежде и со всего размаха бьет его палкой по голове. Арестант беззвучно падает ничком, лицом в пролитую с носилок массу. Вот к нему бросается его товарищ, оставив передние ручки носилок, но человек с палкой и его остервенело колотит по голове, по плечам, старается попасть по лицу, и тот, закрывая руками голову, бежит. Видно, как человек с палкой догоняет его и сзади дает подножку. Арестант падает, но тут же вскакивает. Жестами он выражает возмущение, протест, но вот один из черношинельных людей вскидывает винтовку. В воздухе медленно плывет голубоватый дымок выстрела, и почти тут же доносится несколько запоздалый звук. Арестант как-то странно взмахивает руками и медленно оседает на землю.
А мимо бегут и бегут, как на старой киноленте, судорожно подергивая конечностями, полосатые люди с носилками.
– Ну за что же? – растерянно спрашивает Яков. – Не стало двух человек и все. Как не было. – Лицо его морщится, как от зубной боли, потом багровеет, и, уже не сдерживаясь, он кричит:
– Рвать! Зубами рвать! Каждый немец хуже бешеного зверя!
– А ну, тихо! – неожиданно говорит незаметно подошедший Василий и тише добавляет:
– Кстати, конвоиры в черных шинелях не немцы. Это русские. Вернее, бывшие русские. Немецкие солдаты эту команду не обслуживают. Слишком плохо пахнет. Русские предатели, те, что с винтовками, да немецкие заключенные-уголовники руководят этой командой. Эти ничем не брезгуют. А между тем название этой команды очень безобидное – «гертнерей», то есть огород. Наши ребята называют «Гитлер-рай».
– Да, но что они делают? И почему бегом? – спрашиваю я.
– Видите ли, кроме огородных культур для эсэсовского гарнизона и оранжерей, где выращиваются цветы для жен командного состава, на этом огороде имеется установка для переработки человеческих испражнений. Люди на носилках перетаскивают этот груз, нагружая его лопатами, а зачастую престо руками. Это сейчас ветер с нашей стороны, а то бы вы сами догадались, что у них за груз. А почему бегом? Да просто для того, чтобы люди быстрее ослабли и погибли от истощения. Вот так они и работают по 12—14 часов в сутки с получасовым перерывом на обед.
– Непонятно, зачем это издевательство. Если им нужно уничтожить людей, проще и быстрее было бы расстреливать, – замечает Иван.
– Нет… Тут другой расчет. Кто подлежит немедленному уничтожению, тех не стесняются уничтожать. Для этого существует «хитрый домик», крематорий, да и еще ряд «остроумных» способов. Вы еще все это узнаете сами. А эти люди и все мы, да и вы, по-видимому, подлежим медленному уничтожению. При Бухенвальде имеется три завода, принадлежащих частным фирмам, кстати, один из них непосредственно Заукелю. Сейчас мы с вами на себе испытываем то, о чем когда-то учили, как капиталисты действительно, как сапрофиты (спасибо, Яков Семенович, что напомнил это слово), высасывают все живые соки из людей. Конечно, кто-то из высшего эсэсовского начальства имеет на этом большие деньги. Кроме того, Бухенвальд поставляет рабов многим предпринимателям в разных городах Германии. Для этого создано несколько десятков так называемых внешних команд. Расстрелять, конечно, проще всего, а польза какая? А тут и рабочая сила, и нажива, и другие выгоды. Вот вы сами видите, что даже нечистоты идут в дело. Даже крематорий дает доход.
– Это что же, как отопление, что ли? – опросил Яков.
– Не как отопление. Как ни странно, а даже при сжигании таких доходяг[4]4
Так называли в лагере заключенных, дошедших до последней степени истощения.
[Закрыть], как наши заключенные, в печах крематория улавливается оттопленный жир, и его направляют на изготовление мыла. Остатки костей перемалываются на специальной мельнице, упаковываются в пакеты и тоже продаются как удобрение. Так-то, Яков Семенович!
– Черт-те что! Комбинат какой-то.
– Именно комбинат. Комбинат смерти. В этом вы еще убедитесь.
– Такого и на царской каторге не было, – тихо говорит Иван Иванович.
– Ничего не поделаешь. Прогресс. Цивилизация. Эти двое несчастных еще легко погибли. Чаще с уличенного в малейшей непокорности срывают одежду и голого бросают в яму с нечистотами. Каждый день из этой команды не возвращаются десятки человек.
– Неужели и те, русские, черные, так же лютуют?
– В них уже ничего не осталось не только русского, но и просто человеческого. Как правило, предатели – это прежде всего трусы, а трусы, если они имеют какую-то власть, особенно жестоки. Это доказано. Говорят, что многие из них стреляются, те, которые одумываются.
Подавленные увиденным и услышанным, мы молчим и не замечаем, как из-за угла барака к нам подходит плотный заключенный с зарубцевавшимся шрамом на левой щеке.
– Пойдем, Василий, – обращается он к нашему новому знакомому, – ребятам нужно идти на свой блок. Сейчас баланду принесут.
На прощание Василий дает каждому из нас по пайке хлеба и пачке сигарет.
– Только без вопросов, – заранее предупреждает он. – Просто ребята прислали.
Человек со шрамом беглым, но очень внимательным взглядом обежал наши лица, как сфотографировал, и они ушли.
– Кто же они такие? – задумчиво, как бы самого себя спросил Иван, подбрасывая на ладони пачку сигарет.
– Русские люди, – односложно ответил Иван Иванович и тут же уточнил: – Советские люди.










