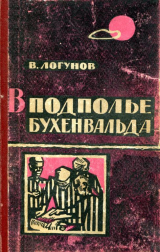
Текст книги "В подполье Бухенвальда"
Автор книги: Валентин Логунов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 15 страниц)
УДАРНЫЙ БАТАЛЬОН
Данила знает, что ко мне ходит много людей не для пустых разговоров, не ради «толковищ». Он с присущей ему деликатностью всегда под каким-нибудь предлогом уходит из штубы, чтобы дать нам возможность поговорить наедине. Пока, у меня находится кто-нибудь из посторонних, Данила ведет наблюдение за подходами к блоку и, если замечает опасность в образе какого-нибудь эсэсовца, приближающегося к блоку, сейчас же сообщает мне. Остальные штубендинсты, больные и прочий люд, остающийся в течение дня по каким-либо причинам на блоке, в основном входят в состав боевых групп, и если не знают точно, то в какой-то мере догадываются о моей роли на блоке. При всех мерах предосторожности все же не всегда удается скрыть свои разговоры с их непосредственными командирами. Прошлая слава беглеца и моя настоящая, непонятная, а потому таинственная роль поднимают мой авторитет и воспитывают какое-то трогательное доверие ко мне. Эта атмосфера взаимного понимания и сплоченности на блоке чувствовалась и ценилась руководителями подпольной организации, и, может быть, поэтому, соблюдая все меры предосторожности, ко мне иногда заходили Смирнов, Кюнг, Пайковский, Бердников и другие товарищи. Верили, что не одна пара надежных глаз оберегает нашу на первый взгляд безобидную встречу.
По поручению подполковника Смирнова часто даю задания своим командирам по разработке теоретических материалов. То восстановить по памяти какую-либо главу Боевого устава пехоты, то разработать меры противотанковой обороны, то способы ведения партизанской войны в густонаселенных районах. Все эти материалы передаются с одного флигеля на другой, и тщательно изучаются в каждой группе.
Со слов Смирнова я уже знаю, что наша работа по формированию боевых групп – это не просто «на всякий случай», это часть большого, тщательно разработанного плана, плана вооруженного восстания, а мой 44-й блок, как самый крупный из русских блоков, должен представлять собой ударный батальон прорыва.
Иван Иванович рассказывает мне, что разработано несколько вариантов восстания в расчете на различные возможные обстоятельства. Через нелегальные связи немецких коммунистов с внешним миром было известно о глубоком недовольстве и брожении среди немецких рабочих в Тюрингии. Более того, бухенвальдские коммунисты-тельмановцы и из-за колючей проволоки лагеря умудряются руководить этими настроениями, призывая народ к вооруженному восстанию. Следовательно, и русским отрядам приходится подготавливать себя на этот случай. Кроме того, не исключена возможность высадки воздушного десанта в районе лагеря и, наконец, приближение фронта с востока или запада.
– Все это, конечно, на всякий случай, но нам нужно быть готовыми и к этому, – говорил Иван Иванович, – а основная наша задача – не ждать обстоятельств, а самим подготовлять их.
– Но как? С чего начинать?
– А вот так. Ты со своими орлами займись-ка изучением района ревира. Оттуда через лесок и до эсэсовских казарм недалеко.
– Плохо, что мы не знаем местности по ту сторону проволоки, – сожалею я.
– Не беспокойся. Уже частично знаем. Будем знать еще лучше. Над этим вопросом работает специальная разведгруппа. Хорошо работает. Уже умудрились всунуть своих надежных людей и в казармы, и в эсэсовскую кухню, чернорабочими и уборщиками, разумеется, но народ грамотный и немецким владеет.
– Эх! Хоть немножко бы оружия на первый случай. Хотя бы, чтоб вышки обезвредить.
– Будет и оружие. Уже есть частично. Но это тебя пока не касается. Сейчас тебе предстоит разработать несколько вариантов штурма проволоки в районе ревира, блокирование и захват двух вышек и выход в район казарм СС. Вот это твоя задача на первое время. Действуй!
И я стал действовать. Через короткое время при помощи командиров рот мне удалось составить точный план своего участка прорыва. Не только все строения, сооружения и рельеф, но даже все расстояния и размеры были нанесены на этот план с большой точностью. За ротами закрепляются части этого участка, и территорию ревира начинают осаждать шныряющие повсюду группы людей, ничуть не больные и не имеющие никакого отношения к работе госпиталя. До каждого взвода, до каждого будущего бойца доведен определенный маршрут движения на случай штурма, и я с удовлетворением наблюдаю, как каждый человек использует любой удобный случай, чтобы изучить свой путь к свободе или свой последний путь. Каждый бугорок, каждая впадинка, канава или угол здания учтены и прощупаны определенными людьми. Из докладов командиров рот мне известно, что уже по собственной инициативе люди начали «вооружаться». Большим спросом вдруг стала пользоваться изоляционная трубка, и электрики, воруя ее на производстве, выменивают на нее хлеб, баланду или курево, не подозревая, что эта трубка натягивается на ручки обычных кусачек или ножниц для резки проволоки под электрическим током. Из рабочих команд с большим риском проносят в лагерь топоры, кирки, ломики и прячут в укромных местах.
– Ты знаешь тракторный каток для асфальтирования? Тот, что стоит около 46-го блока? – спрашивает меня ночью Федор Богомолов, штубендинст флигеля «Д», командир одной из моих рот.
– Ну, знаю. Это же развалина какая-то, металлолом.
– Ну так вот этот «металлолом» уже на ходу. Двое моих ребят около месяца над ним вечерами трудятся. Думаем использовать как таран для прорыва проволоки.
– Федя, ты и не подозреваешь, какой ты гений! Ты мне подал блестящую мысль, – говорю я и в течение двух – трех дней уточняю, сколько на нашем блоке шоферов и танкистов. Оказывается, порядочно, и при следующей встрече со Смирновым я предлагаю:
– А что, Иван Иванович, если нам создать мехроту? Собрать ко мне на сорок четвертый всех надежных шоферов и танкистов, а у меня для них уже командир есть. Геннадий Щелоков. Все марки автомашин и танков знает. И своих, и вражеских. Подучит ребят – может, пригодится?
– Постой, постой… А ведь это мысль! – и Иван Иванович многозначительно поднимает указательный палец, а через несколько дней за одним из столов на флигеле «С» разгорелся «профессиональный» спор. Радиаторы, карбюраторы, трамблеры и прочие специфические термины вскоре вошли в быт флигеля и никому не казались странными.
– Опять шоферюги загоношили, – говорил кто-нибудь из ребят.
– Ну и правильно. Не забывать же, чего знал, может, еще в будущем пригодится.
Неожиданно бурную деятельность развернул «Москва». По его просьбе с помощью Николая Кюнга мне удалось перевести на 44-й блок несколько его дружков, за которых он ручался «как за самого себя», по его же просьбе помог некоторым из этой «теплой компании» устроиться на завод «Густлов Верке», и результат превзошел мои ожидания.
– Валентин, Валентин! Да проснись же! – среди ночи будит меня «Москва», зайдя в штубу. – Разговор есть серьезный.
– Что за срочность у тебя? Давай, выкладывай.
– Выкладывать? – как-то многозначительно и лукаво улыбается «Москва».
– Думаю, что ты меня разбудил не для того, чтобы пожелать спокойной ночи?
– Хорошо, выкладываю, – и из-под нательной рубахи, откуда-то из-под левой руки, он кладет мне на грудь тяжелый сверток, обмотанный тряпкой. – Только осторожно, развертывай под одеялом, – предупреждает «Москва» и опасливо оглядывается на пустое помещение столовой с затемненным светом.
Уже по форме свертка чувствую, что это такое, и сердце начинает учащенно биться. И страх, и восторг одновременно теснятся в сознании. Торопливо развертываю тряпку, и у меня в руках оказывается нагретый теплом тела бельгийский браунинг. Привычно вынимаю обойму – полная. Не верится, что в руках оружие. Настоящее, долгожданное оружие! Это здесь, в Бухенвальде!
– Ты с ума сошел? Где ты взял?
– Молчи, Валентин. Все в порядке и точка.
– Я тебя спрашиваю, где ты взял?
– Не могу сказать. Это не мой секрет. Это секрет мастера.
– Я тебе покажу секрет мастера. Где ты взял? Это что, провокация? – я начинаю злиться, но тут же умолкаю, потому что из спальни кто-то идет в уборную, осторожно шаркая деревянными колодками.
– Ложись рядом, чтобы тебя не видели у меня среди ночи, – и «Москва» ныряет ко мне под одеяло.
– Да ты не бойся, Валентин. Все чисто сработано.
– Ты что, хочешь всех поставить под удар? Говори, где взял?
– Ну я же говорю, что все сделано толково. Эту дудку увели у одного цивильного[24]24
Цивильный – гражданский.
[Закрыть] мастера на заводе. Он сам будет молчать, как рыба, о своей пропаже. Ведь если узнают, где он потерял этот шпалер, ему прямая дорога сюда же к нам.
У меня немного отлегло от души. Доводы «Москвы», пожалуй, разумны.
– А кто знает об этом?
– Никто. То есть я и еще один парень, который увел.
– А мастер его не может заподозрить?
– Да нет же, он из другого цеха, случайно там оказался.
– Ну, смотри, «Москва», чтобы это было в последний раз.
– Да как же так? А мы как же? С голыми руками, что ли?
– Об этом не твоя забота. Об этом думают другие люди, они беспокоятся об этом. А то если каждый из нас займется, кто чем захочет, то черт знает что получится.
– Другие люди, – задумчиво тянет «Москва», – это как раз бы мне нужно поручить с моей братвой. У нас это лучше получится. Вот ты посмотри, – «Москва» срывается с моей койки и сейчас же возвращается с большим котелком в одной руке и с деревянной колодкой в другой.
– Вот если сюда налить немного баланды, то черта можно пронести, – и он с гордостью показывает мне свой котелок. Действительно, придумано остроумно. В котелок вставляется металлическая посудина, занимающая всего четвертую часть его объема, причем искусно загнутые и подогнанные края точно совпадают с краями котелка. Если чего-либо налить, то создается впечатление, что котелок полон, тогда как под фальшивым дном остается много пустого места.
– Да, котелок у тебя толковый! Прямо надо сказать, котелок у тебя варит, – говорю я. – А колодки зачем притащил?
– А вот смотри, – и «Москва» показывает мне колодки с аккуратно выдолбленными внутри вместительными; углублениями, – тут тоже можно кое-что пронести через браму.
– А ты что, собственно, собираешься проносить через браму?
– Как что? Оружие, конечно. По винтику, по пружинке, по детальке. Эх, не хотел тебе говорить прежде времени, но мы уже кое-что принесли. Только не полностью.
– Как принесли? Что принесли? Где вы все это прячете?
– Пока храним в старом подвале под прачечной. Там стенка разобрана, ну вот мы и оборудовали местечко. Уже на две винтовки и на полтора автомата принесли почти полностью. Вот только с крупными деталями туговато. На днях фурколонна[25]25
Фурколонна – большая повозка, запряженная людьми.
[Закрыть] будет возить щебень для ремонта дорог внутри лагеря, там двое моих ребят, вот они и перебросят через браму приклады и стволы. Они уже приготовили, только взять.
От неожиданности я не нашелся, что ответить этому бывшему вору, но в голову пришли слова Ивана Ивановича Смирнова, предупреждавшего, что можно ожидать больших неприятностей, если связаться с этой бесшабашной компанией.
– Ты понимаешь, Валентин, патроны тоже можно доставать, только нужно забросить несколько человек в пристрелочные цеха, – горячо шепчет «Москва» мне на ухо.
– Ладно. Иди спать. Что-нибудь придумаем. А сейчас спать хочу. Иди спи, – но весь остаток ночи спать мне уже не хотелось.
Мысли, какие только мысли не толпились в голове. Значит, даже здесь, в самом логове зверя, ничто не может подавить волю человека к свободе. Даже те, кого считали самыми ненадежными из наших людей, с громадным риском для жизни, под угрозой страшных мучений беззаветно идут на все, чтобы обеспечить успех общего дела. Нет ничего невозможного для наших советских людей.
– Валентин, ты немецкое оружие хорошо знаешь? – спросил меня Иван Иванович при очередной встрече.
– Хорошо – не хорошо, но знаю. А что?
– Ну, а какое немецкое оружие ты знаешь?
– Пистолеты знаю, пожалуй, всех систем; приходилось пользоваться. Ну, винтовку знаю, гранаты. Вот пулеметом немецким не пользовался, но думаю, что сумею разобраться, ведь я пулеметчик.
– Ну вот и хорошо. Тогда пойдем со мной. Только организуй охрану из надежных ребят, – и вечером, незадолго до отбоя, мы направились в малый лагерь. Несмотря на сгущающуюся темноту, я сразу замечал своих ребят, идущих впереди, плетущихся сзади или разговаривающих где-то в стороне. Охрана на месте.
Возвратился я как раз в тот момент, когда репродукторы прохрипели команду отбоя, а по темным улицам Бухенвальда мелким горохом рассыпались свистки лагершутцев. В моей штубе сидел Николай Кюнг и немец с красным винкелем – лагершутц.
– Где ты был так долго? В общем, у крайнего левого окна спальни на твоем флигеле «С» все время должен дежурить надежный человек. Лучше из коммунистов. Две вспышки фонарика с угла 15-го блока – и ты сейчас же весь «груз» передаешь через окно умывальника с первого этажа. Там будет ждать наш человек. За внешнюю охрану твоего блока не беспокойся, это мы обеспечим, но чтобы здесь, внутри… чтобы ни один лишний человек. Ты меня понял?
– Понял. Все будет в порядке.
– Ну, желаю удачи. Через час можешь начинать, а мне пора, – и ушел вместе с лагершутцем.
Через час в умывальной комнате нижнего этажа собрались командиры рот, разведчики и весь актив будущего ударного батальона. В нижнем белье, поеживаясь от холода и переступая босыми ногами на цементном полу, ребята недоуменно перешептывались, потому что до этого я никогда не собирал их вместе.
– Ты не знаешь, чего он нас собрал?
– Не знаю. На фронте что-нибудь новенькое, наверно.
– А! И ты здесь, Федя. Это что за «Совет в Филях»?
– Молчи, сейчас узнаешь.
А в это время Данила приносит длинную скамью и грязное ведро с торчащими из него тряпками мешковины. В коридоре слышится покашливание постового.
– Товарищи! – тихо говорю я. – Многие из наших людей и сейчас с сомнением относятся к нашей работе. Многие еще думают, что это простое самоуспокоение, для очистки совести. Некоторые числятся в наших рядах до тех пор, пока это их ни к чему не обязывает. Настало время еще раз, более тщательно пересмотреть людей и уже раз и навсегда решить – можем ли мы полностью довериться тому или иному человеку. Если еще сегодня каждый знает только своего командира, а об остальном может только догадываться, то уже завтра каждый будет твердо знать о существовании подпольной организации, потому что ощутимо, в собственных руках будет держать довольно веское доказательство. Вот поэтому я требую, чтобы командиры были абсолютно уверены в этом каждом. Если в отношении кого-нибудь возникает хоть малейшее сомнение, то пусть он пока ничего не знает. А сейчас… Давай, Данила!
Радостно улыбающийся Данила, как радушная, гостеприимная хозяйка, накрывающая стол для дорогих гостей, встряхивает чистое полотенце и расстилает его на скамье.
– Я не удивлюсь, если Данька сейчас горячие пельмени подаст, – шутит кто-то.
– И по чарочке, по сибирскому обычаю…
– Он же хохол. Скорее вареники или галушки подаст.
– Ще краще, ще краще, хлопцы, – смеется Данила, сверкая ровными зубами, и, порывшись в ведре, выкладывает на полотенце тяжелый тускло поблескивающий сталью маузер.
– О це вам вареники, – говорит он. Дружным вздохом отвечают ему застывшие от изумления «хлопцы».
– А о це галушки, – и рядом с маузером ложится грозный парабеллум. – А це мабуть пельмени? – и тупоносый аккуратный офицерский вальтер ложится на полотенце. – А це прочая закуска. – И Данила выкладывает гранату несколько необычной формы.
Неподдельный восторг светился в глазах собравшихся, и все руки непроизвольно рванулись к оружию.
– Стоп, товарищи. Начнем по порядку, – и я взял в руки маузер. Кто знает эту систему, отходи и не мешай другим. Времени у нас очень мало, а оружие нужно изучить так, чтобы можно было учить других.
И началось тщательное изучение. Кто-то заранее подумал и изготовил учебные патроны, а ребята, как люди военные, быстро освоили особенности вражеского оружия и по очереди заряжали, разряжали, собирали, разбирали, любовно оглаживая каждую деталь.
В следующие ночи при тех же мерах предосторожности и внешней охране помещения командиры рот по очереди проводят занятия с командирами взводов, а потом те в свою очередь со своими бойцами. И странное дело, чем больше людей проходило эти ночные занятия, тем больше изменялся облик всего батальона. Старшины столов, на обязанности которых лежало делить пищу и следить за чистотой, на глазах превращались в командиров, а разношерстно одетые, голодные, измученные каторжным трудом хефтлинги – в подтянутых, дисциплинированных бойцов. По вечерам все чаще стали слышаться шутки и смех, распоряжения столовых звучали как команды и выполнялись безоговорочно, это уже была не толпа арестантов, это была организованная и крепко спаянная масса. Люди поверили в организацию, в свою силу. Люди подняли голову.
„МЫ – РУССКИЕ, СОВЕТСКИЕ!“
Нет ничего прекраснее развернувшейся, раскрывшейся во всей широте своей в грозную годину души русского человека.
Как-то в Хартсмансдорфе, избитый и истерзанный после очередного побега, я в полузабытьи лежал на деревянных нарах. Какой-то шум и галдеж, необычайный в ночное время, привлек мое внимание и заставил спуститься с нар. Били полицая. Эти выродки, не угодив чем-либо своим хозяевам и попадая в среду пленных, обычно подвергались суровой каре. Озлобленные люди не знали пощады, выплескивая на предателей весь свой справедливый гнев и ненависть.
– Зря бьют, – с сожалением покачал головой пожилой человек. – Совсем он не полицай, а баянист. Я его знаю.
– Так чего же ты молчишь, болван? – возмутился я.
– Да разве их сейчас остановишь? Озверел народ.
Пришлось разбудить Ивана и вместе с ним удалось остановить избиение. Действительно, оказалось, что парень никогда не был полицаем. Его видели среди полицаев в одном из лагерей военнопленных играющим на баяне, и это обстоятельство чуть ли не стало для него роковым.
– Спасибо, Валентин, – всхлипывает парень, вытирая кровь с разбитых губ. – Обидно же… от своих, – и он сокрушенно машет рукой и вдруг с чувством добавляет: – Я этого тебе не забуду, Валентин. Может, еще встретимся.
И мы действительно вскоре встретились. После побега из штрафной команды «Риппах», невдалеке от города Вайсенфельс, откуда нам удалось увести за собой всю команду, 32 человека, нас опять привезли в Хартсмансдорф. На этот раз на двери нашей одиночки в карцере черной краской нарисовали крест и обычную задвижку заменили, громадным замком. И мы, и другие заключенные карцера твердо решили, что на этот раз наша песенка спета. Сколько хорошей человеческой заботы и внимания уделяли нам остальные заключенные в эти дни! Пользуясь любой возможностью, в наш «волчок» совали и табак, и сигареты, и спички, и хлеб, а французские беглецы даже шоколад и конфеты. Долгими, бесконечно долгими показались нам две недели в ожидании смерти. На куске хлеба и кружке воды без горячей пищи и воздуха мы окончательно ослабли и еле волочили ноги, когда нас вывели из камеры в служебное помещение. Три рослых молодчика в гражданской одежде с особой тщательностью обыскали нас, прощупав каждый шов одежды. Отобрали все до носового платка и личного номера включительно.
Лучи солнца резанули по отвыкшим от света глазам, и снова полная темнота. Нас втолкнули в тюремную автомашину. На обитом железом полу, кроме нас с Иваном, скорчились еще четверо. Двое из них совсем раскисли в ожидании смерти, один молчит, но четвертый с жаром хватает мою руку и горячо шепчет:
– Валентин? Вот здорово! Я думаю, как только выведут из машины, сразу в разные стороны. Пусть гады стреляют на бегу.
Оказывается, это Ленчик Бочаров, незадачливый баянист, которого чуть не убили, приняв за полицая. Решили действовать по обстановке. Но бежать в тот раз нам не пришлось. Из машины нас высадили во дворе гестапо, и из военнопленных мы превратились в арестантов.
Хороший боевой паренек Ленчик Бочаров с тех пор почти не расставался со мной, всюду стараясь сделать для меня что-нибудь хорошее. Вместе со мной он бежал из гестаповской тюрьмы в городе Хемнице и всего двумя месяцами позже меня оказался в Бухенвальде, а «всемогущий» Николай Кюнг по моей просьбе перевел его на мой 44-й блок.
Ленчик был рязанцем, но за ним укрепилась кличка Курский Соловей, по-видимому, за его живей неунывающий характер и раздобытую где-то двухрядную гармонь. Часто вечерами эта гармонь своими задушевными переливами уносила измученных людей из тесных бараков Бухенвальда на широкие просторы Родины, к родным полям и перелескам Рязанщины, к садам Украины, к богатырским лесам Сибири. Очень хорошими, отрадными были эти часы, и, может быть, благодаря этому Ленчика особенно любили.
В один из летних, на редкость солнечных дней в блоке заканчивалась уборка помещений. Работали и штубендинсты, и больные, и освобожденные от работы по «шонунгу», и особенно старались «кантовщики» во главе с Ленчиком.
Через распахнутые окна лучи июньского солнца ласкали чисто протертые столы, скамейки и светлыми заплатами ложились на еще мокрые после мытья полы.
Вернувшийся из умывальника Ленчик, повесив полотенце, погладил чистой рукой блестящую черным лаком гармонь, стоявшую посредине стола, и просительными глазами посмотрел на меня.
– Валентин… Разреши немножечко?
– Не надо, Ленчик. Окна открыты. Пусть проветрится помещение.
Вздохнув, Ленчик переставил гармонь к самой стенке и заходил по комнате, явно не зная, на что употребить время, неожиданно оказавшееся свободным. Не только я заметил, как он несколько раз подходил к своей гармошке, переставляя ее поудобнее, как во время бесцельной ходьбы по комнате его глаза все время тянулись к ней же.
– Хай сыграе хлопец. Тихесенько, – пробасил из-за крайнего стола украинец Осипенко, удобнее устраивая на груди больную забинтованную руку. И я сдался.
– Ладно. Все равно не отвяжешься. Только чтобы чуть слышно.
Счастливо блеснув глазами, Ленчик мгновенно уселся на угол стола, быстрыми пальцами пробежал по ладам, и комната заполнилась тихими, но такими родными и такими неестественными здесь, в Бухенвальде, звуками.
Почти без переходов он играл русские песни, песни из знакомых, любимых кинофильмов, грустные, но всегда такие прекрасные украинские мелодии. В свое исполнение он сумел вложить столько души и сердечной теплоты, столько искренней человеческой тоски, что у меня почему-то начало щекотать в горле, что-то сжалось в груди. Старый Осипенко, сидя в своем углу, прикрывал лицо забинтованной рукой, в дверях и коридоре застыли больные и штубендинсты из других флигелей.
Но оказалось, не одни мы слушали эту чудесную музыку, исполняемую на простой русской двухрядке. По пустынным в этот рабочий час каменным улицам Бухенвальда шел блокфюрер СС. Долго стоял он перед каменной громадой 44-го блока, вслушиваясь в незнакомую, но такую красивую музыку, льющуюся из открытых окон второго этажа. Что-то надумав, крадущейся походкой поднялся по лестнице и никем не замеченный остановился в коридоре за спинами слушателей, толпящихся в дверях. Цепким взглядом обежав затуманенные грустью лица присутствующих, он с удивлением уставился на исполнителя, сидящего на углу стола.
А музыка лилась, лилась, и уже казалось, что нет этих опостылевших стен, нет виселиц, нет крематория и самого Бухенвальда, казалось, что нет никакой войны. Да и зачем она, когда жизнь так хороша и красива?
Но вот замерли последние звуки. Никто не шелохнулся – так не хотелось расставаться с мечтой. Даже Ленчик продолжал сидеть в той же позе, прижавшись щекой к двухрядке.
И вдруг в этой мертвой, благоговейной тишине неожиданно громко и как-то ненужно раздались аплодисменты. Аплодировал эсэсовец, известный всему лагерю палач и убийца.
Я скомандовал обычное «Ахтунг», хотя это ничего не изменило: от неожиданности и так все стояли, застыв как изваяния. Блокфюрер шагнул в помещение, благосклонно махнул рукой: мол, продолжайте, вольно – и подошел к вытянувшемуся перед ним Ленчику.
– Карашо, рус, отшень карашо. Музыкант, – по-видимому, на этом исчерпав весь запас известных ему русских слов, эсэсовец уже по-немецки коротко приказал:
– Всем сесть. Пусть играет еще, – и уселся сам, как бы показывая пример.
Ленчик сам понял его приказ и с дерзкой независимостью опять устроился на угол стола, поставил ногу на скамейку. Сели и остальные.
– Спроси, Валентин, что играть этому гаду?
Я перевел.
– Все равно. Пусть играет, что хочет, – махнул рукой эсэсовец. В глазах Ленчика блеснул злой и в то же время лукавый огонек.
– Переспроси еще раз. Пусть повторит, – упрямо мотнул он головой. По-видимому, решив, что я неправильно перевел его ответ, эсэсовец еще раз, более отчетливо, повторил:
– Пусть играет, что хочет.
– Ну так я же тебе сыграю, – и, не ожидая моего перевода, Ленчик вскочил со стола, встал по стойке «смирно» и с застывшим выражением лица на всю мощь растянул свою двухрядку.
Неожиданно громко и торжественно звуки «Интернационала» наполнили комнату, вырвались из открытых окон и поплыли над каменными корпусами Бухенвальда, над трубой крематория, перекинулись через колючую проволоку и, казалось, заполнили буковые леса Тюрингии, всю Германию.
Все заключенные уже стояли по стойке «смирно», когда до сознания эсэсовца, наконец, дошло, что играет Ленчик. С побледневшим лицом, бросив вороватый взгляд на открытые окна, он подскочил к Ленчику и неизвестно для чего зажал ему рукой рот, но даже в таком неудобном положении Ленчик продолжал играть.
Поняв всю нелепость своего поступка, эсэсовец, наконец, вырвал гармонь и ударил ею Ленчика по голове. Даже когда эсэсовец выхватил пистолет, Ленчик невозмутимо продолжал стоять перед ним, вытянувшись в струнку. Не было страха в лице этого парня. Бесконечная ненависть и презрение светились в его глазах, и эсэсовец растерялся. Обежав взглядом лица присутствующих, он увидел на них то же выражение.
– Идиот! Ты идиот! – прохрипел он, покрутив у своего виска стволом пистолета. Со злостью ударив ногой по валявшейся на полу гармони, как будто она была причиной его позора, он быстро вышел из комнаты.
Очень бледный Ленчик прошел в спальню и ничком бросился на первую же койку. Кто-то из ребят бросился за ним следом, но их остановил властный окрик старого коммуниста Осипенко.
– Назад, хлопцы! Зараз ему треба побути одному. Так лучше будет.
К нашему удивлению, Ленчика не уничтожили и даже не наказали. Кто знает, может быть, потому, что блокфюрер СС не мог забыть выражения грозной решимости на суровых лицах заключенных и опасался справедливой мести.
Мой помощник по должности штубендинста Данила был мною принят как наследство от бывшего штубендинста.
– Ни рыба ни мясо, – сказал мне мой предшественник, характеризуя этого замечательного человека. – Советую выгнать.
Но жизнь показала, что Данилу плохо знали.
Бывают люди скрытные, бывают люди замкнутые, бывают хитрецы и лицемеры, умеющие показать себя с лучшей стороны. Данила не обладал ни одним из этих качеств. Он был просто украинским парубком с Полтавщины, где окончил десятилетку. Благодаря своим способностям и упорству уже во время войны он блестяще окончил полковую школу, а через некоторое время стал младшим лейтенантом. Все в этом человеке: и улыбка, и глаза, и лицо, и душа – было ясным и светлым, как стеклышко на ладони.
Взяли его немцы в тот момент, когда он пытался добыть «языка» где-то под Кировоградом, и пошли путаные дороги по лагерям военнопленных, рабочим командам, пешим маршем и в «телячьих» вагонах, и довели эти дороги полтавского паренька до зловещей «Неметчины».
Измученный побоями, обессиленный голодом, Данила мог только мечтать о побеге до тех пор, пока судьба в виде приказчика немецкого фабриканта не привела его на брикетный завод.
Маленький старинный городок островерхими черепичными крышами царапал синеву неба, пика собора, казалось, прокалывала высоту, узкие кривые улицы блестела отшлифованными голышами мостовых.
Вместе с несколькими новичками Данила влился в небольшую, но дружную команду, работавшую на брикетном заводе. Многие из ребят, прибывших раньше других, завели дружбу с немецкими рабочими и благодаря их помощи не очень голодали. Они же помогли Даниле крепче встать на ноги.
На заводе работала группа русских девушек, насильно вывезенных в рабство, и Данила часто до глубины души возмущался тем, что девчат заставляют делать ту же тяжелую работу, что делали и они, мужчины.
– Та що ж воны матерей, жинок чи дочек не мают, чи що? Хиба ж це можно так занущаться над девчатамы?
В течение дня военнопленные работали вместе с девушками, знали друг друга, делились, чем могли, по возможности помогали. Даже вечером после отбоя можно было говорить через проволоку, отделяющую девичий барак, и даже передать бельишко для стирки или починки. Охраняющие этот маленький лагерь несколько стариков, втиснутых в солдатский мундир по тотальной мобилизации, махнули на все рукой и не обращали ни на что внимания: мол, делайте, что хотите, только не убегайте.
И вот тогда неожиданно, не ко времени и не к месту пришла к Даниле любовь. И пришла не бедной просительницей, робко постучавшись в сердце, а властно, как хозяйка, завладев всей его открытой настежь для всего доброго душой. Возможно, простая человеческая жалость, разрывавшая сердце Данилы, была предшественницей этого могучего чувства. Уж очень маленькая, хрупкая и беспомощная была эта сероглазая Настенька из далекого псковского села, уж очень удивленно смотрели на окружающее ее большие глаза в темных ресницах. Поняв всю нелепость случившегося, Данила всеми силами старался побороть в себе это чувство, но было уже поздно. Незаметно для себя он почти весь рабочий день старался быть к ней поближе и, несмотря на подзатыльники мастеров, отбирал из ее рук наиболее тяжелую работу. Пытался передавать ей что-нибудь из съестного, сэкономленного из своего пайка или добытого у немецких рабочих.
– Что ты, Даник? Не нужно. Много ли мне надо, – обычно отказывалась она, краснея.
Девушки с присущей им на этот счет наблюдательностью первые заметили, что творится с парнем, и вскоре Данилова любовь ни для кого в лагере уже не была секретом. По молчаливому соглашению и военнопленные, и девушки из хорошего сочувствия всеми мерами старались сделать так, чтобы на работе Данила и Настенька работали поближе друг к другу.
– Да бросьте, девчата, – смущаясь, отмахивалась от подруг Настенька. – Просто он очень хороший, душевный человек, а вы – любовь. – Но у самой как-то уж очень сладко замирало сердце в ожидании начала тяжелого рабочего дня, где она опять увидит этого красивого и такого ласкового парня.
– Почему же он мне снится по ночам, если это не любовь? – про себя недоумевала Настенька, просыпаясь в душном бараке, и не находила ответа.










