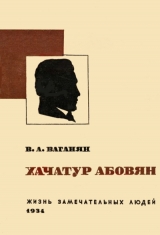
Текст книги "Хачатур Абовян"
Автор книги: Вагаршак Тер-Ваганян
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 16 страниц)
В защиту Паррота
На самом ли деле Паротту удалось подняться на вершину Арарата? Богобоязненные невежды всячески отрицали самую возможность простому смертному подняться на вершину горы, куда легенда загнала Ноя с его утлой ладьей. Паррот предусмотрительно взял клятвенное показание участников подъема, не исключая и Абовяна, и поместил эти документы в своей книге, кроме клятвы Абовяна.
Паррот щадил Абовяна – человека духовного звания – который должен был вернуться в среду духовных варваров. Он обнаружил исключительное знание людей. Как только католикосом был избран грубый и невежественный Иоанн, так началась подлинная свистопляска. Винили Абовяна в святотатстве, употребляли самые подлые средства, принуждая бедных аргурских мужиков отказаться от данной клятвы, клеветали по адресу путешественников, особенно смелого диакона. В результате, не прошло и года, как Паррот получил сведения об отказе аргурских крестьян от клятвы. Естественно, Паррот был огорчен. Но еще более был оскорблен Абовян. «На глаза навертывались слезы обиды, – записывает он в дневник, – не находил слов для выражения боли и внутренней тоски».
Искушенный в эчмиадзинских склоках, Абовян превосходно понял, откуда идет удар. Вероятно, он своими мыслями и огорчениями поделился с другом своим – магистром Мсером Мсерианцем, ибо последний в 1831 году писал архимандриту Ованес Шахатуняну: «Да будет стыдно тем, кто огорчает прекрасного юношу, того, кто воодушевлен любовью к учению на благо отечеству, кто одарен многими способностями, кто стоит сотни стариков. Он день ото дня все просвещается к его чести, растет и выделяется среди людей других национальностей во славу и в честь нашего отечества и с собой поднимая и имя нашей нации. А эти шашлыкоеды – не знаю что приобрели или что добавили ко славе церкви. Но худое имя они-таки оставили уже миру, подобно тому, как имя нации нашей сделали притчей во языцех всего мира».
Шашлыкоеды – это Иоанн Корбеци, про которого говорили, что венцом его стремлений являлся жирный шашлык…
К голосу невежд прибавился отзыв ученых педантов, которые поспешили установить «противоречия» в показаниях свидетелей и выразили удивление, что не все присутствовавшие опрошены. Когда вышла книга Паррота о восхождении на Арарат, геттингенский рецензент выразил удивление, «что г. Паррот не присовокупил также и свидетельство молодого диакона армянина Хачатура Абовяна, который участвовал в предприятии и чье подтверждение в данном случае имело бы исключительный вес».
Абовян в феврале находился в Петербурге (или приехал туда специально за тем, чтобы поместить опровержение?). Он написал письмо в редакцию «St. Petersburger Zeitung», которое мы считаем необходимым дать здесь в переводе. Оно дано в газете неполностью, ему предпослано маленькое вступление, написанное редакционным референтом, на запрос последнего Абовян ответил письмом, «которое мы печатаем без изменения – говорится во вступлении – так как его написал сам X. Абовян и то на немецком языке, что для армянина изумительное явление, причем господин действительный статский советник Паррот в Дерпте об этом шаге не имеет ни малейшего понятия».
Вот что пишет Абовян:
«Когда мои соотечественники вследствие предрассудков и суеверий не поверили, что г. действ, ст. сов. Паррот поднялся на самую высокую вершину Арарата, я приписал это простоте понятий их о возможности такого предприятия, а также той легенде, которая пустила глубокие корни в их сердцах, легенде, которую они рассказывают о святом Якове. Легенда известна. Она рассказывает, что, несмотря на все стремления этого святого видеть Ноев ковчег, он ничего не достиг, кроме того, что получил кусок дерева от ковчега и вестник бога – ангел – известил его, что бог запретил смертному ступать в эти священные места ногой, иначе он рискует подвергнуться гневу божию. Итак, когда мои соотечественники, питая столь глубокое почтение к своей величественной горе, на которой бог когда-то чудом спас человеческий род, рассматривают ее как святыню и почитают ее, я всей душой присоединяюсь к их мнению. Они могут и должны быть горды владением ею, подобной которой ни одна страна не имеет. Пусть они успокоятся, мы не на ту землю стали, к которой пристал ковчег, а на том толстом слое снега, который несомненно толще 100 футов и покрывает эту святую землю.

Большой Арарат и монастырь Св. Якова. Рисунок Паррота из его книги «Путешествие на Арарат», Берлин, 1834 год
Но для меня положительно необъяснимо то, что культурный европеец может сомневаться в истине подъема. К несчастью оказалось, что даже в культурной Европе находятся люди, которые еще больше привержены ограниченным суеверным мнениям и предрассудкам, чем эти наивные дети природы.
Ибо и среди последних были люди, которые нас считали счастливцами за то, что мы имели счастье достичь недостижимого и удостоились такой высокой чести. Помню, например, старого и благочестивого настоятеля монастыря святого Якова – Карапета, который, несмотря на то, что не имел ни знаний особых, ни особых сведений о чужих краях, привлек симпатии всех нас исключительно здравым суждением и примерной жизнью; спокойная жизнь вдали от шума, его человеколюбивое уважение к каждому из нас и отчасти к научным стремлениям европейского путешественника облегчили ему понимание того, что он мне несколько раз тайком говорил: «невозможно, чтобы они встретили непреодолимое, они – ангелы, для таких богобоязненных людей добро всегда совершится», а когда мы шли на подъем, он это свое мнение сообщил открыто. Когда кусок льда, который я захватил с вершины, ибо другого там ничего не нашел, уже растаявший, в бутылке я доставил в эчмиадзинокий монастырь, некоторые умные и благочестивые епископы и архимандриты, взяв, частью окропили лица, а частью как святыню хранили. И я, хотя и рожден там и не имел ни малейшего понятия о подобных предприятиях, ни на минуту не усомнился в возможности осуществления этого величественного дела, когда путешественники были еще в монастыре. Более того, я всю свою судьбу им вверил, лишь бы участвовать в предприятии. Не зная, какое значение придаст ему ученая Европа, я был счастливейшим человеком в глухой Азии, ибо поднялся на местопребывание моих предков.
Но если бы я рассказал, какие оскорбления я вынес за свою правду не только от армян, но и от других, тогда не вызовет удивления то, что в Закавказьи мой народ проникся ко мне враждой из-за этого и угрозами, что те двое крестьян, которые с нами были на вершине еще в нашу бытность на склонах Арарата, до того были стариками села и соседями отлучены и осмеяны, что часто ходили ко мне и от всего сердца заявляли, что если мы не поможем, они будут вынуждены открыто отречься от истины, чтобы получить покой и безопасность.
Ясно, почему эти двое были вынуждены дать ошибочные показания. Их с большим трудом, то умоляя, то угрожая, я кое-как довел с нами до вершины, ибо они, никак не мирясь с трудностями, затем из боязни не хотели идти с нами.
Здесь, в Петербурге, побуждаемый чистым стремлением к истине, я отвечаю да, я утверждаю перед всей Европой, что господин действительный статский советник Паррот при третьей попытке поднялся на вершину Арарата, что я собственноручно установил и укрепил во льдах деревянный крест на северной части вершины, а то, что это была самая высокая вершина, доказываю следующим образом: глядя на гору издали, я всегда предполагал, что она должна иметь две вершины. Во время подъема, когда мы прошли уже несколько шагов подряд и, наконец, вышли на довольно просторную поляну, всем нам казалось, что это была наивысшая вершина. Наша радость и наше прилежание к труду исчезли при виде панорамы, когда мы за ней увидели перед собой вторую, я уж не говорю о том, в какое уныние впали наши и крестьяне и солдаты. Тут г. Паррот показал нам высокий пример присутствия духа и исключительную стойкость. Воодушевленные им, мы направились к этой второй вершине.
Я открыто заявляю, что – ясно не помню – два или три раза были вынуждены приступить к подъему, пока мы достигли такой вершины, откуда все прочие как слева, так и справа, как с востока, так и с запада казались под нами. Чтобы быть тверже уверенным в удаче нашего предприятия, я, пока г. Паррот был занят барометрическими измерениями, разыскал место откуда был виден монастырь св. Якова, место нашей стоянки, ибо он находился по прямой на дне черного обрыва, так что если бы кто снизу глянул, мог видеть вершину. Я исполнил желание и увидел монастырь и его окрестности и оба склона той горки, которая окружает монастырь и его долину. Тут я установил крест, предприятие, которое вызывает во мне дрожь при одном воспоминании, ибо малейший неверный шаг на этом плоскогорья стоил бы мне жизни. День был великолепный, но близился вечер. Эривань, Араке, Баязед, Ефрат, Севанское озеро, Малый Арарат и другие снежные или голые горы с покрытыми туманам долинами, которые мы ниоткуда не могли обозреть так сообща – были волшебные части этой великолепной картины. На обратном пути нас отменно наградил новый месяц.
Причина, почему я в Армении, подобно двум крестьянам и солдатам, не дал клятву, подтверждающую эту правдивую историю, заключается в том, что когда г. Паррот потребовал подвергнуть клятве их, я был уже в Дерпте. Тут я поклялся в Ландгерихте. И чтобы показать, до чего справедлив г. Паррот, хочу рассказать следующее: было время холеры, все уважаемые граждане Дерпта дежурили у входа в город, чтобы предупредить путешественников о пути следования. Однажды я пришел навестить его там, где стояли профессора Паррот и Струве и нашел их за шахматами. Когда я возвращался домой, г. Паррот сказал, что должны меня подвергнуть опросу по поводу восхождения на Арарат. Я припомнил, что не сохранилось в памяти точное число восхождений и просил его напомнить. Ответ его был краток: он мне ничего не скажет, нужно сообщить то, что знаешь, а не то, что подскажут. К счастью, вернувшись в монастырь св. Якова, я зафиксировал все, что наблюдал во время восхождения. Там нашел и дату.
Почему в своей книге г. Паррот не приводит мою клятву? Я могу это приписать лишь тому, что он принимал в расчет мои взаимоотношения с моей нацией, захотел уберечь меня, ибо я должен возвратиться туда, чтобы распространять среди них полученные от европейской культуры полезные и нужные знания. Но теперь необходимо правду публично признать и я ничего не боюсь, бог поможет мне в моих благочестивых замыслах, хотя и могу встретить большие затруднения. Я мог бы перечислить еще и другие обстоятельства в доказательство истинности восхождения нашего на Арарат, но зачем? Г. Паррот уже подробно описал путешествие и пусть мое верное свидетельство уничтожит сомнения тех, кто устно или письменно выступали против истины.
Недолго, вероятно, придется ждать, когда, быть может, другой образованный европеец посетит мою красивую родину, чтобы с изумлением любоваться ее величественными горами, ее прелестными долинами, подобных которым надо бы искать во всем мире, чтобы любоваться восхитительными памятниками древнейших времен. Я прошу этого честного и энергичного исследователя, да, заклинаю его не бояться трудностей подняться на нашу святую гору и оттуда обозревать мою прелестную родину. Он будет сторицею вознагражден и сможет свидетельствовать правду».
Немецкие буршеншафты
Для внутреннего роста Абовяна имело большое значение приподнятое идейное настроение студенческой массы, а наиболее интересно и ярко проявило такие настроения подпольное немецкое студенческое землячество, именовавшееся Буршеншафтом. Я называю студенческое общество землячеством потому, что оно объединяло немецких патриотов, которых в дерптском университете было достаточно.
Буршеншафты появились в Германии как продукт патриотического подъема после наполеоновских времен. Как раз после разгрома Наполеона в Германии, особенно среди студенчества, возникло сильное движение за объединение всей Германии. Воспользовавшись трехсотлетием реформации, годовщиной Лейпцигской битвы (1817 год, октябрь) студенты Иенского университета устроили патриотический праздник в Вартбурге. Руководило действиями студентов организованное в 1815 году общество «Буршеншафт». Это не было оформленное политическое движение. У него не было законченной программы, его девизом было: «честь, свобода и отечество», его цели – просветительские, оно хотело бороться за осуществление единства Германии, но еще – не выработало себе методов и не знало путей. Это было смутное ранне-буржуазное движение, быстро возникшее и столь же быстро деградировавшее. В 1816 и 1817 годах к иенским студентам присоединились студенты и других университетов.
На Вартбургском празднике был организован Allgemeine Deutsche Burschenschaft (Всеобщий немецкий студенческий союз).
На Вартбургском празднике студенты торжественно предали сожжению «Историю германского народа» Коцебу, которого ненавидели германские патриоты, так как считали его агентом русского царя.
Он и на самом деле был таким агентом, находился на русской службе и был воплощением самой черной реакции.
В 1819 году третьего марта студент Занд – член Буршеншафта – убил в Маннгейме Коцебу. Чрезвычайно интересно, что этот акт был русскими официальными кругами воспринят как антирусская демонстрация, а передовые – круги России восприняли его как революционный террор, разумеется также считая, что удар по Коцебу был ударом по царской России. Это обстоятельство заслуживает особого внимания. Буршеншафт возник под знаком очевидной неприязни к официальной России и первый его политический акт опять-таки наносил удар русскому самодержавию. Буршеншафт был немецкой патриотической организацией с нескрываемыми антипатиями ко всем, кто шел на служение царскому самодержавию.

Бурш. Силуэт немецкого студента работы Менцеля (Гос. исторический музей)
После этого Буршеншафт официально был закрыт. Но, несмотря на преследования, продолжал неофициально существовать до 1827 года, когда это сообщество возродилось и распалось на две фракции: «германцев» – сторонников решительных методов борьбы и «арминов» – сторонников просветительской деятельности и идейной борьбы.
Всеобщий студенческий союз естественно оказывал сильнейшее влияние на все вне Германии находящееся немецкое студенчество и особенно на студенчество Дерпта. Оно систематически воспитывалось в духе своеобразного немецкого патриотизма, которое воодушевлялось сепаратистскими иллюзиями, которое никогда не отождествляло отечество с Россией. Прибалтийские немецкие бароны всеми силами поддерживали Николая I и служили орудием осуществления самых реакционных мер, а сыновья их – молодые дерптские студенты – мечтали о своем подлинном отечестве и распевали гимны в честь Занда.
Буршеншафт в Германии развил к этому времени энергичную деятельность; рассылал эмиссаров, вербовал членов, пропагандировал свои идеи. Связался он и с Дерптом, уже в первые годы своей организации послав туда специального эмиссара, полицейские анналы зарегистрировали дело одного такого эмиссара – некого Эрнеста Дюра, который завел в Дерпте знакомства со студентами. Арестованный в Варшаве в 1827 году, он прямо показал, что в 1820 году он «был в Дерпте по делам Дерптского Буршеншафта, находящегося в сношениях с Немецким студенческим союзом».
Дерптский Буршеншафт был организован в двадцатых годах. В 1823 году был принят его устав. Девиз – «бог, честь, свобода, отечество».
Всего вероятнее, что этот союз был более умеренного оттенка и, находясь вне Германии, он не был так тесно связан с теми радикальными национальными кругами, с которыми держали связь германские союзы. Он имел значительные отличия, идеализировал исторические предания о деяниях ливонских орденов, нескрываемо критически относился как к русским и к России, так и к местным «мужицким» нациям. Произнося в своих клятвах «отечество», члены союза подразумевали вовсе не Россию.
Что делалось на собраниях этото союза нам неизвестно. Но события после 1830–1831 года вели к тому, что царская жандармерия концентрировала свое особое внимание на Прибалтийском крае, а после того, как немецкие студенты в Германии вновь обнаружили намерения вмешательства в политическую жизнь (франкфуртские события третьего апреля 1833 года), царские чиновники начали особо пристально следить за Дерптским университетом справедливо полагая, что активизация студенчества в Германии неминуемо должна отозваться и на нем.
Ректором Дерптского университета был в то время Ф. Паррот, покровитель Абовяна. Тот факт, что он не обнаруживал особого рвения в розысках крамолы – важное обстоятельство, такие вещи нельзя квалифицировать как простое служебное упущение, как неряшливое невнимание к своим обязанностям, – в чем, кстати сказать, Паррота никогда нельзя было упрекнуть. Но даже благоволение университетского начальства не спасло студентов.
Второго ноября 1833 года генерал-губернатор из Риги известил ректора, что в его вотчине процветает Буршеншафт, назвал имена студентов и требовал расследования. Паррот был вынужден назначить срочное расследование. Дознания обнаружили многолюдное подпольное общество.
Паррот в секретном письме от восемнадцатого ноября 1833 года сообщил обо всем министру просвещения. С. Уваров доложил Николаю I, который спешно отослал доклад Уварова шефу жандармов Бенкендорфу с надписью: «Прочтите сии бумаги и условьтесь сейчас с Уваровым о нужных по сему мерах, я считаю открытие сие весьма важным, потому что подобными мерами начались все беспорядки в иностранных университетах, коих последствия мы ныне видим, логика же и смысл этого общества совершение подобны германским».
Полицейский нюх не обманывал Николая!
Немедленно был назначен суд. Выяснилось на суде, что общество к этому времени имело сорок четыре действительных и восемь бывших членов, которым суд вынес по четырнадцати дней карцера, одного исключили, а восемнадцать старшин общества взяли под стражу до утверждения приговора. Министр нашел приговор мягким. По его докладу восемнадцать старшин были исключены из университета. Николай на докладе Уварова надписал: «Согласен, но при том считаю справедливым велеть заметить начальству университета, а в особенности бывшему ректору (Парроту), что неизвестность существования подобного общества не делает чести тем, коих первая обязанность блюсти за строгим порядком»…
Паррот не оказался исполнительным жандармом!
Впрочем он был уже забаллотирован, и на 1834 год ректором был избран проф. Мейер.
Я сознательно так долго задержал внимание читателей на этом деле. Оно так тесно коснулось Паррота и так основательно его задело, что пройти мимо Абовяна не могло ни при каких обстоятельствах.
Поучительным для него должно было быть как самое дело, так и отношение к «делу» Паррота. Если даже предположить, что он ранее не был знаком с Буршеншафтом и его членами (что я не исключаю), то и в таком случае колоссальное впечатление должно было произвести на него наличие подполья, самая нелегальная форма борьбы и яркая национальная программа Буршеншафта. Его особенно должна была поразить столь строгая расправа за мирно-просветительную, реформистскую деятельность Дерптского Буршеншафта, который по своей программе и тактике был копией фракции «арминов».
Но патриотизм немцев-студентов не был единственным видом и проявлением германского национализма в Дерптском университете. Он процветал довольно прочно и в среде профессоров, большинство которых были немцы. Среди значительной части профессоров университета сильны были сепаратистские стремления, довольно явно выраженное пренебрежение к русским и раздражение против православного духовенства. Я приведу только два факта, которые, с моей точки зрения, ярко характеризуют отмеченные настроения.
Профессор Нейе, Эрдман и некоторые другие выдвинули идею созыва съездов ученых Прибалтики и Финляндии в одном из городов этих двух стран (соответствующее заявление они подали в сентябре 1837 года). Министр предложил включить сюда и русские университеты, а местом созыва избрать не только города двух предложенных провинций, однако инициаторы съездов высказались против равноправного участия в них русских университетов.
К русским университетам у профессоров Дерптского университета было крайне пренебрежительное отношение. В 1832 году Абовян заносит в свой «дневник»: «Беседа о разных волнениях в Московском университете, вследствие строгости профессоров, пренебрежение их (дерптских профессоров – В. В.) к этим строгостям. Пренебрежение их к Московскому и Харьковскому университетам, где профессора обращаются со студентами, как с солдатами. Об Оксфордском университете, где богатые студенты заставляют служить бедных студентов, и те насущный хлеб свой добывают этой службой. Бедность делает мужественным. Преимущество Дерптското университета и свобода [7]7
И здесь я пользуюсь сообщением Акселя Бакунца.
[Закрыть]».
Было за что дерптским профессорам смотреть сверху вниз на наши университеты. Стоит только припомнить 1832 год, Магницких и Уваровых, подготовлявшийся новый устав и сословные порядки, чиновников за кафедрой…
Еще более характерно дело Ульмана. Когда он собрался уехать из Дерпта, по старому обычаю студенты, с разрешения университетского начальства, преподнесли ему бокал и пели при этом традиционные студенческие песни.
Николаю донесли, что Ульман держал ответ студентам и говорил о «немецком сердце» и «верности отечеству». Николай не поверил, что Ульман имел в виду русское отечество. Он разогнал профессоров, разгромив некоторые кафедры. Подобная расправа не была последней.
Однако, вернемся к вопросу о среде, где получал свое образование Абовян. В эпоху, когда в Дерпте учился Абовян, корпорация профессоров вовсе не была той серой корпорацией верноподанных иностранцев, которыми в сорок восьмом году гордился Уваров. Нам сегодня очень трудно восстановить содержание и характер интимных бесед ученых; как между собой, так и с Абовяном, тех дружеских длительных разговоров, в которых всего ярче высказываются воззрения и политические чаяния собеседников. Одно несомненно – они не были чужды политике.
Когда дошла до Абовяна весть о смерти Аламдаряна, он, крайне опечаленный, решил почтить память своего учителя. С этой целью им была переведена статья Мсерианца. Он поместил ее в Дерптской немецкой газете, а от себя намеревался несколько строк поместить в русской прессе. Нужно было иметь беспредельную наивность выходца из глухой эриванской провинции, чтобы простодушно обратиться к редактору «Северной пчелы», знаменитому Фаддею Булгарину. Фаддей первый раз его просто не принял, а второй раз – выгнал. Выгнал, конечно, по политическим мотивам, вероятно при этом выказав наглое пренебрежение к народу, которому служил Абовян. Недолго размышляя, Абовян размахнулся палкой и лишь проворство Фаддея спасло его от удара.
Булгарин обратился с жалобой к университетскому начальству и в первую очередь – к Парроту. Последнему стоило большого труда уладить инцидент, принявший характер политического скандала, чреватого большими неприятностями. Если перспектива возможных политических неприятностей была еще неясна Абовяну, то для его покровителя Паррота опасность была очевидной, и он настойчиво убеждал Абовяна избегать такого рода опасных и вероломных людей. Трудно предположить, чтобы, говоря о Фаддее, Паррот не коснулся общих вопросов политики.
Для этого было немало и других поводов.
В дневнике Абовяна имеется запись одного «поучения» «великого математика» Бургера, который, говоря о свободных нравах американцев, заметил: «Все блага порождаются свободой, знаю, что русские чиновники в ваших краях чинят много безобразий, против этого нет иного средства кроме одного – разбудите дух нации, всякая нация должна сама почувствовать (определить) свое благо и добиваться его, ваш народ многостарательный, многоспособный, надо только подбадривать его (на освобождение своей родины), а для этого нужно учение, вовсе не крайней степени учености, а элементарное учение, коим они приобретут начальное знакомство с миром, прочее приложится [8]8
Эту запись я беру у Тер-Карапетяна.
[Закрыть]».
Припомните разговор с Швабе. Хачатур-дпир время свое в Дерпте не проводил даром!
Конечно эти реформистско-просветительские речи либерального профессора неспособны были поднять Абовяна до революционных методов борьбы за демократию. Однако, их значение колоссально, поскольку они создавали благоприятную идейную среду, в которой очень многие смутные демократические эмоции становились определенными демократическими тезисами, поскольку они невысказанно противопоставляли николаевскому режиму республиканские порядки Америки. Бесспорно, «знаменитый математик» ничего не говорил против самодержавия, как не говорил на эту тему, по-видимому, ни один из его учителей, вот почему все шипы демократизма, которые должны были быть направлены против существующего строя, против самодержавия Николая, у Абовяна остались завернутыми в обильную и мягкую вату заблуждений относительно искреннего желания именитых зубров просвещать армянских мужиков. Немецкие сепаратисты внушали ему собственным примером ту мысль, что важна программа действий в среде своего народа, а русские порядки не наше дело, что можно быть глубоким демократом в решении национальных проблем, оставаясь равнодушным к имперскому деспотизму, даже сохраняя с ним мир и пользуясь его покровительством.
Всего вероятней, что в этом направлении действовал и сам Паррот, друг и покровитель Абовяна. Во всяком случае, с благоговением рассказывая о благодеяниях Паррота, Абовян так формулирует цель и задачу, какую ему ставил Паррот: «Невозможно одно за одним перечислить все заботы и хлопоты Паррота о моем учении. Он хотел из меня выработать годного воспитателя детей. Довольно сказать, что он неизменно хотел зажечь в моем сердце любовь к нации, церкви и нашей стране».
Это была дурная сторона влияний, испытанных Абовяном в Дерпте. Как раз такие сепаратистские либеральные влияния привели к тому, что он вовсе не был подготовлен к революционной расправе с царями как земными, так и небесными, что он не почувствовал, не услышал созвучия между своими настроениями и русским движением, которое с 1836 года не только наметилось, но и выявилось на страницах журналов. А созвучие безусловно было.
Абовян не вышел за пределы культурной самоблокады дерптских профессоров, его еще не обдало свежим ветерком задорного революционного демократизма русских разночинцев. Но теперь он до конца уяснил себе основу основ демократического мировоззрения и то, что было у него в юношеские годы лишь предчувствием, стало реальностью и заняло все поле его страстного, глубокого и ясного сознания.
В этом ему помогли в меру своих ограниченных возможностей профессора – друзья его, помогли не только одними беседами, не только наставлениями и предостережениями, но и общим направлением литературного воспитания.
Я еще раз оговариваюсь, что, рассказывая о всей сложной сети исторических событий и взвешивая идейные влияния, я вовсе не имел в виду делать Абовяна их участником, пропагандистом и глашатаем или даже слишком заинтересованным наблюдателем. Я хотел только напомнить о той исторической обстановке, в которой протекали учебные годы Абовяна, о тех идеях, которые висели в воздухе и которые прямо или косвенно должны были оказать влияние на Абовяна и несомненно оказали.








