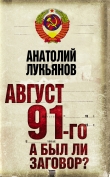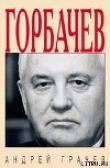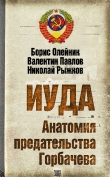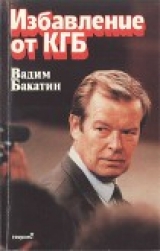
Текст книги "Избавление от КГБ"
Автор книги: Вадим Бакатин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 16 страниц)
Ответ. Я не считал и не считаю сейчас возможным для нас реформирование КГБ по радикальному – германскому или чехо-словацкому пути, то есть полное упразднение, а потом новое создание. Не разгонять, а реформировать. Вот, если можно так выразиться, то гуманное направление, которое я избрал.
Реформирование, кроме того, включало в себя, я уже об этом не раз говорил, три известных направления. Прежде всего – дезинтеграцию. Она проведена. Структурно система спецслужб стала более безопасной для общества. И, по крайней мере, я рад, что все эти бурные перипетии вокруг нашей государственности в конце концов позволили хотя бы сохранить единую разведку.
Второе – децентрализация. Конечно, этот путь в меньшей степени зависел от воли руководителя КГБ, да и любого другого ведомства. В тех условиях слабого Союза это объективно осуществлялось помимо воли Центра. Но мы, я имею в виду МСБ – Межреспубликанскую службу безопасности, не потеряли управляемости, республиканские и областные структуры никто не разрушал. А руководители всех служб безопасности, буквально всех, включая Украину, Беларусь, Казахстан, Молдову, все Закавказские и Среднеазиатские республики, дали согласие на сотрудничество. Был создан координационный совет – хорошая основа для функционирования уже в условиях Содружества.
Третье, главное направление реорганизации – отказ от идеологии «чекизма», отказ от постоянного поиска врага, потому что без четко обозначенного врага, которого раньше указывало Политбюро, КГБ в старом понимании не мог существовать. Вначале это были контрреволюционеры, потом троцкисты, потом врачи-отравители, потом «американский империализм», потом диссиденты и т. д. Вот отказ от всего этого должен был произойти, а без этого КГБ как КГБ уже трудно себе представить. И здесь же следовала вторая часть этого направления – повышение эффективности работы. Поворот спецслужб к реальным потребностям общества, от шпиономании в условиях кардинально изменившейся новой политики – к безопасности на основе сотрудничества и доверия. Главное внимание – внешнему криминальному влиянию на наши внутренние дела, борьбе с преступностью в новых экономических и межгосударственных условиях. Борьбе с организованной преступностью и прежде всего – с коррупцией. Здесь прямо надо сказать, успехов не было достигнуто. Да и не считаю, что можно было за столь короткое время в реальных условиях деморализации, если хотите, всех служб криминальной юстиции, не только КГБ, что-то сделать. Я не думаю также, что нарождающаяся российская служба, как и другие, имеет большие успехи в идеологической перестройке, адекватной построению демократического государства. Это то, чего предстоит еще добиваться. Я не считаю, что спецслужбы уже стали безопасными для граждан. Нет законов, нет контроля и нет профессиональных внутренних служб безопасности».
Акт моей формальной отставки с поста руководителя МСБ несколько затянулся. Развернувшаяся в средствах массовой информации и подхваченная Верховным Советом и Конституционным судом Российской Федерации кампания против Указа Ельцина об образовании Министерства безопасности и внутренних дел фактически парализовала усилия исполнительной власти по его реализации. Будущее спецслужб вновь стало неопределенным. Наконец, 14 января 1992 года, Конституционный суд России признал Указ противоречащим Основному закону. Это означало, что все возвращалось на круги своя и создавало несколько странную ситуацию. Юридически я вновь оказался во главе МСБ. Но новый Указ Ельцина от 15 января поставил точку. Я освобожден от обязанностей руководителя МСБ. Сожалений у меня не было. Мне не нравилось работать на Лубянке.
11. В парламенте
Чем больше власть, тем опаснее злоупотребление ею.
Эдмунд Берк
Тот, кто когда-то случайно ли, а тем более сознательно «влип в КГБ», соприкоснулся с ним, оставил на себе его след, а свой – где-то там в его таинственных пустых коридорах, тот уже до конца дней своих будет мечен этой меткой. Тем более, если вы были «шефом», председателем этой уникальной организации. Хочешь или не хочешь, теперь до конца жизни ты последний председатель КГБ. Даже если и бывший, это дела не меняет. Даже «Военный билет» тебе заменили и выдали новый «Военный билет генерала КГБ запаса». Так что формально я в «запасе» у КГБ, хотя его уже и нет.
Сейчас я нигде не работаю. Сижу за своим домашним письменным столом, пишу. Отвечаю на телефонные звонки любознательных родственников и знакомых. Принимаю дома всех, кто приходит. И вдруг получаю телеграмму. Правительственную.
«Бакатину В. В.»
Уважаемый Вадим Викторович!
Комиссия приглашает Вас принять участие в открытых парламентских слушаниях по теме: «Роль репрессивных органов бывшего СССР в подготовке и проведении государственного переворота в СССР 19–21 августа 1991 г.» Комиссия хотела бы ознакомиться с Вашими оценками по теме слушаний, а также узнать о Вашем понимании места вновь создаваемых органов федеральной безопасности в нашем государстве, задач, стоящих перед ними, их функций и структуры, гарантирующих невозможность их участия впредь в подготовке и проведении заговоров против законной власти.
Слушания состоятся 4 февраля с. г. в зале Совета Национальностей Верховного Совета РФ в 10.00.
Председатель Комиссии, народный депутат РФ Л. А. Пономарев.
Честно скажу, это было неожиданно. Только начал привыкать к частной жизни… Опять в политику? А надо ли?
Но все-таки я не мог не пойти. Написал речь. Переговорил с Львом Пономаревым, уточнил задачу и строго вовремя был в не очень знакомом мне «Белом Российском Доме». Меня там знали. Начиная от симпатичных доброжелательных гардеробщиц и кончая корреспондентами. Интервью давать я решительно отказывался. Но, наверное, слишком решительно и многословно. Ибо на следующий день появились публикации, от которых не откажешься. Кажется, ведь что-то подобное говорил…
Не так уж много времени прошло, а впечатление такое, что вернулся куда-то в очень знакомое прошлое, но в то же время ничего и никого не узнаю, все и так, и не так… Как у Вертинского: «… Мы жили тогда на планете другой, и слишком устали… и слишком мы стары…»
Но ничего: выступил я на тех слушаниях… Как будто бы слушали… после того как я вернулся на свое место, кто-то сзади сказал, что «надо же, как волновался, значит, говорил искренне…»
Мне казалось, что я не волновался, но говорил действительно искренне, хотя всего сказать не мог.
Завершая разговор об избавлении от КГБ, привожу это мое последнее выступление с трибуны Российского парламента 4 февраля 1991 года. Разговор завершается, но не избавление. Избавление продолжается.
Итак. «Многоуважаемые депутаты, я благодарен вам за приглашение. Но должен подчеркнуть, что, выступая здесь, я никого не представляю и высказываю свое личное мнение.
Мне было предложено ответить на два вопроса.
Первый. Роль КГБ в подготовке и проведении государственного переворота 19–21 августа. Я говорил Льву Александровичу, что специально сам не изучал этого вопроса, но абсолютно очевидно, что руководство КГБ играло здесь важную идеологическую и организационную роль, а потом все заметали следы. Однако я не считаю возможным персонифицировать оценки.
Это дело прокуратуры и суда. Свои показания я дал следствию. Кроме того, считал и считаю, что следует ограничить ответственность только высшим руководством Комитета.
Если сказать коротко, я разделяю оценки роли КГБ, изложенные комиссией Степашина, но мне представляется важным более глубоко изучить первопричины создания ситуации, сделавшей возможной попытку антиконституционного переворота.
Может быть, это не предмет сегодняшних слушаний, но… По моему мнению, первопричину надо искать в возникновении на едином базисе разлагающейся социалистической экономики незнакомого нашему обществу надстроечного двоевластия – противоречия между старыми централизованными партгосструктурами и новыми демократическими органами власти. Разрешение этого противоречия пошло по трагическому деструктивному пути. Вместо налаживания управляемого реформирования милитаризованной соцэкономики в социальную рыночную экономику начался процесс противостояния и разрушения…
Роковую роль здесь сыграла реакционная политика ортодоксальной верхушки руководства КПСС, КГБ, ВПК и армии, изначально отвергавших компромиссы, избравших путь проволочек и силового противодействия объективно необходимой демократизации и децентрализации экономики, государства и общества.
В итоге, после серии авантюрных операций, начиная с январского Вильнюса, – кульминация – августовский путч.
КГБ как автономное, никем, кроме ЦК КПСС, не контролируемое, сверхзакрытое ведомство, обладавшее широкими возможностями – от тайной политической слежки до применения «спецназа», – непосредственно использовалось руководством КПСС для реализации этой политики. Результатом этого явилось поражение партгосструктур, межнациональная напряженность и обвальный распад экономики, по-видимому, уже потерявшей последнюю возможность управляемого реформирования.
Одним словом, сегодня пока еще ничего не останавливает продолжающий накапливаться потенциал социального взрыва. Ситуация стала значительно опаснее, чем в августе.
Наряду с двумя традиционными сферами безопасности – внешней (геополитика) и внутренней – неожиданно появилась абсолютно незащищенная третья сфера – безопасность внутри Содружества, где кроме деклараций – полное отсутствие правовых и организационных механизмов и опасные национал-патриотические импровизации на фоне зарождающейся агрессивности. В самой России, спекулируя на трудностях разлагающейся экономики, начинает активно себя проявлять оправившийся от испуга необольшевизм и смыкающийся с ним шовинистический лжепатриотизм. Не предлагая ничего конструктивного, они ждут своего часа. Для них чем хуже, тем лучше.
Если мы это признаем, то второй вопрос о понимании места, функций, структуры федеральных органов безопасности, гарантирующих невозможность их участия в проведении заговоров против законной власти, в текущий момент отходит на второй план, выдвигая на первый проведение безопасной политики. Действительно, если главное – «гарантия неучастия», то это легко решить. Наиболее «эффективным» может показаться восточноевропейский, или прибалтийский путь.
Полностью распустить и создать новые, свободные от «комидеологии чекизма» органы безопасности. Но я считаю такой путь принципиально неприемлемым.
Это тот же большевизм, вывернутый наизнанку. Это повторение пройденного, не имеющее перспективы.
Вопрос и шире и глубже, чем отношение к бывшему КГБ. Я уверен, что надо бороться с идеологией большевизма и чекизма, но при этом надо бережно относиться к правам каждого человека. Если «социализм нашего типа» построить без репрессий, наверное, было даже нельзя, то уже абсолютно невозможно создавать цивилизованное, свободное, демократическое общество, прибегая к любым дискриминационным мерам, тем более по идеологическим соображениям.
Тем не менее, отвечая на второй вопрос, я бы придерживался известной схемы, которой так и не воспользовались в годы перестройки. Медлят и в «постперестроечное» время. Первое, что не терпит отлагательства.
1. Разработать общую концепцию безопасности, определяющую новые приоритеты и основанную на достижении международной и внутренней экономичен кой, политической стабильности, территориальной целостности и независимости России, не путем устрашения, насилия и репрессий, а исключительно на основе доверия, а значит, открытости демократической власти различным формам контроля. Такую концепцию может себе позволить только действительно сильная власть сильного государства. Для этого нужно время. Концепции реалистически должны отражать необходимые и возможные этапы строительства как системы, так и правовой базы безопасности, отход от «политической целесообразности» к опоре на Закон и только на Закон. Но пока у нас правовой вакуум только усилился.
2. Подписать договор о коллективной безопасности стран Содружества (проект его в свое время был разработан). Нет ничего более важного для людей, как сохранение Содружества. Создать координационные механизмы работы спецслужб, создать единую информационную систему со строго отработанной процедурой взаимного вторжения в зависимости от компетенции участника.
Подписать межгосударственные соглашения о правовой помощи.
3. Разработать и принять «в пакете» детально проработанную правовую основу деятельности спецслужб.
Именно детально проработанную… «Законы-декларации», вроде памятного Закона об органах КГБ, здесь недопустимы, ибо сохраняют неприемлемый для демократического государства разгул ведомственных инструкций, затрагивающих права человека.
Первоочередными необходимы акты, определяющие концепцию безопасности, государственную и коммерческую тайну, регламентирующие защиту и перехват информации, работу спецслужб и оперативно-розыскную деятельность, об архивах КГБ, о частном сыске и т. д.
Жизненно важен Закон о государственных преступлениях, где просто и четко прописать ответственность за разжигание межнациональной розни, шовинизма и национализма.
4. Организовать всеобъемлющий, но ответственный, основанный на Законе парламентский контроль за работой спецслужб без какого-либо вмешательства в оперативную работу.
5. Не структурные перестройки спецслужб определяют сегодня безопасность граждан, общества, демократии.
Скорее, наоборот. Эти частые перестройки сами создают опасность. Разлагают кадры, приучают к бездействию, безответственности, приводят к потере профессионалов (на свой счет не отношу).
Надо остановиться.
И если наконец создали два министерства (безопасности и внутренних дел), разведку, спецсвязь, погранвойска, службу охраны высокопоставленных лиц, пора оставить их в покое и дать возможность начать работать, осваивая совершенно новые условия.
Я уверен, что, углубляя дезинтеграцию и децентрализацию, этим кстати гарантируется безопасность от участия в заговорах, руководители этих и других служб (военная разведка, таможня, нужно создать еще мощную налоговую инспекцию) сумеют выработать необходимую систему различных координационных механизмов.
Заканчивая, я, еще раз хочу сказать, что вижу главную опасность в другом…
До тех пор, пока не будет принято детально проработанное частное право, пока не заработают механизмы, способствующие мелкому предпринимателю, защищая его от произвола новых коррупционеров и старых социалистических монополий, разговоры о предпринимательстве так и останутся не более, чем все более и более раздражающими разговорами.
До тех пор, пока мы не употребим остатки наших возможностей для управления государственной экономикой с целью изменить ее нечеловеческую структуру, пока не займемся действительным стимулированием сельскохозяйственного производства и производства потребительских товаров, никакие самые мощные высокопрофессиональные и даже хорошо оплачиваемые службы безопасности ничего не решат. Уверен, они не будут участвовать в подготовке и проведении заговоров против законной власти, но безопасности власти и общества не обеспечат».
Когда я уходил, женщины, работающие в парламентском гардеробе, пожелали мне удачи и здоровья. Спасибо им… Удачи всем. Удачу мы сможем обрести только вместе… И избавление от КГБ будет способствовать этому… Но не всё сразу.
12. Взгляд со стороны
Советский гражданин – порождение тоталитарного общества и до поры до времени – его главная опора. И я могу только молить судьбу, чтобы выход из этого исторического тупика не сопровождался такими гигантскими потрясениями, о которых мы пока не имеем даже представления. Вот почему я – эволюционист, реформист.
Андрей Сахаров
Это плохая позиция – взгляд со стороны. Но все относительно.
Идет третий месяц, как я не работаю в структурах власти, не несу ответственности за те или иные текущие действия, решения, приказы, заявления, которыми совсем недавно были заполнены все дни моей жизни. Но не «со стороны» гляжу я на жизнь. По себе знаю, что никто из власть предержащих не признается в том, что не знает жизни. Но жизнь все-таки совсем не та, какой ее видишь с высоты власти.
Вчитайтесь в слова, взятые эпиграфом к этой главе. В них схвачена вся суть, вся неимоверная сложность нашего выхода из того исторически закономерного тупика, куда мы сами пришли. Дело не только в ошибочной идеологии, в КПСС, сейчас дело в каждом гражданине нашего больного, ни на какое другое не похожего общества. Старая философская формула подтверждена практикой. «Бытие определяет сознание». «Социалистическое» иждивенческое бытие сформировало наше уродливое безынициативное, уравнительное сознание. Но как нам теперь «этим сознанием осознать» необходимость иного «бытия»? Как избежать насилия и революций, как уйти от потрясений, о возможном масштабе которых даже академик не имел представлений? Ответ в словах эпиграфа.
Это возможно только в том случае, если новые или перекрасившиеся старые «спасители народа», носители коммунистического, национального или иного тоталитаризма не найдут опоры в каждом из нас, бывшем(?) советском гражданине. Становясь совершенно разными, свободными и независимыми, мы должны обрести единство только в одном. Перестать жить чужим умом. Каждый должен стать самостоятельным, осознав неизбежность трудностей и проявив готовность к честному труду на новом историческом повороте выхода из тупика. Но этого мало. Как минимум, надо еще разумную программу, ответственное, честное, пользующееся доверием правительство. Как будто бы такое правительство в России есть. Но есть ли программа?
Я никогда лично не был знаком с А. Д. Сахаровым. Не хочу, чтобы меня заподозрили, что я «примазываюсь» к его сподвижникам. К сожалению, я никогда им не был. Но в главном я согласен с ним. Не «социализм» и не «капитализм», а нечто более высокое и развитое: постиндустриальное демократическое общество, где человек становится выше любого автомата. И для этого нам была нужна эволюция. Она и сейчас нужна, несмотря на то, что мы загнали себя в жесточайший «кризис выхода из кризиса», обернувшийся распадом. Но мы, к сожалению, по большевистской традиции, играя революционной фразой, не удержались. «Перестройка – это революция». Ломать – не строить. Сломать легко, тем более то, что неестественно и исторически обречено. Перестань применять насилие, и все само развалится. Но что потом?
Пора признать, что мы – «перестройщики» – не смогли глубоко продумать, как с нашей социальной и национальной психологией, отягощенной комплексом своеобразного и тяжелого прошлого, с нашей веками происходившей межнациональной диффузией вернуться на более эффективный путь развития цивилизации.
Как соединить преимущества интеграции, опыт социального планирования с созданием эффективной рыночной саморегулирующейся экономики. Но, увы… Вздыхать бесполезно. Очевидно, что мы не смогли спланировать и осуществить синхронную эволюцию государственной и политической надстройки и базиса – экономики, отношений собственности. После идеологического кризиса марксизма, который М. Горбачев не породил, а вскрыл и попытался разрешить, началась надстроечная борьба. Не эволюция, а борьба старой «социалистической» партийно-государственной структуры с новыми «демократическими» силами. После путча «новые» победили. Жаль, конечно, что из-за естественной незрелости нашей демократии она, приняв власть, несколько видоизменилась. Демократические черты были размыты национализмом и шовинизмом, а где-то еще и амбициозным субъективизмом.
Но самое главное – эта верхушечная «революция» происходила на фактически неизменном старом базисе централизованной, сверхинтегрированной, монополизированной и до безумия милитаризованной экономики «социалистического типа». От этого наследства новым властям никуда не деться. Но здесь одна загвоздка, которая себя уже достаточно убедительно проявила. Это «наследство» плохо, если не сказать, совсем не совместимо с рыночной идеологией новой власти.
Идеологию, как и правительство, можно сменить быстро. Некоторым даже хочется очень быстро. Но менять нельзя. Сохрани нас Бог от такого «разрешения». Экономику надо менять. Но быстро, как бы сильно кому ни хотелось, не получится. Не помогли ни «перестройка», ни «путч», ни даже «шок».
Надо психологически настроиться на достаточно длительный и тяжелый период. Потому что создание «постсоциалистической» рыночной экономики – это никому не известная и умопомрачительно тяжелая задача. На этом пути к процветанию неизбежно временное ухудшение жизни, вызванное принципиальными структурными изменениями, ломкой психологии, социальных и производственных «правил игры». Желание сделать этот период как можно менее продолжительным по времени – хорошее желание. Но, к сожалению, оно пренебрегает глубиной социального падения. И скорее навредит, ничего не ускорив.
Нельзя переходить грань. Не может же правительство уподобиться тому цыгану, чья лошадь в конце концов сдохла после, казалось, успешно начавшегося отучения ее от разорительной привычки принимать корм.
Можно понять радость правительства, что почти десятикратное с начала года повышение цен не привело к социальному взрыву. Люди ради «светлого будущего» затянули пояса (товарооборот снизился в два раза) и терпят. Не знаю, может быть, они вынесут и новый скачок цен, неизбежный после того, как правительство осуществит свой план «отпускания» цен на энергоносители, молоко и хлеб. С точки зрения техники это грамотно. С точки зрения социальных последствий правительство может идти на риск. Но правительство не может быть жестоким. Нет у него морального права решать пусть важные, сложные, но все-таки технические задачки сбалансирования бюджета ценой обнищания народа. Дайте людям передохнуть. Ничего же не случилось, когда с треском провалилось правительственное обещание сделать бюджет бездефицитным уже к апрелю 1992 года, и в этом, и в следующем годах все равно это нереально.
Искренне уважаемый мною мученик Егор Гайдар, сразу заявивший, что он за кресло не держится и ему ничего не страшно, должен подумать не только о том, как он выглядит перед МВФ, но и о менее отчаянных, чем он, своих согражданах.
Разве только желание быть мужественным и честным освобождает правительство от ответственности за те миллионы безработных, которых оно «честно» начало прогнозировать, ни слова не говоря о своих действиях, как этого избежать или по крайней мере смягчить последствия? Тезис о том, что правительство «несет ответственность только за макропропорции», а социальная защита конкретного человека в конкретной ситуации – дело местных властей, хорош. В принципе, правильный тезис. Но не для нашего нынешнего хаотического полусоциалистического состояния, в котором находятся и «макро», и «микро» и все другие «пропорции». И как бы мы тут ни мудрили, ни лукавили, стараясь быть объективными и честными, все это сильно смахивает на простой, как животный крик, лозунг: «Спасайся кто может!» Это, конечно, чистейшей воды рыночный лозунг в духе социал-дарвинизма. Но беда, что не все считают, что смогут спастись. И действительно, не смогут. А кругом еще не перевелись и старые и новоявленные «спасители отечества» – всех мастей. Даже наиболее одиозные фигуры генералов КГБ из прислуги старого совминовского аппарата Николая Рыжкова рвутся в национал-патриоты спасать народ «от имени отечества».
Да. Неизбежность перехода от «команды» к «рынку», от тоталитаризма к демократии, от засилья одной гос-идеологии к свободе личности неоспорима, но было бы большой ошибкой считать этот переход по той схеме, которую избрало правительство, уже необратимым.
Ни на минуту нельзя забывать, что «социалистическая» экономика осталась и ее фронтальное разрушение еще не есть созидание рыночной экономики.
Осталась раздираемая националистами и «патриотами» огромная армия в бедственном социальном и моральном состоянии. Ее нельзя бросать на откуп «заботам» псевдопатриотов.
Осталась идеология люмпенского большевизма, психология советского гражданина – не как вина, а как беда, как порождение системы тоталитаризма.
Поэтому спешить – не значит далеко продвинуться вперед. Методами генерала Пиночета, к чему некоторые «теоретики» призывают, в России нового цивилизованного общества не построить. Что может быть, так это антикоммунистический большевизм, большевизм наоборот. Великорусская «идея», так до конца никем, даже ее великими создателями, не понятая, в наших условиях выродится в шовинизм, в поиск врага в представителях других народов, скорее всего превратится в обыкновенный фашизм.
В многонациональном государстве со сложной трагической историей, с незабытыми обидами репрессированных народов, государстве без признаваемых всеми границ, законов и Конституции, государстве, нафаршированном расщепляющимися, химическими и бактериологическими изделиями и объектами, просто оружием и взрывчаткой, если сейчас всем этим пренебрегать и поспешить, жизнь может стать проблематичной.
Если в годы перестройки теряли время, то это не значит, что, заспешив теперь, его можно вернуть. Спешить не надо. Поспешишь – людей насмешишь. Хотя и не до смеха. Правду говорят: «Раньше было плохо, а сейчас никак»… Полнейшая неуверенность и неопределенность во всем. Люди хотят не обещаний, что «к осени» или через два года будет лучше, а четкой, аргументированной, понятной программы мер.
Вот с этим надо спешить. Надо разорвать замкнутый круг. Не будет у правительства успеха, пока не будет народной поддержки. А поддержки не будет, пока не будет успеха. Разорвать этот круг можно пока словом, понятной и ясной людям логикой. Сегодня все держится только на вере в Президента России Б. Н. Ельцина. Ему верят как человеку, как личности. Это немало. Но и только…
Как-то я вмешался в дискуссию очень больших эрудитов в компании М. С. Горбачева. Спор шел о том, чем различаются периоды: «перестройки» и «послепутчевый». Я позволил себе сказать, не чем они отличаются, а что у них общего. И «перестройка», и то, что настало после нее, не основываются на четких политических и тем более экономических программах. Михаил Сергеевич с этим не согласился. Может быть, я и не прав. Но я как не знал такой программы во время перестройки, так не знаю ее и сейчас. Общие здравые демократические принципы были и есть. Но этого мало. Тем более для первой «социалистической» страны, которой надо найти выход из этого «социализма» и не потерпеть поражения, не скатиться к варварству.
Это трудно. Это тоже первый раз в истории. Но я не сомневаюсь, что все вместе мы найдем дорогу. Главное сделано. Сделан выбор. Цели есть, а дорогу осилит идущий.
Цель – создание условий и возможностей для жизни, достойной человека XXI века. Эволюционное реформирование системы – средство. Обязательное, необходимое условие – стабильность. Значит, нужна политика стабильности.
В геополитике это преемственность курса Горбачева – Шеварднадзе, проводимого в последние годы. Двусторонние и многосторонние акции, активное участие в деятельности институтов международного сообщества на принципах сотрудничества и доверия. Здесь наряду с традиционными для нас проблемами возникли совершенно новые, гораздо более сложные, чем прежде, реальности. Но тем не менее эта сфера может считаться наиболее удовлетворительной.
Главный источник нестабильности сегодня, как это ни ужасно, в отношениях между государствами СНГ, вчерашними «братьями».
Мы имеем ситуацию, когда любые экономические реформы подрываются главным образом их нескоординированностью в масштабе СНГ. Для их проведения требуется хотя бы знать, на каком пространстве, в каких географических границах они проводятся. Ясности здесь нет никакой, так как каждое государство в СНГ разрабатывает и реализует собственную стабилизационную политику, не особо оглядываясь на других, при сохраняющихся едиными производственной инфраструктуре, денежной системе, государственной границе и т. д. Ситуация абсурдная и чреватая полным параличом экономики. К этому добавляются нестыковки в законодательстве (которое к тому же в каждом государстве стремительно изменяется), в таможенной, налоговой, банковской, кредитной политике.
Заседания глав государств – членов СНГ далеки даже от той согласованности, которая, хотя бы внешне, проявлялась в конце прошлого года. И как-то незаметно, чтобы вопросы экономической политики занимали приоритетное место в повестке дня. Даже когда какие-то важные решения по хозяйственным проблемам принимаются, никто не следит за их выполнением. Не существует никаких механизмов их реализации. Координирующие органы Содружества все еще отсутствуют. Решения президентов, которые вырабатываются в ходе встреч на высшем уровне, не имеют обязательной силы, должны подкрепляться документами правительств и парламентов государств, а те могут не спешить или иметь иную точку зрения.
Содружество явно не с того начало. Вместо того чтобы всем миром взяться за вытаскивание всех государств из экономической ямы, многие лидеры, похоже, куда больше внимания уделяют национальному самоутверждению. В результате мы являемся свидетелями многочисленных амбициозных столкновений вокруг армии, флота, текста воинской присяги, посольств и прочего имущества в других странах, дележа культурных ценностей и споров о прошлом. Уверен, все эти вопросы можно было бы отложить до лучших времен.
Распад Союза, как и можно было предположить, не привел к гармонии в межнациональных отношениях. Обретение бывшими республиками СССР независимости не продвинуло их к более полному воплощению основополагающих демократических ценностей. А это лишний раз доказывает, что с точки зрения демократии первоочередное значение имеет перестройка общественных отношений, а не форм государственности. Демократизация общества совсем не обязательно должна достигаться через его разъединение. И наоборот – сама по себе государственная независимость вовсе не является гарантией успеха демократических реформ.
Цель ведь не в том, чтобы разделиться на отдельные страны. Гораздо важнее, чтобы в каждой республике произошло освобождение людей, общества от диктата государства, ограничение власти управленцев органами народного представительства, развитие самодеятельной гражданской инициативы и самоуправления, соблюдались права человека.
Отчетливо антидемократичный характер национальная государственность обретает там, где во главу угла ставится идеология примата «наших», «основной нации». «Мы – превыше всего» – это уже не законное национальное чувство. К счастью для нас, суверенизация республик опирается в основном на демократические силы. Но в отдельных государствах, образовавшихся на развалинах Союза, мы видим отчетливое превалирование «национальной идеи». Даже в прибалтийских государствах людям, не принадлежащим к основной нации, достаточно сложно получить гражданство, что делает их людьми «второго сорта» только лишь по этническому принципу или принципу оседлости. Уверен, национальный тоталитаризм ничуть не лучше любого другого.