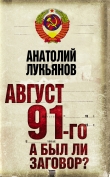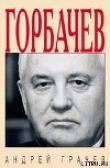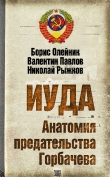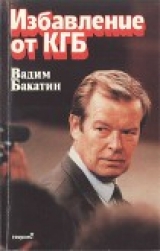
Текст книги "Избавление от КГБ"
Автор книги: Вадим Бакатин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 16 страниц)
Сепаратизм создает угрозу и тому, что называют стратегической экономикой. Ныне существует общая кровеносная и нервная системы – продуктопроводы, линии дальней связи, космос, магистральные железные дороги, Единая энергосистема, разрыв которой может оказаться смертельным для экономики любой республики. Без всяких натяжек буквально смертельно разваливать доставшийся нам в наследство мощный единый и действительно неделимый, требующий особой дисциплины и высочайшего интеллекта комплекс производства расщепляющихся материалов. И здесь разум покидает нас вместе с инстинктом самосохранения.
…В какой-то степени заговорщики одерживают триумф и во внешнеполитической сфере. Ясно, что их победа свела бы на нет все достижения нового политического мышления, дестабилизировала всю систему международной и европейской безопасности. И она дестабилизирована. Радость от нашей демократизации сменилась страхом. В мире уже трепещут от наших ежедневных перемен, опасаясь, что под обломками рухнувшего Союза могут быть погребены не только русские, узбеки или украинцы.
Острейшим образом стоит ядерная проблема. Переход всего ядерного оружия под контроль России, о чем не раз заявлялось, просто физически невозможен. Неопределенность в вопросе контроля над ядерным оружием, несомненно, не только обострит отношения между республиками, не только поставит под угрозу Договор о нераспространении ядерного оружия, крайне осложнит отношения с другими ядерными державами и процесс разоружения. Главное, по-моему, – мы еще плохо осознаем колоссальную опасность прежде всего для нас самих. Это даже не Чернобыль.
Где же выход из нынешнего положения? Убежден, решение проблем упирается не столько в политическую реальность, сколько, в реальных политиков, в столкновение политических воль и амбиций. Решение – в лидерах, осознающих всю тяжесть лежащей на них ответственности, которым верят и которым доверено решать судьбы народов и стран.
Нам всем больше всего надо бояться того дня, когда Ельцин устанет бороться, когда Горбачев махнет на все рукой и восторжествует политика тех, кто подталкивает к разрыву, к силе, к угрозам, к сепаратизму путем «наказания» сепаратистов. Не надо искать временных выгод: мышление только сегодняшним днем, равно как и неопределенность, – это худшая из политик… Не громоздить все новые и новые завалы на пути к возможному согласию республик. Проявить терпение, выдержку и четко договариваться между собой обо всем, о чем можно договориться. Видеть выгоду в единственно существующей возможности вместе, пусть медленно и постепенно, но выйти из кризиса. Только так можно реально достичь цели (если это цель) укрепить государственность каждой республики.
…Сейчас необходимо временное согласие республик доверить решение общеполитических, международных и оборонных вопросов сформированным республиками общесоюзным органам. То звено, за которое можно потянуть всю цепь, лежит в сфере экономики, в создании всех условий для частного предпринимательства, особенно мелкого – от фермера до пекаря.
Пора наконец начать осуществлять управляемый переход к рынку. Для этого потребуется немало политического мужества, поскольку такой переход безболезненным не будет и на первых порах не принесет его инициаторам народной любви.
Победившим демократическим силам жизненно необходимо перестать мыслить категориями оппозиции Центру. Они уже – не оппозиция. Они – власть».
Симптомы развала, обретающего обвальный характер, можно было замечать совершенно в различных сферах. Особенно тревожила ситуация в армии. Ежедневная информация была достаточно серьезной. Как внешние, так и внутренние объективные и субъективные силы и противоречия раздирали вооруженные силы. Сведение счетов за поддержку путча или наоборот. Демократы и ортодоксальные коммунисты. Псевдопатриотизм, шовинизм и национализм. Все это вместе, помноженное на социальную и моральную незащищенность, накапливало опасный потенциал недовольства и раздоров.
Конфликты возникали даже там, где их и при желании трудно было предположить. Например, среди уважаемых мною руководителей движения участников афганской войны. Я, как мог, старался способствовать единству этого движения, его объединяющему, сдерживающему насилие потенциалу при условии держаться вне политики.
Глубокое беспокойство процессами, происходящими в церковной среде, грозящими расколом, высказывал мне при личной встрече Его Преосвященство Патриарх Алексий. Я сам попросил принять меня с тем, чтобы заверить его, что впредь КГБ не будет вмешиваться в дела церкви, ни в малейшей степени не будет использовать священнослужителей в интересах спецслужб. Копии с любых материалов из архивов КГБ, касающихся церкви, мы будем готовы передать в ее распоряжение.
На всем лежало проклятие политики раскола. Даже на благотворительных организациях (Детский фонд), даже в среде спортсменов.
Тем не менее я по-прежнему считал, что реально существующая единая экономическая, социальная, психологическая среда и объективно неизбежные интеграционные процессы не позволят нам развалиться больше, чем до уровня разумной, свободно избранной децентрализации в союзе независимых государств.
Однако я не был одинок, плохо представляя себе мощное неутолимое желание новой молодой волны политиков обрести полную свободу и независимость, свергнуть ненавистный «Кремль», стать «единоначальными правителями» новых суверенных государств.
Для того чтобы лучше понять логику этих людей, я хотел предложить читателю выдержки из одного документа.
Николай Столяров – исключительно близкий к российским демократическим кругам политик, который первым согласился пойти со мной в КГБ, но у которого не все получилось… Он часто заходил ко мне с какими-нибудь оригинальными идеями. Так было и на этот раз. Взволнованный, он положил на мой стол записку, которую я привожу с некоторыми сокращениями.
«К вопросу общеполитической ситуации (политологический анализ и прогноз).
Последние попытки Кремля реконструировать развалившееся политическое сообщество посредством нового Союзного договора обречены. РСФСР в состоянии нейтрального ожидания широкомасштабных межреспубликанских соглашений превращается в политического заложника беззубого центра.
То, что называют кризисом в российском правительстве, на самом деле является закономерным следствием инерционно долго сохраняющегося двоецентрия.
Это наконец-то отчетливо поняла часть близко стоящих к Ельцину высокопоставленных лиц из законодательных и исполнительных структур России. В лице тт. Руцкого, Бурбулиса, Козырева, Шахрая, Румянцева, Станкевича, Травкина, Полторанина, Шохина, Федорова, Лазарева и других российское самосознание обрело команду разумных его носителей. Другая, не согласная с ними часть видных российских деятелей, так или иначе связанная с кругом высокопоставленных руководителей Центра, еще не изжила в себе иллюзии относительно целесообразности сосуществования центральных и российских структур.
Сегодня ближе к истине оказываются те, которые считают, что Советский Союз был формой существования России и она не должна допустить распада своего тысячелетнего государства, а республикам, отказавшимся от СССР, предстоит самим решать, ассоциироваться ли им в новую межгосударственную сообщность или нет…
Общественное сознание РСФСР как совокупное явление сейчас готово к такому жесткому решению проблемы становления полноправно самостоятельной России. В этом Б. Н. Ельцин найдет поддержку и среди демократически настроенных масс, и среди традиционалистов. Не стоит бояться обвинения в имперских замашках России. Беря на себя ответственность за свою дальнейшую судьбу, Россия никого не притесняет. Она не зовет в свое государство другие бывшие союзные республики.
То, что сегодня зовется РСФСР, необходимо сохранить на принципах конституционной федерации. Сопротивляющийся парламент, возможно, придется обходить введением прямого президентского правления.
Сегодня по отношению к бывшим союзным республикам России объективно необходимо действовать «с позиции силы». В области экономики это можно обеспечить за счет «нефтяного и газового кранов», и опасения республиканских лидеров на сей счет не стоит рассеивать. Не исключено, что их действия в отношении Центра были так вероломны прежде всего потому, что он не обладал реальной властью над этими «кранами». России крайне необходимы и инструменты подтверждения ее достаточной мощи. Армия, органы безопасности и МВД, находящиеся на территории РСФСР, должны быть полностью переведены под юрисдикцию России. В этом плане ни у кого не останется иллюзий насчет ее бессилия.
Смена всего кабинета министров России в условиях правительственного кризиса ничего не даст, если одновременно не произойдет отказ от центральных структур власти и в массовом сознании не сменятся ориентиры и парадигма надежд…
Таким образом, России ничего не остается другого, как:
1. Взять на себя ответственность за продолжение существования на международной политической карте крепкого российского государства.
2. Затем предложить отделившимся союзным республикам действительно договориться о возможной сфере совместных новых интересов и структурах их реализации.
3. Незамедлительно перенести отношения с бывшими союзными республиками в русло международных.
Решение всех этих вопросов нельзя откладывать в долгий ящик. Не стоит бояться и обвинений в том, что данные предложения продвигают Россию к геополитическому соревнованию. А почему бы и нет, если такого рода состязание станет ведущим стимулом развития всех государств, образующихся на территории бывшего СССР. Однозначно: сегодняшний коллективный межреспубликанский центр абсолютно не в состоянии явиться таким стимулом и функционально решать стратегические задачи».
Не думаю, что это писал лично сам Столяров. Взгляды этого политика, как мне казалось, всегда отличались большей осмотрительностью.
Здесь же все ставится с ног на голову. В тот период не Россия была заложником «беззубого» центра, а центр – «в кармане» у Б. Н. Ельцина. Что здесь правда, так это то, что он (центр) «беззубый», чего никак не скажешь о Борисе Николаевиче.
Правда и то, что «СССР был формой существования России». А если это так, то кому же, как не России, оберегать эту «форму», но исключить из нее имперское содержание. Здесь же, наоборот, вся «политика» строится на имперском содержании, на силе, на угрозе «закрыть задвижку».
Проблема «двоецентрия» существовала. Но это в переходный период естественно. Властные центральные структуры должны быть заменены на координационные. А «безвластным» республиканским пора стать властью у себя в республике, не жаловаться на центр. Чего его «беззубого» бояться?
Однако проблема эта не только психологическая, кадровая или даже политическая. Это в большей степени правовая проблема. Она возникла из-за нерешенности на строгой конституционной или договорной основе вопроса о разделении полномочий между республиками и центральными органами. Этот вопрос имел и второе, российское измерение, еще более сложное.
Видеть решение проблемы в установлении прямого президентского правления, для «обхода» парламента – очередное повторяющееся заблуждение.
Никто не спорит, власть должна быть сильной. Но действия с позиции силы всегда бесперспективны, тем более при слабой, то есть не пользующейся поддержкой масс власти.
Между тем октябрь и ноябрь были для Горбачева, для Центра месяцами возобновившейся активности ради восстановления договорного так называемого «ново-огаревского процесса».
2 октября члены Политсовета, собравшись у Горбачева, главным образом обсуждали эту новую политику отдельных российских лидеров, суть которой отражена выше в записке Столярова. Но, конечно, главным идеологом этой политики был Геннадий Бурбулис. Накануне состоялась его встреча с депутатами, где были изложены эти идеи. Россия должна заявить о независимости и стать правопреемником СССР, который исчезает с политической карты мира. Депутатами высказывалась критика в адрес Б. Н. Ельцина, что после путча он упустил шанс ликвидировать Союз, взять на себя все союзные структуры. Эти политики были убеждены, что Союзный договор не нужен.
Обсуждались и другие вопросы. Юрий Лужков проинформировал, «где мы находимся с продовольствием»… Посетовали, что так и не движется нормальная предпринимательская деятельность в производственной сфере. Договорились, как запустить переговорный процесс с прибалтами. Отправили Анатолия Собчака и академика Евгения Велихова в Таджикистан…
Но главным оставался вопрос Союзного договора и соглашений между республиками. 1 октября Горбачев разослал всем членам Политического консультативного совета проект Союзного договора, «доработанный с учетом замечаний Б. Н. Ельцина и с ним согласованный». Над этим текстом и работали.
Благодаря невероятному терпению, гибкости и способности убеждать, которые проявили Г. Явлинский и М. Горбачев, благодаря твердой позиции Б. Ельцина и Н. Назарбаева 18 октября республики подписали экономическое соглашение.
Казалось бы, разум восторжествовал. По крайней мере, вспомним, как больше месяца назад Д. Бейкер, находясь под впечатлением от встреч с нашими лидерами, говорил об этом соглашении как о вопросе решенном и как о том стержне, который всех объединит. Я был согласен с ним, но мою оговорку, что в нашей ситуации экономика и здравый смысл могут быть принесены в жертву политическим целям, он, как мне показалось, не воспринял. Хотя, может быть, я что-то не понял…
Тем не менее 18 октября я радовался вместе со всеми… Тем более что работа по согласованию нового текста Союзного договора шла достаточно успешно. И некоторые лидеры республик, в частности Назарбаев, шли в вопросе о сохранении общих координационных и управленческих структур даже дальше самого Горбачева.
Как частный аргумент в пользу Союза я расценил и единодушное создание на Госсовете вместо КГБ принципиально новой Межреспубликанской службы безопасности, основанной на принципах не команд, а сотрудничестве, координации. У меня начали отлаживаться контакты с республиками. Очень полезными они были с Россией. Проблемами межреспубликанских, межнациональных отношений, как мне представляется, разумно и взвешенно здесь занималась Галина Старовойтова. Обмен информацией с ней еще раз продемонстрировал, что зачастую российские политики склонны руководствоваться не документами, не истинным положением дел, а эмоциями, почерпнутыми из средств массовой информации.
Очередная запущенная «нашими» телесекундная утка, например, по поводу агентуры, якобы переданной Бакатиным эстонцам, сразу вызывает вполне понятное возмущение в политических кругах, способствует усилению настроений побыстрее избавиться от этого «вредного» Центра. Г. Старовойтову я никогда к таким политикам не относил и не отношу. Прежде чем «возмущаться», она считает необходимым выслушать «вторую» сторону.
1 ноября было очередное заседание Политсовета. Разговор о том, что Ельцин за Союз, что Назарбаев прислал свой вариант 5-й статьи, где более четко трактует обязанности и права Центра. О том, что надо всемерно поддерживать Ельцина. Опять сетовали, что нет ни у кого механизмов влияния на процессы. А некоторые говорили о близком приходе диктатуры. Экономической программы у россиян и республик нет. В этом жестокая реальность.
Тем не менее в ноябре все по-прежнему исходили из того, что у Союза или Содружества были шансы на выживание. Идея сохранения межреспубликанского единства в какой-то форме не вызывала открытых возражений у лидеров республик. Она продолжала пользоваться широкой общественной поддержкой.
27 ноября, менее чем за десять дней до исчезновения СССР, были опубликованы результаты опроса, проведенного Фондом социально-политических исследований, которые показали, что по сравнению с 17 марта, когда 73 процента граждан на референдуме проголосовали за сохранение Союза, настроения избирателей практически не изменились. По данным опроса, в городах РСФСР, Казахстана и Украины за Союз высказались 75 процентов ответивших. В Москве число его сторонников возросло с 50 до 81 процента, в Киеве – с 45 до 60 процентов.
11 ноября на заседании Госсовета М. Горбачев выступил перед президентами с короткой речью, в которой сквозила боль. Его трудно было узнать. Он говорил о том, что мы теряем время, являемся заложниками конъюнктурных политических страстей. Мы должны ответить людям, снять их тревогу и беспокойство. Кое-кто хочет столкнуть Центр и республики, уничтожить Центр, уничтожить Союз. Он заявил, что не держится за свое место и готов уйти. Но пришло время занимать позицию. Предложил не разъезжаться, пока не договоримся.
14 ноября в Ново-Огарево участники заседания Госсовета СССР в принципе согласовали текст Договора о Союзе Суверенных Государств (ССГ). В нем предусматривалось конфедеративное устройство Союза, всенародное избрание Президента ССГ, принцип двойного суверенитета – и Союза, и образующих его республик – при наделении республик статусом полноправных субъектов международного права, сохранение союзного правительства и единства вооруженных сил. Предполагалось, что текст Договора в сочетании с принятой на сентябрьском Съезде народных депутатов Декларацией прав человека станут достаточной заменой Конституции СССР, надобность в которой, таким образом, отпадет. Теперь предстояла окончательная редакция документа, его обсуждение в парламентах республик и еще одно рассмотрение Госсоветом.
Мне довелось присутствовать на этом ново-огаревском заседании, которое состоялось 25 ноября.
К двенадцати часам собрались в старинном особняке, расположенном в красивом парке в Подмосковье. Было ожидание чего-то значительного. Много журналистов, с которыми, правда, обращались, на мой взгляд, не очень цивилизованно…
Горбачев сразу предложил простую схему – идти по тексту.
Ельцин, который сидел рядом с ним, подал короткую реплику, что, мол, к сожалению, в тексте появились какие-то новые формулировки, о которых мы не договаривались.
Горбачев мягко на это среагировал: ««Ну ничего… Дойдем до них… Обсудим… Итак ССГ. Ни у кого не возникает?» «Возникло» у кого-то СЕАР (Союз евроазиатских республик), но отвергли.
Ельцин снова настаивал на том, чтобы вернуться к началу обсуждения. Он говорит, что речь должна идти не о конфедеративном демократическом государстве, а о Конфедерации демократических государств.
Горбачев: «Не вижу смысла…»
Борис Николаевич говорит, что тогда он при парафировании подложит протокольное заявление…
Михаил Сергеевич: «… это бессмыслица»…
Ельцин не соглашается с такой оценкой и говорит, что Верховный Совет России не утвердит договор.
Горбачев говорит, что утвердит, и начинает вспоминать, как он был в Иркутске и как народ за Союз…
А я вспомнил другое. Как еще совсем недавно все хотели подписать новый Союзный договор на конфедеративной основе, а Михаил Сергеевич вместе с Лукьяновым сопротивлялся этому. Ни в коем случае. Только федерация! Мы еще не жили в федерации. Поживем, а там видно будет…
Но так и не пожили… Теперь уже и Конфедеративное государство не устраивает новых лидеров…
На этом историческом заседании М. Горбачев еще раз попытался сохранить ту пусть символическую, шаткую, но конструкцию единого государства государств, которую, казалось, ему удалось создать на обломках партийно-государственного тоталитаризма. Однако Госсовет так и не парафировал Союзный договор. Вместо этого он был направлен Верховным Советам государств, выражавшим желание образовать новый Союз, которым предстояло обсудить его и вынести решение – одобрить или отклонить. Открытый для «творческого усовершенствования» проект отправлялся в непредсказуемое парламентское плавание, откуда он мог уже не вернуться. И не вернулся.
На заседании 25 ноября я взял слово только один раз, чтобы задать руководителям республик «свой» вопрос о том, каким им видится будущее структур безопасности. Мнение всех присутствовавших президентов и председателей Верховных Советов было однозначным: межреспубликанские органы безопасности следует обязательно сохранить. МСБ, Центральная служба разведки, пограничники и другие отпочковавшиеся от КГБ структуры найдут достойное место в будущем Союза. На том и расстались.
Последнее в истории заседание Государственного совета СССР состоялось 27 ноября в составе руководителей пяти республик. Рассматривался только один вопрос – об обострившейся ситуации в отношениях между Азербайджаном и Арменией, сложившейся в связи с упоминавшейся катастрофой азербайджанского вертолета.
Больше Госсовет не собирался.
Итоги провала ново-огаревского совещания 29 ноября были обсуждены на очередном Политсовете. Но что это меняло?
Да, все согласны, что если год назад по логике впереди ставили экономическое соглашение, то теперь все – и экономика в том числе – упирается в политический союз.
Надо твердо стоять на позиции Союз – государство.
Конечно, справедливы волнения в связи с Украиной. Что ж это за Союз без Украины?
Михаил Сергеевич удивлялся метаморфозе Бориса Николаевича, возмущался его госсоветником Сергеем Шахраем, который «за унитарную Россию, но за развал Союза»… Очевидно, что мы опять имеем дело с колебаниями российских лидеров. Как они не понимают, что по мере обострения межреспубликанских взаимоотношений нужда в Союзе возрастает… Но они не понимали… Что делать? Заниматься жизненно насущными вопросами. Опять продовольствие. Опять предпринимательство. Резервы и т. п.
Поскольку президенты во власти сиюминутных ситуаций, опираться необходимо на другие силы. Парламенты, общественные движения, интеллигенцию, автономии.
Очевидно, что российские политики приняли решение. Они играют свою игру. Колебание не в цели, а в тактике. Как убрать Центр, то есть Союз. Но они пока боятся открыто сказать об этом народу. Помимо прямой ликвидации Союза предполагается тактика постепенного перерезания всех кровеносных сосудов союзного руководства. Председатель Госбанка Геращенко уже требует от Президента «письменных указаний», но и их не исполняет. Союз умрет сам, а Россия выйдет на сцену правопреемницей.
К экономическим реформам Россия не готова. Программы нет. Захватом союзных структур думают получить выигрыш времени и политический выигрыш. Однако это проигрышная для России политика. В то же время критика Центром России на руку России. Но в итоге демократия, не справившись с возложенной на нее ролью и не оправдав ожиданий народа, потеряет его поддержку и к власти придет фашизм с «социалистическим» лицом.
Бюрократизма, неразберихи и привилегий стало больше. Суета. Коррупция. Никто ничего не решает, ни до кого не дозвонишься, но каждый требует телефон в автомобиль.
Публично выступать бесполезно. Будет обратная реакция. Но крутой разговор, без огласки, с точками над «i» необходим. Или союзное государство, или всем уходить. Коллективная отставка.
Последний разговор обреченных политиков обреченного государства, доставшегося им в наследство из прошлого. Государства, оказавшегося неспособным преодолеть это прошлое в себе иначе, как ценой собственного разрушения.