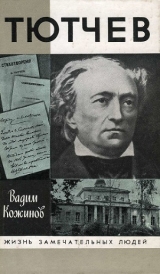
Текст книги "Тютчев"
Автор книги: Вадим Кожинов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 36 страниц)
…видел Полонского… Он в восторге от Овстуга и от своего пребывания у вас и жалеет только, что оно не продлилось недели и месяцы. Слушая его рассказы, я испытывал некоторую, даже большую зависть. В самом деле, я чувствую каждый день как бы тоску по родине, думая об этих местах, которыми я так долго пренебрегал…»
Только в конце жизни Тютчев обрел возможность постоянно навещать Овстуг, и с 1868 года он, вплоть до начала своей предсмертной болезни, приезжал на родину каждое лето.
Быть может, с наибольшей ясностью все значение Овстуга для Тютчева выразилось в том факте, что Овстуг как бы умер вместе с поэтом. Наследники Тютчева вывезли из усадьбы все, что представляло в их глазах ценность (вплоть до паркета, сделанного из ценных пород дерева; он настелен в усадьбе Мураново), и бросили свое родовое гнездо на произвол судьбы. Дом поэта пришел в запустение и к началу первой мировой войны был разобран…
ГЛАВА ВТОРАЯ
МОСКВА
Весенний первый день лазурно-золотой
Так и пылал над праздничной Москвой…
Петербург, 1873
С самых ранних лет – не позднее чем с 1807 года – Федя Тютчев гостил и жил в Москве. Как уже говорилось, его мать выросла в доме бездетной сестры своего отца Анны Васильевны, жены графа Ф. А. Остермана. В этом доме, расположенном у Покровских ворот, в Малом Трехсвятительском переулке (ныне М. Вузовский, дом 8, во дворе), и останавливались Тютчевы, приезжая из Овстуга в Москву. В 1809 году А. В. Остерман скончалась и завещала свой дом племяннице. Но дом был, по-видимому, тесен для разросшейся семьи, Тютчевы его продали и в конце 1810 года купили другой дом поблизости, в Армянском переулке, между Маросейкой и Мясницкой (ныне – улицы Б. Хмельницкого и Кирова). Этот дом (сейчас № 11) стал вторым – после овстугского – родным домом поэта. Подрастая, Федор Тютчев все чаще проводил зимние месяцы в Москве.
Следует обратить особое внимание на местоположение дома, в котором поселились Тютчевы. Эта часть города (составлявшая всего лишь одну сотую его тогдашней площади) была подлинным культурным центром Москвы, да и в значительной мере России в целом (позднее, в 1820—1840-х годах, вторым таким центром стал район Арбата).
В этом уголке Москвы, в своего рода ромбе, сторонами которого являются Маросейка и Покровка (ныне ул. Чернышевского), Мясницкая, Старая (ныне ул. К. Маркса) и Новая Басманные, начиная с 1780-х годов селились крупнейшие деятели русской культуры конца XVIII – начала XIX века: Карамзин, Николай Новиков, Иван Дмитриев, поэт и директор Московского университета Херасков, его преемник на этом посту Иван Петрович Тургенев со своими впоследствии знаменитыми сыновьями Александром и Николаем, дипломат и писатель Иван Муравьев-Апостол, отец двух выдающихся декабристов, и многие другие. У этих людей постоянно бывали или даже жили не имевшие собственных домов в Москве молодые Жуковский, Батюшков и Мерзляков.
Сеть переулков вокруг расположенных в этой местности Чистых прудов, около Красных ворот (ныне – Лермонтовская площадь) и в Басманной слободе была как бы вся пронизана культурными токами. Именно здесь находились и дома, вернее, дворцы виднейших собирателей ценностей культуры: здесь жили сподвижник Ломоносова граф Иван Шувалов, князь Николай Юсулов, создавший знаменитую усадьбу Архангельское, граф Алексей Мусин-Пушкин, который открыл рукописи Лаврентьевской летописи и «Слова о полку Игореве», граф Дмитрий Бутурлин, собравший библиотеку мирового значения (которая, к несчастью, как и собрание Мусина-Пушкина, сгорела в 1812 году), граф Николай Румянцев, чьи сокровища стал? позднее основой Библиотеки, носящей ныне имя В. И. Ленина, и Музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина и т. д.
Поистине закономерно, что не где-нибудь, а именно в этом московском районе прошли детство и первые отроческие годы Пушкина. В одно время с Тютчевыми вокруг Чистых прудов и Красных ворот жили Веневитиновы и Киреевские (их дом, «привольная республика у Красных ворот», в течение ряда лет был едва ли не главным средоточием московской культурной жизни), Владимир Одоевский и Николай Языков, Грибоедов и Чаадаев, Федор Глинка и Иван Козлов. В 1814 году у самых Красных ворот родился Лермонтов.
Да и хозяин дома, который купили Тютчевы, князь Иван Гагарин, был высокообразованным человеком, постоянно общавшимся с Карамзиным, Дмитриевым, И. П. Тургеневым. Сын Ивана Гагарина, Григорий, учившийся вместе с Жуковским, стал почетным членом знаменитого литературного общества «Арзамас» (наряду с Карамзиным и Дмитриевым), а впоследствии – видным дипломатом. В 1833 году он был назначен русским посланником в Баварии, где служил тогда Тютчев. Поэт высоко ценил этого – к сожалению, недолгого (Г. И. Гагарин скончался в 1837 году) – своего начальника.
Внук Ивана Гагарина, названный также – в честь деда – Иваном, станет в 1830-х годах близким другом Тютчева и передаст его стихи для публикации в пушкинский журнал «Современник». Не чужды были Тютчеву и два других внука Гагарина – Григорий, известный художник, иллюстрировавший, в частности, сочинения Пушкина и Лермонтова, в 1860-х годах – вице-президент Академии художеств, и Сергей, впоследствии – директор московских театров.
Но все это в будущем; сейчас нам важно увидеть только, как в самом доме Тютчевых завязываются важные узлы грядущей судьбы поэта.
Дом Гагарина, построенный в 1780-е годы по проекту Казакова, достался Тютчевым потому, что в 1810 году старый князь Иван скончался; сыновья его жили в Петербурге, а для оставшихся в Москве дочерей дом был, вероятно, слишком обширен. В семье же Тютчевых к тому времени родилось пятеро детей и уже ожидали шестого. Позднее Тютчевы поселили в своем большом доме родственные семьи и даже сдавали внаем часть помещений.
Гагаринский дом, которым Тютчевы владели двадцать с лишним лет, к счастью, сохранился; в настоящее время завершается его основательная реставрация, благодаря которой он в значительной мере примет вид, присущий ему в тютчевское время. Как обитель отрочества и юности Тютчева и как звено в той культурной цепи, которая проходила в 1780—1820-х годах через городское пространство между Маросейкой и Мясницкой, дом этот является ценнейшим московским памятником.
С полной достоверностью известно, что в доме Тютчевых бывали Жуковский, Мерзляков, братья Тургеневы. Но также нет сомнения, что семья Тютчевых, подобно семье Пушкиных, была тесно вплетена в ту цепь московских семей, внутри которой в очень значительной степени сложилась великая культура 20—30-х годов XIX века. И Тютчев еще мальчиком и тем более юношей постоянно соприкасался с сосредоточенными в этом уголке Москвы людьми, зданиями, книгами, произведениями искусства, так или иначе воплощавшими в себе творчество новой русской культуры.
Но Москва была ценна и необходима для будущего поэта не только как средоточие современного культурного творчества. Мы еще со всей ясностью увидим, сколь громадное значение имела в духовной судьбе Тютчева история России, которую он позднее, в зрелые годы, понял как одно из главных, основных русел всемирной истории. И нет сомнения, что изначальная – и потому незыблемая – почва глубочайшего и безгранично широкого исторического сознания, присущего поэту, закладывалась и на знакомых еще с детских лет московских улицах и переулках, до предела насыщенных исторической памятью.
Дом Тютчева был буквально со всех сторон окружен выдающимися памятниками истории, овеянными преданиями и легендами, – памятниками, большинство из которых, увы, ныне уже не существуют.
Прямо напротив тютчевского дома, на углу Армянского и Малого Златоустинского (ныне Малый Комсомольский) переулков, находилась усыпальница боярина Артамона Матвеева, одного из крупнейших деятелей XVII века, начальника Посольского приказа. За ней, в глубине переулка, – Златоустинский монастырь, основанный Иваном III в честь своего святого – Иоанна Златоуста. Дальше проходила стена Китай-города. И если шли влево вдоль стены, выходили к церкви Всех святых на Кулишках, воздвигнутой на том месте, где войско Дмитрия Донского, в рядах которого был и Захарий Тютчев, прощалось с Москвой, уходя на Куликово поле. Если же отправлялись вдоль стены вправо – оказывались на углу Лубянки (ныне ул. Дзержинского) и Кузнецкого моста, у Введенской церкви, на паперти которой в 1611 году был ранен в бою с полчищами Лжедмитрия II князь Пожарский.
Но прогулки совершались и в другую сторону от дома – к Чистым прудам. В каких-нибудь двухстах метрах от тютчевского дома высился один из прекраснейших московских храмов – Успенья в Котельниках (на углу нынешней ул. Чернышевского и Потаповского переулка) [3]3
Это поистине великое творение зодчества, которое вдохновляло Баженова и Растрелли, было бессмысленно уничтожено в начале 1930-х годов. Д.С. Лихачев писал о церкви Успенья: «Встреча с ней меня ошеломила… вся она казалась воплощением неведомой идеи, мечтой о чем-то неслыханно прекрасном. Ее нельзя себе представить по сохранившимся фотографиям и рисункам, ее надо было видеть… Я жил под впечатлением этой встречи и позже стал заниматься древнерусской культурой именно под влиянием толчка, полученного мной тогда… Теперь на этом месте пустырь… Разве не убито в нас что-то? Разве нас не обворовали духовно?»
[Закрыть]. Тютчев увидел этот храм еще ребенком. Недалеко от него возвышается Меншикова башня, построенная знаменитейшим сподвижником Петра. Подале, за прудами, находился легендарный охотничий дворец Ивана Грозного, а еще дальше, за Садовой, – церковь Никиты Мученика, при которой обитал опасный собеседник грозного царя – Василий Блаженный (на месте древнего храма в 1751 году Ухтомский воздвиг ныне существующий).
И это только несколько из овеянных еще живыми тогда преданиями исторических памятников, окружавших дом Тютчевых, – памятников, которые поэт не мог не узнать еще в раннем отрочестве. Нельзя не упомянуть и о том, что самый дом Тютчевых в Армянском переулке состоит – как это неопровержимо выяснилось в ходе его реставрации – из архитектурных напластований трех столетий! Казаков в 1780-х годах воздвигал классицистическое здание, по сути дела, как надстройку на белокаменных палатах XVI века и кирпичных галереях XVII века. Так что и внутри тютчевского дома все дышало историей. И трудно сомневаться в том, что мощное и предельно обостренное чувство Истории, определяющее и сознание, и всю деятельность зрелого Тютчева, в немалой степени зависело от прочитанных в отроческие годы страниц каменной книги Москвы.
Наконец, – о чем уже говорилось – отец Тютчева в годы отрочества и юности поэта служил смотрителем «Экспедиции Кремлевского строения», он постоянно брал сына с собой в Кремль и, конечно же, рассказывал ему о великих памятниках отечественной истории, находящихся здесь.
Из многих писем Тютчева известно, что и в зрелые годы, и даже в старости, приезжая в Москву, он каждый раз заново с удивительной силой и остротой воспринимал ее проникнутый Историей лик. В 1843 году он пишет жене из Москвы: «Больше всего мне хотелось бы показать тебе самый город в его огромном разнообразии… Как бы ты почуяла наитием то, что древние называли духом места; он реет над этим величественным нагромождением, таким разнообразным, таким живописным. Нечто мощное и невозмутимое разлито над этим городом».
Сквозь предметы, лица и события современной ему Москвы Тютчев всегда прозревал прошлое. В 1856 году он присутствовал на торжествах по случаю коронации Александра II, когда, по его словам, собралось «в залах Кремлевского дворца не то пятнадцать, не то двадцать тысяч душ», и так рассказывал о своих впечатлениях: «…должен признаться, что все это движение, весь этот блеск, все это величественное зрелище и символическая пышность… все это представляется мне сном… Вот, например, старуха Разумовская и старуха Тизенгаузен (я называю их, потому что они последние, с кем я говорил)… а в двухстах шагах от этих залитых светом зал, переполненных столь современной толпой, там, под сводами – гробницы Ивана III и Ивана IV. Если можно было бы предположить, что шум и отблеск того, что происходит в Кремле, достиг до них…»
Конечно же, такое переживание Москвы зарождалось в Тютчеве еще в самые ранние годы (в восприятии Тютчева, заключенном в этих письмах, явно сохраняется атмосфера юной непосредственности). И оно, это переживание, безмерно усилилось тем, что История во всем ее грозном величии вторглась в Москву через полтора года после того, как Тютчевы поселились в своем доме в Армянском переулке.
1812 год. Иван Аксаков писал, что Отечественная война не могла не оказать «сильного непосредственного действия на восприимчивую душу девятилетнего мальчика. Напротив, она-то, вероятно, и способствовала, по крайней мере в немалой степени, его преждевременному развитию, – что, впрочем, можно подметить почти во всем детском поколении той эпохи. Не эти ли впечатления детства как в Тютчеве, так и во всех его сверстниках-поэтах (имеются в виду, очевидно, такие ровесники Тютчева, как Языков, Хомяков, Шевырев. – В. К.) зажгли ту упорную, пламенную любовь к России, которая дышит в их поэзии и которую потом уже никакие житейские обстоятельства не были властны угасить?»
Мы не знаем подробностей жизни Тютчева в грозную годину. Иван Аксаков, много лет постоянно общавшийся с поэтом, не без горечи замечает: «Нам никогда не случалось слышать от Тютчева никаких воспоминаний об этой године…» Известно только, что при приближении наполеоновской армии к Москве Тютчевы выехали в Ярославль – туда же, куда Лев Толстой отправит своих Ростовых. И, по всей вероятности, Тютчевы испытали все то, что с присущим ему безупречным художественным чутьем воссоздал в своей эпопее Толстой.
Кстати сказать, Тютчев не сообщал «никаких воспоминаний» о своей частной, личной судьбе в 1812 году, по-видимому, не придавая своим отроческим переживаниям всеобщего значения. Но о судьбе России в Двенадцатом году он поведал со всей глубиной и мощью и в стихах, и в своей политико-философской прозе. И написанное им об Отечественной войне ясно свидетельствует, что великое испытание, выпавшее его Родине, было пережито им так цельно, так глубоко лично, как это бывает только при прямом, непосредственном восприятии исторических событий.
13 июня 1843 года, на другой день после того, как исполнился 31 год с момента вторжения наполеоновских войск в Россию, Тютчев написал своей жене Эрнестине Федоровне, предлагая ей прочитать книгу с описанием Москвы (где она еще не бывала), «чтобы, – как он говорит, – составить себе верное представление о городе, который тридцать один год назад был свидетелем похождений Наполеона и моих». Эта внешне шутливая фраза все же достаточно убедительно свидетельствует о том, что Тютчев навсегда сохранил в памяти свои «похождения» в Москве 1812 года…
В замечательном тютчевском стихотворении «Неман» (1853), воссоздающем само вторжение Наполеона в Россию, как бы воскресает изначальное, отрочески-потрясенное переживание события 12 июня:
…Победно шли его полки,
Знамена весело шумели,
На солнце искрились штыки,
Мосты под пушками гремели —
И с высоты, как некий бог,
Казалось, он парил над ними
И двигал все и все стерег
Очами чудными своими…
Лишь одного он не видал…
Не видел он, воитель дивный,
Что там, на стороне противной,
Стоял Другой– стоял и ждал…
И мимо проходила рать —
Все грозно-боевые лица,
И неизбежная Десница
Клала на них свою печать…
И так победно шли полки,
Знамена гордо развевались,
Струились молнией штыки,
И барабаны заливались…
Несметно было их число —
И в этом бесконечном строе
Едва ль десятое чело
Клеймо минуло роковое… [4]4
Речь идет о том, что лишь примерно одна десятая наполеоновского войска вернулась обратно из-за Немана.
[Закрыть]
Своего рода мифотворческое видение всемирно-исторической схватки наполеоновской армии и России завязалось, надо думать, еще в отроческом сознании, за сорок лет до создания стихотворения «Неман». Ибо вообще условием подлинно великого искусства является способность собрать воедино в творческом порыве всю полноту человеческого бытия – от детской, ничем не ограниченной свободы воображения до спокойной, уже как бы отрешенной умудренности старика.
В тридцать лет Тютчев уже смог написать:
Как грустно полусонной тенью
С изнеможением в кости,
Навстречу солнцу и движению
За новым племенем брести!..
Но он же писал, приблизившись к семидесяти годам:
Впросонках слышу я – и не могу
Вообразить такое сочетанье,
А слышу свист полозьев на снегу
И ласточки весенней щебетанье, —
воплощая поистине младенческую цельность и вольность восприятия жизни.
И всматриваясь в те слова, которые зрелый Тютчев сказал о Двенадцатом годе, можно с полным правом думать о потрясенном отроческом восприятии «роковой годины», отозвавшемся и в приведенных стихах 1853 года.
Очень характерно, что, посылая жене стихи о переходе Наполеона через Неман, Тютчев советовал, дабы «их уразуметь… вспомнить картинки, так часто попадающиеся на постоялых дворах и изображающие это событие». Ясно, что лубочное воссоздание этого события как раз и соответствовало отроческому восприятию…
…Пожар, полыхавший без малого неделю, с 3 по 8 сентября 1812 года, уничтожил 7632 из 9151 московских домов. Основная часть города, в пределах Садового кольца, сгорела почти целиком. Но тютчевский дом уцелел. И это не было случайностью. Говоря об уголке Москвы, где поселились Тютчевы, мы пока не коснулись одной его очень существенной особенности. Район между Маросейкой и Мясницкой издавна был пристанищем и иноземных посольств, и русских дипломатов. Еще в XVI веке в самом начале Мясницкой стоял Английский двор, в котором жили и торговали купцы из Лондона. Как уже было упомянуто, прямо напротив тютчевского дома находился дом начальника Посольского приказа (то есть, по-нынешнему, министра иностранных дел) при Алексее Михайловиче, Артамона Матвеева. В двух шагах на Маросейке доныне стоит усадьба Николая Румянцева, министра иностранных дел в 1807–1814 годах. По другую сторону Маросейки, в Колпачном переулке – дом Емельяна Украинцева, начальника Посольского приказа в первые годы царствования Петра Великого; в тютчевские времена в этом доме помещался знаменитый Архив коллегии иностранных дел, где поэт наверняка бывал (здесь, кстати сказать, служили многие его соученики по Московскому университету).
Словом, есть нечто символическое в том, что Тютчев, будущий дипломат, вырос в «посольском» районе Москвы. Но, помимо того, в Армянском переулке завязалась еще одна линия судьбы Тютчева, прошедшая через всю его жизнь. Именно между Маросейкой и Мясницкой с давних времен размещались представительства целого ряда народов, которые впоследствии вошли в состав России. Здесь находилось Малороссийское (Украинское) подворье, как раз и давшее название улице Маросейке (первоначально – Малоросейка); роблизости стоит и поныне дом украинского гетмана Мазепы, перебежавшего накануне Полтавской битвы к Карлу XII. В начале Мясницкой улицы в XVIII веке жил грузинский царь Вахтанг VI, вынужденный покинуть родину из-за персидских и турецких нашествий.
А в ближайшем соседстве с тютчевским домом находилось своего рода представительство армянского народа. В XVII веке Армянский переулок назывался Арта– моновским (по имени жившего здесь начальника Посольского приказа Артамона Матвеева), в XVIII веке его называли Никольским или Столповым – по стоявшей напротив тютчевского дома церкви Николы в Столпах; в самом конце XVIII – начале XIX века переулок стал зваться Армянским. Еще в середине XVIII века здесь поселился знаменитый армянский купец и общественный деятель, родоначальник прославленной семьи Л. Н. Лазарев (Лазарян). Семья Лазаревых вместе с другими, переехавшими из захваченной персами и турками родины в Россию, армянскими родами (Абамелеки, Бебутовы, Ахшарумовы, Меликовы, Аргутинские, Деляновы и др.) сыграла громадную роль в присоединении Армении к России, совершившемся в 1828 году. Но и до этого три поколения семьи Лазаревых дали России выдающихся граждан, деятелей промышленности и культуры.
Владения Лазаревых занимали большую часть нынешнего Армянского переулка; еще в 1779 году они построили здесь григорианскую церковь. Тютчевы были не просто ближайшие соседи Лазаревых, но и обрели с ними самую тесную дружбу. Через много лет, в 1854 году, Тютчев писал жене о Христофоре Лазареве, что он «давнишний друг нашей семьи… и… совершенно особенным образом расположен к нам».
Христофор Лазарев (1789–1871) – как и его братья Артемий, геройски павший в «Битве народов» под Лейпцигом, Иван, Лазарь и зять (муж сестры) Давид Абамелек – сражался с наполеоновскими захватчиками в Отечественной войне 1812 года.
Тютчев знал Христофора Лазарева с детства, а впоследствии прожил около двадцати лет в его петербургском доме на Невском проспекте. Он был также особенно дружен с племянницей (дочерью сестры) Лазарева, Анной Абамелек, известной в свое время поэтессой я переводчицей, которой посвятили восторженные стихи Пушкин, Лермонтов, Вяземский, Иван Козлов; Анна Давидовна перевела на английский язык несколько стихотворений Тютчева. В 1835 году она вышла замуж за брата Евгения Боратынского Ираклия. Шила она и после замужества у своего дяди Христофора, в одном доме с Тютчевыми. Словом, дружеские отношения с Лазаревыми и родственной им армянской семьей Абамелек Тютчев действительно пронес сквозь всю жизнь.
В том самом 1810 году, когда Тютчевы поселились в Армянском переулке, семья Лазаревых начала подготовку к строительству знаменитого впоследствии Лазаревского института восточных языков, надолго ставшего основным средоточием всей армянской культуры и внесшего большой вклад в русскую культуру (особенно в русское востоковедение). Здание института и поныне красуется в Армянском переулке (дом 2) наискосок от тютчевского дома.
Тютчев с ранних лет, без сомнения, не раз бывал и в институте, и в доме Лазаревых, и, надо думать, уже тогда зарождалось в поэте то глубокое внимание к Востоку, особенно к православному Востоку, которое так сильно выразилось позднее в его стихах и размышлениях.
Весь армянский район Москвы, о чем уже упоминалось, сохранился во время страшного пожара 1812 года. В «Материалах для истории Лазаревского института» об этом сказано: «…приближенный императора Наполеона, некто из армян, любимый мамелюк Рустан, испросил у Наполеона повеление, чтобы весь квартал, от Покровки до Мясницкой улицы, и все то, что принадлежит армянской церкви, было сохранено… для чего были повеления и военные французские караулы…»
Едва ли Наполеоном руководила особенная любовь к своему мамелюку; не следует забывать, что император намеревался, покорив Россию, идти на восток, в Индию, и ему не к чему было заранее восстанавливать против себя один из народов Закавказья. Кроме того, в тех же «Материалах» отмечено, что «усердие и бдительность некоторых пребывающих в Москве тогда армян и еще соседей (по-видимому, и тютчевских людей, остававшихся в доме. – В. К.) отвратили бедствия пожара, и тем единственно спасена была эта часть древней столицы».
И тут, вероятно, главная разгадка. Как уже говорилось, четверо Лазаревых в это самое время сражались с французами в русской армии, но «некоторые пребывающие в Москве армяне» имели возможность предстать перед оккупантами в качестве иноземцев, оберегающих свое особенное достояние.
Так или иначе дом Тютчевых – один из немногих в центральной части Москвы – уцелел, и хозяева возвратились в него из Ярославля. Кстати сказать, подмосковная усадьба Тютчевых, Троицкое, расположенная в двух шагах от Калужской дороги, по которой наполеоновские войска уходили из Москвы, была ими жестоко разорена.
Отечественная война 1812 года, во всем многообразии ее проявлений, оказала на Тютчева громадное, не могущее быть переоцененным воздействие. Она во многом определила основы его миросозерцания, его восприятия и понимания России и Европы, истории и народа, а в известном смысле даже и миропорядка в целом. П. А. Флоренский справедливо говорил о формировании тютчевского мировоззрения: «Крушение наполеоновской системы – отсюда сознание тщеты и мимолетности человеческих индивидуальных усилий и мощи неизменной природы».
Могут возразить, что Тютчев был слишком мал, чтобы по-настоящему воспринять трагедию и героику Отечественной войны; как уже говорилось, он никогда но рассказывал о своих переживаниях этого времени. Но сохранились воспоминания (изданные единственный раз за границей сто лет назад, в 1884 году) человека одного поколения с Тютчевым, А. И. Кошелева, видного впоследствии общественного деятеля. Кошелев был к тому же в начале 1820-х годов участником тех же самых юношеских кружков, что и Тютчев, и знал его лично.
Кошелев передал воспоминания своего детства так: «…в день вступления Наполеона в Москву мы выехали из подмосковной и направились на г. Коломну… Большая дорога от Бронниц до Коломны была загружена экипажами, подводами, пешими, которые медленно тянулись из белокаменной. Грусть была на всех лицах; разговоров почти не было слышно; мертвое безмолвье сопровождало это грустное передвижение… Воспоминание об этом – не скажу путешествии – о странном, грустном передвижении живо сохранилось в моей памяти и оставило во мне тяжелое впечатление.
В Коломне мы не могли оставаться, как потому что негде было жить, так и потому, что мародеры французские показывались уже между Бронницами и Коломною. По получении известий о московских пожарах, отец мой решился ехать в Тамбов, где… жил родной его брат. Из Коломны опять почти все разом тронулись, и на перевозе через Оку была страшная давка, толкотня и ужасный безпорядок. Во все время нашего переезда до Тамбова слухам, россказням не было конца; казалось, что Наполеон идет по нашим пятам. В Тамбове мы, наконец, поселились как должно; и тут матушка и сестра мои выучили меня читать и писать по-русски. Помню, мне было ужасно досадно, что меня не пускали в армию, и я постоянно спрашивал у матери: скоро ли мне можно будет идти на Бонапарта?
Из пребывания нашего в Тамбове осталась у меня в памяти вначале общая грусть, причиненная успехами Наполеона, а впоследствии – общая радость при получении известия об отступлении, а потом о поражении и бегстве врага. В декабре, мы возвратились в нашу подмосковную, где в доме, подвалах, сараях и пр. нашли все разграбленным…
Весною отец и мать поехали в Москву и меня взяли с собою. Обгорелые стены каменных домов; одинокие трубы, стоявшие на местах, где были деревянные строения; пустыри и люди, бродящие по ним, – все это меня так поразило, что доселе сохраняю об этом живое воспоминание».
Нет сомнения, что Тютчев, который был двумя с половиной годами старше Кошелева, пережил все это еще более сильно и глубоко.
Стоит вспомнить, что дорога из Москвы в Ярославль, по которой в 1812 году двигалась семья Тютчевых, проходит через Троице-Сергиеву лавру, где в 1380 году Дмитрий Донской принял благословение Сергия Радонежского на Куликовскую битву, через Переяславль-Залесский – родину Александра Невского, через Ростов Великий… В грозовом свете Отечественной войны, без сомнения, с особенной силой засияла перед отроком Тютчевым историческая память, воплощенная в башнях и соборах этих городов. Той же дорогой Тютчевы возвращались в Москву, что было, вероятнее всего, в конце ноября 1812 года, после получения известий о сокрушительном разгроме наполеоновской армии при Березине (16 ноября). 28 ноября были именины Феди, названного в честь умершего в этот день в 1394 году выдающегося исторического деятеля эпохи Куликовской битвы, ставшего одним из героев «Сказания о Мамаевом побоище», – Феодора Ростовского – племянника и воспитанника Сергия Радонежского. Феодор основал Симонов монастырь в Москве, накануне Куликовской битвы стал духовником Дмитрия Донского, а с 1387 года – архиепископом Ростовским. Быть может, именно в Ростове, по дороге в Москву, встретил Федя Тютчев свои именины, и в родительских рассказах о Феодоре Ростовском предстала и слилась с сегодняшним великим испытанием полутысячелетняя даль родной истории…
Но, конечно, реальные плоды тютчевского переживания и осмысления эпопеи 1812 года созрели позже, в 1830—1840-х годах. Поэтому речь о них должна идти в соответствующих главах книги. Будем только постоянно помнить о том, что на пороге сознательной жизни Тютчев пережил великое, даже величайшее действо Истории, определившее и очень быстрое созревание, и серьезность уже в первоначальных, отроческих чувствах и стремлениях.
Вскоре после возвращения в Москву началась, так сказать, новая эпоха в жизни Феди Тютчева – годы учения. Конечно, уже и до этого времени он с помощью родителей и своего «дядьки» Хлопова приобщился к русской грамоте, начаткам западных языков, первым сведениям по истории и географии, основам христианского учения и т. д. Но теперь в дом Тютчевых на шесть лет вошел поистине замечательный наставник – Семен Егорович Раич, без которого нельзя представить себе первоначальное становление Тютчева как человека и поэта.
Впрочем, прежде чем говорить о Раиче и его роли, необходимо со всей определенностью заметить, что едва ли мог бы вырасти подлинный поэт из мальчика, который с десятилетнего возраста был без остатка погружен в книги, тетради и лекции. Годы учения Тютчева являли собой живое и полнокровное отрочество и юность, прошедшие в обширном кругу сверстников из родственных и знакомых семей, а также крестьянских детей.
До нас дошли крайне скупые сведения об этом периоде жизни будущего поэта, но все же имеется письмо, где Тютчев через тридцать лет с трогательным чувством вспоминал о детских балах, устраивавшихся в московском доме, балах, для которых его сестра Дашенька «тщательно составляла пригласительные списки». Упоминание об этом опять-таки невольно обращает нас к «Войне и миру», где воссоздан, в частности, детский бал в Москве начала XIX века. Бывали юные Тютчевы и на детских балах в доме князей Трубецких вблизи Армянского переулка, у Покровских ворот, доме в стиле пышного барокко (и сегодня украшающем Москву), получившем прозвание «комод»; на этих балах бывал и мальчик Пушкин.
Сохранились свидетельства о том, что Тютчевы жили в Москве по присущим ей бытовым канонам – жили открыто, широко, хлебосольно. Семья целиком предавалась ритуалам праздников, крестин, свадеб, именин. Тем более что в просторном тютчевском доме всегда обитало, как уже говорилось, множество родственников, гостей, жильцов.
Вошедший в дом Тютчевых С. Е. Раич (до этого он, кстати сказать, два года был домашним учителем в семьях сестер отца поэта – А. Н. Надоржинской и Н. Н. Шереметевой) ни в коей мере не стеснял отроческой свободы своего воспитанника; он был человеком живого и открытого характера, чуждого какого-либо педантизма. Вообще можно с большими основаниями утверждать, что Семен Егорович оказался своего рода идеальным наставником будущего поэта. Особенно существенным моментом явилось то, что Раич, будучи всего на одиннадцать лет старше своего воспитанника, развивался и обретал зрелость вместе, заодно с ним.
Семен Егорович родился в 1792 году в селе Рай-Высокое недалеко от Орла, в семье местного иерея Е. Н. Амфитеатрова. Его ждал традиционный путь сына священника. К восемнадцати годам он окончил Орловскую духовную семинарию (в городе Севске), где, согласно обычаю, взял себе новую фамилию – явно по названию родного села – Раич. Стоит отметить, что старший брат Семена Егоровича, триумфально пройдя по тому же пути, достиг сана митрополита (Киевского). Но Раич, отчасти в силу рано зародившейся страсти к поэзии (он уже в семинарии постоянно сочинял стихи), отчасти по причине слабого здоровья, которое было несовместимо с напряжением повседневных церковных служб, после окончания Орловской семинарии стал канцеляристом в суде подмосковного города Рузы, а вскоре решил избрать поприще домашнего учителя и одновременно готовиться к поступлению в Московский университет.








